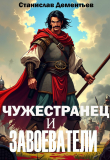Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Далее – первый диалог Корнелиуса и Полины:
– Ты взошел в кустах вместо розы? И рядом со мной тебе привиделся дымящийся проходимец? У меня – тьмы знакомых, и каждый хоть раз да был проходимцем. А большинство – и осталось! – и Полина удивлена. – Клюющийся куст не пустил тебя наутек! – и в ответ на смятенное бормотание: ни слова! Ни слова… – Ты любишь немое кино?
И Корнелиус, скрипя косичкой, проводит в ветвящийся пункт – стихийное, превращает в корзину для мячей, в лисий перекресток – розу лис… изрешечивает экседру – множеством пробелов. И новая примета: кто пророс – из ремесла смеха и развеивает свое присутствие на глазах? Слиться со светом – и исчезнуть во тьме, все для забавы – он не участвует в человеках всерьез и никогда не относится к чему-то тепло… несерьезный наблюдатель.
– Ну? К нашим порокам он относится тепло и с большим участием. Наблюдатель ты, – напоминает Полина. – С чего ты взял, что он таков, – ты стоишь под моим окном часами? Ты мог бы разбирать пух и свивать Нить Полины, уводящую в нети…
– Ваше окно было – знак: все кончено! Миг – и пришествие вещей сорвется…
– Сорвалось? – спрашивает Полина.
– Возможно, если б вы назвали – третьего…
– Ах, главные лица у нас в руках: первый – ты, в насаждениях случайности. Вторая – я, смиренно вывязывая нечто… А третья величина, столь же дутая – твой мяч! Я думаю, солнце садилось – и тени потянулись прочь от тел. И моя грациозная тень, она же – душа, росла, как хмель, по омраченной раме… Моя душа стояла рядом со мной.
И с надеждой – Корнелиус:
– Я не видел его в вашей свите – прежде…
– И не увидишь. Ни ты – и никто… сошедших с ума от несерьезности. Как целое он уже не существует. Развеялся или… – вздох. – Солнце в финале удушало день – гарротой зари, и тени выбрасывались из подожженных тел… Возможно сравнение с мавром. Увы, я так и не догадалась, кто виднелся у моего плеча. Не была ли то – игра света?
И Полина бередит красной спицей пух.
– А теперь я предамся воспоминаниям над пухом и прахом. Лето Роковых Совпадений, – объявляет Полина. – Когда некто, в испарине… понемногу испаряясь, вкатывал слова – на вершину времен, а они срывались к подножью – эти части великой речи, – мне исполнилось восемнадцать и я не знала о настоящем ни-че-го! Правда, странное совпадение? Ты даже слышишь скрип усилий, посторонний грохот – и не ведаешь, что это… Но, спихнув первый курс, являешься за диалектами в еще более оглохшую местность, где… я не брезгую цифрой: пять миллионов сосны и березы и сотня аборигенов, и в конце жизни – узнаешь, что эта дыра, – смеюсь… – родина знаменитого героя! Или я злоупотребляю приемом? Мы обитали в развалинах школы… сладкой жизни. Межа коридора, заваленного – мертвой мебелью, уходящей во тьму. По правую сторону – девы-лани. По левую – три параллельных эфеба. И, вечно путая правое с левым, – пара старух от пятого курса, отпетый надзор. Патронки сразу вскипятили себе романы, но третий отчего-то решил, что он – лишний, и, сняв варианты, существовал отрешенно. Днем мы искали… vox loci, genius loci? Сборщики косноязычия… фланируя по глиняной дороге, подводящей – к подвигам, и затаптывая ее. А вечером левые вливались в ликование – о зреющих виноградах в несметных землях. Трубили охотничьи рога. Давали залпы шампанским и хохотом, вступал карийон посуд и поцелуйные колокольцы… и запрещенные эмигранты голосили с магнитофона один на всю округу секрет – кого люблю, того здесь нет! Кого-то нет… кого-то, поверишь ли – жаль. Куда-то сердце мчится вдаль… И вкрадчиво – и все шире: мы на ло-доч-ке катались золотистой-золотой. Ах, не гребли, а-а целова-а-лись… А юные правые идиотки выбрасывают аншлаг невинности – и вычисляют драматургию, и строят козни. Из удовольствий жизни они освоили – два: дым и теплое пиво. И, надувшись тем и этим – проваливают в сон, чтоб чесаться от зависти, пока через коридор – поют и любят, раскалывая ночь – яйцом элитной птицы. И, опрокидывая мебель, выбрасываются – в летние звезды… изнемогая к рассвету и еле настигая – сиесту. А когда мы, наполнив глупостью день – и посетив жужжащее, гудящее лесное кладбище… стыд: кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет… под левой кладкой – костер уже зализывает распятого на вертеле агнца. И музыки, и заряжают пушки…
– А третий? – спрашивает Корнелиус.
– Какой-то третий! – говорит Полина. – Да кроме облизнувшихся путан о нем никто и не помнил, я – первая. Понимаешь? Первая – я, а не ты. Кажется, он заботливо поливал барашку чресла – соусом и подбрасывал под крестец – огонь, а куда-нибудь – лед… А третий смеялся – над ними и над нами! И через десять лет – хранил для дряни мои гримаски и высоконравственные репризы. Он-то слышал, как бушуют на пике – пред низвержением – письмена, и что ни день – новый гул. О, знать бы, что в одних с тобой захолустных обстоятельствах – почти касаясь плечом… Знать – сразу с происходящим! Лучше – заранее. А не теперь, когда – прошло сквозь мир… Все, что ты видишь, – для того, чтоб после – рыдать над собственной слепотой и посыпать голову блестками позора. Блест-ка-ми. Ну, как – этюд с третьим участником?
– Значит, с вами в окне был он? – спрашивает Корнелиус.
– И с третьим, и с двадцать третьим гостем я могла подойти к свету – примерить на него то, что вяжу. Ты считаешь от шиповника, а я – от распятого на вертеле… – говорит Полина. – А может – тот, что всегда был третьим от меня – вечно кто-то между! – в одном регулярном… я не уверена – это высший класс или декорация пьесы «Столы и стулья»? Вообрази – день за днем ты входишь в эту декорацию. Опаздывая, бежишь от метро два квартала, срезаешь время через двор и выскакиваешь в середину Гулкого переулка, выуживающего из окружения – свое полукружье, стремительно ускользая за угол. И поскольку каждый дом заслоняет – судьбу, зато на версту разверстан стук твоих каблуков, тебя может подкараулить убийца… бр-р, никогда не забуду мой рисковый аллюр – под пулями белых и изумрудных мух… прорыв к счастью! – подмигивает Полина. – Дым, дым, много крика, много солнца – и дым… Так сеют: неувядаемо и незыблемо. Но однажды привычно стучишь копытами по кривой и предвкушаешь… и тебя в самом деле подкарауливают! Роскошник-соблазнитель, собственный страх – или Эриманфский вепрь… суть одна. И клянется, что там – ни щепотки! Позвольте, что вы приняли за счастье?! Иссечь из выражения! Но когда я отсыпаю товар – от тебя всегда что-то нужно, он меняет версию: детка, зачем же священнодействовать?! Незыблемое сворачивается в ноль – не успеешь прослезиться. Черта ночи – и… Возможно, его уста бездонны. Не пустить ли наши мелочи – на шампанское, дабы скрасить потерю и возгласить тост: ну его к черту – утомительный эмоциональный подъем! Ты так одушевлен конструктивной деятельностью, – говорит Полина, – а некто – неучаствующий… неверный, как дым, смотрит на тебя – и на его лице вдруг восходит непоправимая усмешка. Ибо если даже фигуры пересядут с ветки на ветку… В общем, создается впечатление, что он знает – почем то и это событие: их истинную цену – и переплатит только смехом. Как хорошо, что есть – тот, кто знает… Хао.
– Когда я не слышу… хулы – или ни слова правды, я вспыхиваю, как роза, отчего мне не встать среди сестер? – вопрошает Корнелиус.
– Хорошо: иной – и по-настоящему опаляющий. И пророчествует: выйдет счастье вам – крапивой и соляной рытвиной, и заночуют в атриуме его и на мраморных стилобатах – бабуин и еж…
Отвесный, покидающий землю июль, скоротав – скоротечные красные склоны, сорвав – строительные леса дождя, и вокруг крон и глав, награжденных подобиями августа, мерцают непросохшие нимбы. И магия нового зноя, и между рядами замерших на перекрестке автомобилей порхают бабочки. А Корнелиусу – мчаться за огненным лисом, за дымом, за чьим-то невнятым промельком и, не заметив, перескочить – надлом…
– Как лес пообносился и вогнулся в тартарары… рваная фактура – вся побита меланхолией, просвечивает наваждением, – произносит Корнелиус.
Он стоит на поляне, бывшей волейбольной площадке, забытой – под медными столбами для сетки, выжженными зурнами. И взирает на поднявшийся в воздух архипелаг листвы и хвои… и опущенные на воду весла и волнующиеся отражения мачт делят гладь на бесчисленные протоки. И нарастают гул и возмущение, и в конвульсиях осьминогого дуба вдруг проступает – дурнота мельницы, и сейчас пойдут тяжелые жернова… А из-за стволов выходит концентрический ветер – един в кругах и раскачивает бессчетные торцы полуобернувшегося к Корнелиусу леса, рвет кетгут и лигатуру, выворачивает листву с четырех углов, извергая – седину, кипящее олово… заливая кипящей известью… Был золотой лес, а стал оловянный? – констатирует Корнелиус. И, подхватив взлетевшую, отложившуюся от косицы панаму, усмиряя плещущие одежды, вопрошает: о, где и какие я должен принести жертвы, чтобы… чтобы…
И второй диалог Корнелиуса и Полины.
– Значит, ты встретил несуществующего? – уточняет Полина. – Просто и улично. Надеюсь, ты не мостишь свое недоразумение – к моему окну?
И Корнелиус, глядя в дол, в отчетливый отступ вероятности, заполнение объема – пробегом муругих стволов, опыленной пунцовой метелью семян… и кто способен, сев времени провидя, сказать, чьи семена взойдут, чьи – нет…
– Готов поклясться, что это был тот… кого я видел с вами в раме.
– Почему бы не Тот? Не было ли на встречном крылатых сандалий? Бог обманщиков, проводник – в царство теней. Тебе вряд ли стоит за ним стремиться.
И пауза, ветер. Хруст песка на дороге – как треск сдвигаемой каретки…
– Итак, ты любишь кино… – говорит Полина. – Представь: тебе разнуздали возвышенную сцену – горный пленэр, молодые мехи, узость кости. Но самое пряное легализуют – за кадром, точнее – в твоем воображении, так дешевле. Да – все, что ты подозревал, и еще убедительнее – никаких послаблений! Но ты застаешь – уже облачающихся в глуховатую haute couture. И с натянутой медлительностью – в разрядку с капитуляцией – герой заклеивает последний башмак. И вот прекрасные любовники спускаются на журавлиных ногах – меж кустиков в мелком цвету греха, навстречу ветру, треплющему их чувство. И бездна неба над головой… ах, просто захватывает дух! Падает сердце – от их ослепительных голливудских улыбок! Но моя фантазия – не в пример твоей… – вздыхает Полина. – И я вижу, что актеры насквозь безразличны друг другу, и в глазах у них – отъезжающая операторская тележка. А может, крупный план взят трансфокатором… режиссер с сигарой, звукарь и табун ассистентов, плюс – шеренга зевак за натянутой веревкой… И чтобы одарить тебя – несдержанной ситуацией, актеру понадобилось – сесть перед камерой и стащить башмак. И пройти им предстоит – три ублюдочных метра. А если что-то произошло, то – в тебе самом, а вне сих священных пределов – одно ничего, имущество печали…
– Но ведь я его встретил! – упрямец, упрямец Корнелиус.
– Исполнителя, марионетку? И ты бежишь за ним и кричишь – это он, я узнал его! То же лицо и резкий голос, черты и члены, объемы, отъемы… а где – та же душа? Явно продал Дьяволу! – говорит Полина. – Ты наблюдал из шиповника – окно, и в нем – пара бездельников полощут на ветру языки. Правда, не так отборны, как те красавцы. Но можно ли допустить между ними – лишь ветер? При насаженных тут и там красных фильтрах, а наблюдатель – юн и романтичен! И ты пытаешь меня: кто тот болтун, что был со мной? И что случилось с нами раньше – и что отложено на потом? А я отвечаю незатейливо, как тот опытник: мир, в котором ты существуешь, создан – для тебя, и мы стараемся – о тебе. Так что и раньше, и в грядущем, и у тебя на глазах – между нами корноухий сценарий, создатель – он же постановщик, камера… или дозорный пост в кустах… в общем, похожая компания. И какой-нибудь комедиант на третьи роли, возможно, по случаю – сын создателя. Нам командуют – эпизод такой-то: Сцена у окна. Внимание, Корнелиус приблизился к шиповнику. Начали!.. – и я подхватываю пуховое вязание, красные спицы, и мы с партнером встаем в раскрытой раме. И поскольку наблюдатель глух – к нуждам обменивающихся словами… не слышит оных, здесь прольются музыкальная тема и шум травы – нам позволено нести отсебятину: классическую дребедень, хоть прозекторские сводки синоптиков о работе над вскрытием рек – или анекдоты про японского бандита с отверткой. Лишь бы чтить основную эмоцию. А потом команда: – Стоп! Корнелиус вышел из кустов. Спасибо, все свободны… – и мы выходим из декорации. Отправляясь – каждый в свою жизнь.
– И все? – произносит Корнелиус. И высматривая с подоконника мяч где-нибудь в траве: – И отчаяние сводит скулы…
– Они отлично доказали свое бессилие и полную непригодность к жизни тем, что умерли, – говорит Полина. – Последняя фраза, которую не услышит свидетель. Возможно, ему уготовано что-то менее скучное. День гнева, что развеет в золе земное. Dies irae, dies illa…
воскресный четверг
Меня преследует навязчивый сюжет: кто-то ждет гостя, который не знает дороги в дом, где его ждут. А ждут из окна и смотрят неотрывно в даль – не отрывая дом от дали, не скатывая пустую дорогу, которой гость не знает, а выспросить пустую дорогу он не догадывается, поскольку не знает, что его ждут. И пока его ждут, он живет. И забыл, что чем больше живет, тем меньше осталось. И у тех, ожидающих, – тоже все меньше ожидания, потому что гость живет много. И из-за угла уже высматривает гостя длинноклювое никогда. А тогда, позвольте, какой он гость, если никогда им не будет? А бывает же он в гостях в других домах, потому и гость. Или ждут письмо, которое никогда не придет, потому что оно даже не написано. Мне приходилось ждать ненаписанное письмо или гостя, у которого вместо моего адреса – чистая страница, и пусть бы чистая, да в том и беда, что там написан другой адрес. И беда в том, что мне кажется – по написанному адресу гостя ждут меньше, чем я, а там ждут не меньше. Но они дождутся, а я не дождусь.
И я уступаю дело моему герою Нупсу, а с меня довольно. Пусть ждет, а я над ним посмеюсь. Но поскольку это другой, а не я, он-то наверняка дождется! А мне – бесноваться от зависти и колоть исподтишка шилом чертово перепоручительство… Так и есть – через полтора месяца Нупс получит письмо. Но Нупс не имя, а обрезание, свертывание молока в сливки, означающее: Клоун Полу-Синий, но «клоун» прочитано наоборот, и тем, кто так прочитал, Нупс и кажется, наоборот, трагической фигурой, а П и С я помню неточно, возможно – не Полу-Синий, а Пронзительно-Сумасшедший, или ему кажется, что он – Сине-Полый, потому что он – Полу… или автору кажется – и так далее. Короче – суть в конверте, ожидаемом полтора месяца – не срок, а блажь, и в том, что дни имеют разную длину.
Бывают – длинные, как цирковая бочка под ногами, и вместо публики – лето в очках, а в очках – еще одно лето, и пахнет красной медуницей, даже если она – полузолотая и полубелая, но краски – красные, и пахнет морским побережьем – мокрые полотенца вдали на веревке очень влиятельны… И мчишься по бочке солнца, пока не сожжешь пятки, – о какие длинные неуловимые дни! Какие увертливые заброшенные утром в утро, а ночь счищаешь с чешуей запятых… И бывают – карцер в пять шагов, в каждом шагу – мыши, запеченные в черствые горбушки, а над ними курганы из окурков, и над каждым курганом – разбитое светило, а под каждой мышью в горбушке… что тут скажешь? Здравствуй, прекрасное завтра, паутина из ноздри.
Когда по зеленой доске вечера сползает гадкое, ворсистое 8 и, увертываясь от булавы стрелки, делится пополам и лелеет талию, а Нупс следит за ним, не мигая, – тогда… если тогда остаться в дому, что? Вдоль по околотку, от половинчатой двери до целого окна, от половика до непроглядной Французской Ривьеры – вкручивать разбитые лампочки и самому сиять, отлакированному стенами. Просмотреть телевизор насквозь, до соседского дивана, и допосвятить себя – благому, домушному: укрывать чадо снами, подтыкать и под него прекрасное завтра, беседовать беседованные беседы с женой, тщательно пережевывать мирные цели, и тоже – рывком в сны, чтоб подкапывать Триумфальную арку Бессонницы до утреннего гимна, вышлепывать змеей в кухню, разевать на кастрюли распиленный язык, выбирать, которую укусить…
А ведь можно оставшийся остаток дня разогнать – золотой бочкой, золотые опилки лета веером! Поманить из гардеробчика кеглю с коньяком, двухнедельную, сопревшую, заманить на бочку, и самому – скок за святой водицей: но-о, в разлив! И Нупс еще вчера собирался, но предвидел: вдруг назавтра ему – совсем чехол, и не ошибся, а назавтра чуял – что напослезавтра… а перспектива открутилась. Но подкараулил его четверг, четверг-зубами-щелк, и защелкнул! И что? Претвориться вермишелью, проскользнуть сквозь четверговы клыки – в пятницу? Там детектив на соседском диване, там кубок Европы, то ли шахматный, то ли матовый… но за кубком – кубарем – выходные! Два дня – в дому, как единственный кубок на зуб Европе, как Европа на одном быку… Дом, вытягивающий из Нупса смысл сквозь соломинку, выпарывающий наметку ума по белой ниточке… и надобно пережить четверг для этих радуг, но скорее – четверг переживет Нупса. Ведь Нупс – что, сколько в день он длился? Пять часов по карцеру, и в полпервого умирал, а обратно воскресал к рассветному гимну, выходил из Триумфальной арки посиять нотой до, покрутить носом, а в полпервого – назад. В час, когда домой приносят почту, и могут – письмо, санкцию на жизнь, а могут и нет. И Нупс томился в работе до полпервого, и вдруг догадывался: почту принесли, а письмо не захватили. Если сдашься надежде, так протянешь до шести – и только в шесть умрешь. И нестись ему с работы семимильным юзом, трепетать жабрами перемен, лопаться смолистыми почками, клокотать медным пищеводом и следить, кто за кошка дорогу перешла: местком переплыл, или червь переполз, или птеродактиль в дактиле – все к смерти. И взлететь к почтовым ящикам – прыгуном с шестом, на сучковатой своей надежде, и только тут, в шесть – спиной в ящик. Можно, можно, да только какой-то голос, ехидна утробная, еже-полпервого выкручивался из Нупса штопором и объявлял: капец, закрылось письмишко, как твой умишко. И хотя Нупс не до конца верил, надежду выкряхтывал – да знал: опять правдив, как пуля. И все равно бежал-летел-не-здоровался, и топтал в ярости улицу, если нет автобуса, а автобус щипал Нупса дружным, спаянным коллективом пассажиров, ставил сумки в Нупсову спину, как в багаж, душил поручнями, разминировал нос – минтаем из ста мешков. Тут и покойницкое терпение взвоет уголовной сиреной! Так бежал – как ненавидел дом, куда бежал, опять явится в длинный, как забой, вечер – а навстречу четыре стены: развлекаться Нупсом в кости, перекатывать по углам, брезговать лоскутами меж ребрами, брать выигрыш – на латыни… А пуще, чем дом, чем автобус-рыбный-поручень, ненавидел Нупс Нупса – ведь отчеканено ему было: нет письма, высыпано конторской известкой, а летел, прыгал, простирал к ящику члены… и получал газету за труды: на, читай, начинай одно, дочитывай – другим, я твоя, командор! Одна газета, одна, одна… и тащился к себе, а останки свои оставлял у ящиков, забывал подобрать мощи, подмести на площадке, бестелый, бесполый – и хулил и полое, и набитое, сквозь письма не проскользнуть, с каждого в день десять писем дерут, и зарплату сыплют письмами… Но уже примерно в два, в три ночи, кукуя в кухне над книжными листьями, Нупс опять постепенно сползался – заводил опорно-двигательный агрегат, и пальцы резались, и нос набирал крен, и другие кое-какие детали в натуральный масштаб и похожего цвета: новый день – новая почта! И хоть ясно – и сегодня не принесут, не носят, когда так ждешь, раззявили изумление, чмокают восхищением, а обязанности по боку! Ясно… а целое утро – наслаждайся собственным составом, все смазано, гнется, и отверстия отверсты, знай стриги ногти, заливай в свою воронку дымный кофе и перетирай продукты – в дрянь, ах, охота, вдохновение! И надежду новенькую, хрустящую – и на стену, шаг назад, и в альбом, и скорее – в щель на затылке, руки прочь!
И так он умирал-растворялся и сотворялся из растворения полтора месяца неотлучно, как от добровольной народной дружины, а тому назад и послал – свое письмо, запустил бумерангом – в проросший из памяти город и вообще в другое число. Потому что у Нупса, так мне хочется завить сюжет, имелась тетка – фея, за три ночи от него, вот так. Родная тетя, а хоть и многоюродный дядя, но иной дядя – удав. Ну, знатный деловар, глубокий проработчик, а у Нупса тетка – фея! Фея Марковна. И она, тетя Фея, и ее пламенный мотор и стальные руки обещались – еще высевали пальмы в кадки и неисчислимую кочергу загибали по моде – родительным падежом, еще тогда – исполнить Нупсу заветное желание. Да не сейчас – не промотал бы на золотую шайбу, и не в школьные годы чудесные: протрюхает – на расположение флюгарки с совместной парты, на тройку за двойку – и чтоб педагогическая среда от испуга скушала друг друга, ведь изловчится, все всмятку загадает – глаза-то бегают. Вот обернется могучим дубом, зашелестит, разбросит – тогда и будь по-твоему. И Нупс, как повелели, надулся, выпростался из средней школы, из среднего института – и вдруг думает: мне, думает, профильному древу великих равнин, безнравственно – стряпать из тети Феи мое желание, да еще – одно, вот кабы три или семь, а тут и пачкаться не стоит. И оставшееся среднее – своим горбом! – так пиджак на нем горбом, идеалы души, жгучее чувство стыда, императивы-инфинитивы… По всем закоулкам жизненного счастья с Вергилием рука об руку, бахил об сандалию, есть такой попутчик, заехал мне в ухо – и все не вытрясу.
Ну и продолжается – сам собой. Нупс Нупсом.
Например, так. Например, вы встречаете утром знакомца, с коим расстались в полночь – и вдруг обнаруживаете, что голова у него – буквально праздная борозда, а только в полночь – и колосилось, и ерепенилось. И что? Например, можно спросить:
– Ба! Ты всерьез так огорчил своих болельщиков – или пошел на погружение?
Но это те, кто прямее линейки. А игривые интересуются:
– Откуда такой кучерявый, как тутошний шелкопряд?
Та же линейка, но наоборот, а наоборот линейка тоньше.
А есть еще в жизни поэты – и рвутся наложить на пустошь новую метафору:
– Это кто там яйцевидный? Кто погасил свои эмоции? Кто нам башку наизнанку вывернул – так, что все извилины разгладились?
Это если произносить, а можно и в рот набрать что-нибудь. И уж кто взаправду тонкий, тот тактично не заметит некоторые с кем-то первобытные перемены. И заговорит – как с нечесаным, будто взгляды давно отстоялись – и от веяний момента не меняются! Только глаз – чуть в стыдливую сторону, но – чуть, а не косить гиеной, будто задняя мысль на спине висит!
Например, однажды у Нупса была подруга, и вдруг Нупсу сообщают, что подруга на сносях и вот-вот обрадует общество пополнением, а сам Нупс не замечал. И подруга ему молчок. И Нупс думает: что? Сказать, что все знает, и раскошелиться на соответствующие льготы? Но раз сама не говорит, значит – тайна, значит, не хочет, чтобы Нупс знал, значит, Нупс должен так, будто не знает, потому что – и не знал, пока незаинтересованные его не заинтересовали. И думает Нупс: а дальше что? Когда пополнение составится? И новобранца тактично не замечать, пока сама не расскажет, а вдруг до совершеннолетия не расскажет? А вдруг и после?
Ну его, Нупса – в теснине сомнений, но – о пакостнике, что еще вчера в полночь – лохмат, как таежный маршрут, а наутро – полная эвакуация! И если кто-то пытается сказать – при такой чьей-то незатейливости, и если слеп и нем, все – что вдоль, что параллельно. А Нупс никуда не спешит и думает: какая пропасть разверзлась меж вчерашней полночью и сегодняшним утром! Сколько потрясений село на остриженного, как трагически преломилась тайна его судьбы! Какое преображение мира перелистнул Нупс с закрытыми глазами!
Вот как жил мой герой Нупс, и это достойный его пример. И однажды в городском сквере повели Нупса по аллее и привели в сказочное место: там качели и ложки на блюдце, как серебряные лодки на пруду, прыгай и плыви лодкой из пруда в море, из моря – в мировой океан, и дорожные указатели над водой висят, гаснут дневные – вспыхивают ночные, а берег пахнет красными цветами, и даже – полузолотыми, но запах – красный. И Нупс почти уплыл, но в тот день ему было некогда. А сколько потом ни вояжировал мимо сквера, и насквозь сквозь сквер и сверху – ни разу на ту аллею не попал. Чертов сквер весь, всем взводом деревьев на плацу: три шага в длину, семь в ширину, там никаких качелей, пруда-океана – там за ним дома набычились. А ведь Нупс помнит: здесь, и запах красных цветов. И помнит, кто вел – бабушка вела, и сиреневый единорог-берет, и карманы до колен: с конфетами, с яблоками… и кого встретили – соседского Вовку Дутова. А найти не может! Бабушка, я семь платьев сносил, сорок ног истоптал, где… не успел договорить, глядь – а бабушки десять лет как нет. И Вовка Дутов – незрим, как кочерга.
И вот сколько-то спустя Нупс идет откуда-то или куда-то и где-то вдруг видит: пьяный кавалер на дворе, а рядом – гулящая красавица машина «Жигули»: хорошится – то в левом осколке обзора, то в правом, то в ручьях из лопнувшей трубы… и еще кавалер, но помельче сортом. И первый пьяный – бух сандалией по струе, растоптал милашку в сырость и вопит бывшему отражению:
– И чтоб твоя сука-машина больше по жизни не ездила! – а еще кавалер, помельче сортом, тот ни при чем. Но первый ему покровительствует. И благосклонно интересуется: – У тебя деньги есть?
И Нупс почему-то знает, что деньги зашиты в кепку, но его осеняет другое: разбитной кавалер, победительный-безденежный, ведь он и есть Вовка Дутов! И не похож, хоть бурка на него насядь, – да вот он, поскольку друзей не выбирают. Но от того, что Нупс видел столько упоившихся, что – двоятся, как цифра 8, ему кажется, что он и сам – вдребезги! И не успев ничего выспросить и взять адрес, он засыпает прямо там, где шел, и там, куда. А снятся ему провидческие сны, правда, он не помнит, что, но помнит – пророческое! И когда он просыпается, он уже чувствует, что вместо снов остается с голыми руками, но еще не проснулся. И начинает в муках вспоминать, ладно, а сейчас-то он где? Где спит? У бабушки в лодке, или при столовой ложке – или на триумфе симфонической музыки? И когда проснется, кем он будет? Выхлопным прокурсистом Вовкой Дутовым – или прорабом искусств? Или падшей крепостью Измаил?
И заглядывает стеклянным глазом в щель между снами – и видит презнакомые обои в финский цветочек, семь с полтинником за клубок. И оказывается: посередине жизни – вот где проснулся, на мужской половине, а в другой комнате жена кроит платье, а бабушка – за жующей водой, между Нупсом и бабушкой – волны финских обоев, а вундеркиндер положен на музыку – и в звучной школе. И кстати, тут Нупс обнаруживает, что он полусиний, но сгоряча не обращает внимания.
А за окнами сумрак, но будто уже светает, и к дому прибило утро. И Нупс рад, что слава Богу, так скоро ночь минула, и размечает дела, туда сходить, это принести, а то пронести под плащом. И протягивает руку за часами – нет часов! Неужто экспроприировали, пока просматривал сны пророка?! Но тут Нупс слышит свой хренометр – уже прикручен, влит в руку намертво – серебряной лужей-непроливашкой. Смотрит в лужу, а там – сегодняшний вечер, скоро восемь. То есть за окнами не светает, а темнеет. И дела, отосланные в завтра, можно вернуть в сегодня. Но если отозвать, если вынуть их из завтра, то в завтра образуются такие бреши, что завтра рухнет. И завалит Нупса за валом – и не спасут. И тут Нупс покрывается от пяты до треска в затылке – тщетой, бородавчатым ознобом, сыпью, оплесками. Ведь дела его завтрашние-сегодняшние – ни самому, ни бабушке, ни секущим небо всадникам, простым и почтовым, кстати о… Но расставить бы всех пошире, загородить полорогую пустоту, перспективу упечь, а из перспективы бабушка машет сиреневой гроздью берета и коржик протягивает. Время-то круглое – от бабушки ушел и к бабушке пришел. А Нупс вредничает, косится на коржик и стаскивает вразнотык – груду дел, суматоху явлений, и жену с мечтами приставил, финские обои развесил, грамоты, горчичники… а никак, никак от коржика не спрячется. Врет, что сладкое не любит.
И заплакал Нупс в половине восьмого финских обоев – у черты, где ворсистому восемь делиться, пускаться на размножение… зарыдал, такой шлюз распустил, что мечта-жена прибежала с недокроенным платьем, но она кажется Нупсу узкой, что за уза, и шкаф навис дверцами, цыкает битыми замочными лузами, и четыре шмары-стены, и чья-то не то амурная виола, не то эолова арфа… столпились вокруг – и утешают и утирают, а главное не то, чтоб мы тебя понимали, а что у нас добрейшее сердце. А жена – полуплатье подмышкой – раздувает змеевики, гонит из пустоты лекарство пустырник. Но утешили или нет, я не помню.
Но пока все растерялись, Нупс вдруг – скок на бочку и наутек! Крутись вперед, моя затейница! А почему – на бочку, а не на поезд? А не все ли равно, если время такое же круглое, как пространство? А может, в поезде воздух комковат – и проводник сумасбродничает. А может, не боится и заскочил на поезд, но промахнулся – и на бочке. А бочка-то и есть единственное спасение! Бежишь-бежишь и не прибежишь – ни к концу, ни к началу, где конец начинается. Только бы никто не прознал, что я на бочке, только бы не… И качается с работы на работу, из ужина в ужин – как неспящая птица, мускулистая горловина, крылья блинчиком… а на самом деле – по бочке вдаль, от всего отдергивая пальцы, чтобы все не прилипло, нечего на бочку наматываться, колотить хвостом по кочкам. И от спешки – спешно прочь! Ведь если к цели не рваться – и увидишь тысячи целей: и вокруг и дальше. И не надо делать так, как надо, потому что так уже сделано.
Вот как убегает Нупс Полу-Синий все шире и выше, отклоняя виселицы вопросника, а тех, кто отвечает, остановят раньше.
И вдруг думает: а вдруг прознают и протянут руки? А не прознают – но рассохнется, распадется на досочки, расползется по юным техникам? А вдруг – бобр себе в бочке зубы выточит, и потянутся за этим прочие косточки? А вдруг – золотой ничего, а меня за нее страх съест? А вдруг… в общем, куда ни кинь, кругом холера. И Нупс мчит по бочке – мокрый, как приживальщик, ногу подволакивает… то есть и заскочить не успел, не успел мысль по просторам разметать, а тут его уже и прищучило. Да как так скоро? Что за скверный анекдот? А вот на, подавись тем, чего не бывает! И уже четверг вдали встрепенулся, стряхнул с шерсти звон, потянулся, разминается, желудок развязывает. Ах, какая нелепость, тьфу.