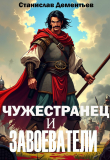Текст книги "Шествовать. Прихватить рог…"
Автор книги: Юлия Кокошко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
(Глядя на книгу П., пускает из трубки дым.)
Птицы – подозрительны и пристыженны. Поклонницы… Мамигонов все жаждал представить свою Музу – старой мамуле, это единственная фанатка его пера, но зато – супертяжеловес. Наседал, делал мольбы, распускал оцепление. И как-то мы с ночной компанией, перебрав все звездные места, решили: отчего и правда не познакомить старушку Мамигониху – с Музами? И отправились – сразу девять… (Обращается к одному из собеседников, это Аполлон.) Слушай, по-моему, старушка собаку морит. Кто-то из них на конспирации – или собака, или мамуля. Когда я увидела такую огромную плоскую собаку, такую оборзевшую стрекозу, я села рядом с ней в кухне, обняла ее шею лебедя и подавилась рыданием. Всю тварь затопила. (Недоверчиво, к Евтерпе.) Думаешь, кормит? В общем, смотрит старушка, не верит спросонок, что к Мамигонову – Музы. Руки – в чечетке, глаза размыты, прирезала нам сухофрукты на мелких тарелочках: колбасу, отсохший от души сыр, апельсин – как роман, один на всех, под лимонные колеса… А я принимаю тарелку – и всю слагаю собаке, к стрекозиным ея ногам. Вы бы видели, как собака на это добро надвинулась! Между тем, сидя на полу, прозреваю под коридорным ансамблем – большие скопления яблок, усыплены до полного дозревания и гниения. Выгоняю всю стаю веником, повышаю собаку – в голкиперы, ставлю на кухонный портал – и бью ей угловые. Надо задарить ее кубком – почти все взяла в пасть. Устали, сели опять с ней в обнимку и перешли на непойманное. Я жую, но глотаю не сама, а передоверяю – в пасть борзой… Так-то, фанатичная старушка Мамигониха…
(После паузы дыма возвращается к начатой истории.)
В общем, отозвали произведение, сколько смогли, из-под ментовских колес – сиротливые, но укатанные выдержки, и на них – следы собачьей ноги и пира, скомкали сюжетные связи и умяли – назад в Мамигонова, остальное поцеловали. Подходим к моему дому, а колесованный так и не убывает. Вечер странен и полон больных знамений, не должны ли мы его реабилитировать?.. – и методично остается при Музе. Значит, беспощадный выбор таков: или я подрежу – пишущего для недружественных букве собак, когтей, резиновых шипов, чумки… для информационной бетонки, или издатель и книгопродавец, ожидающие группу – я и водка, задуют книгопроизводство. Что ж, предлагаю Мамигонову пройти на зеленый чай – разделить богатство бутылочных оттенков со мной и с сестрой Каллиопой. А Каллиопа говорит, что о мне интересуется живущая о бок с нами Деметра, и она, несомненно, должна рожать. Вот тот непервопуток, коим находчивый да найдется! К Деметре, к Деметре!.. Я беру паузу – проведать Деметру или дымные заносы ступеней… Но, возможно, такой центровой, незатейливый выход – знамение, что и путь – в лоб? Возвращаюсь с криками: и пришло время пожинать, раскинется славное, длинное плодородие! Мамигонов, звони – сборщикам урожая, и спорым, и скорым… Гость ретив и угодлив – и, как всегда, повторяется: да, да, скоро вызовет «Скорую», сразу, как соизволят, не волнуйтесь, будьте с ней… Вот это уже встающая пружина, ускорение… так что пусть обрывает провод к эскулапам, пусть выезжают на его нездоровый образ жизни и, вознагражденные, заслушают выгребки из романа…
Здесь мы хватаем, что кому в руку: Мамигонов – телефон, а я – котомку с цилиндром, в котором запаяно сияние, и… и да, больные знамениями и книгоизданиями события в самом деле знаменовали скромность – двадцать минут.
XXXV. ПРИЗРАК ПАМЯТИ
МУЗА (в лавровом венке, на подоконнике. Рядом лежит книга П. За спиной Музы – окно с подпольем двора: кострища, жующие мусор и выдувающие – копченые пузыри бутылок… пургующие бутоны жженной шерсти, а также пунцовые кожи луж, пометив цветом – ребра ящиков и крылья пустобрюхих коробок… К собравшейся компании, но отдельные заметы – хозяину дома, в близкую кухню). Письмо, Мамигонов, благодаря своей обтекаемой, как вино, форме затопило в тебе дерзость и острые рабочие руки… Отверни ко мне эту пьянящую, как письмо, форму – щедрее, чем золотой дождь. Кстати, хлеб у всех в дому свой водится, потчуй нас дымящимся жертвенным мясом. С которым ты угодил в кучу букв! В жидкую десятку. (Бьет в книгу П., как в тамбурин.) Мамигонов, потрясенный высоким счетом, что предъявила ему Муза, разбуженный – до основы, родил смертельную бледность, смертельная выкинула – всепоглощающую белизну… эта родила нехватку ничтожной площадки лица его, ни – залить собой все его листы… Но – сорвать Мамигонова с точки, выхлопнуть в трусливую дверь и брызнуть выжигающие белила – на простор, со всего встреченного снимая цвет и пятная – его невидящим взором… Свежевать Мамигонова и напорошить его бесцветным пером – глухой январь тоски… Но и тут обошли взбеленившегося – столбовые истуканы ночи с вехой огонь – в одиночке-глазнице, а тощие чресла их шли спеленуты – в неумирающие послания от всепродавцев, где конец строки запахнул начало, чтобы чтение раскрывалось с середины, и к последнему препинанию все заново убедились, что в начале слова не существует… Снял голову со змеи, остальное – не ядовито, можно его обедать… Подаст он блюда яств – или отбеленные до мечты? (Приподымает корку книги П. и с отвращением захлопывает.) Можно ли не посыпать слезой смутный путь, принявший Мамигонова, – в грустных для января очертаниях: в непубличных, едва наметившихся одеждах и в кокарде луны… Или Муза сморозила ему счет – злее вечной мерзлоты, и он возложил на себя – грех моей непомерности и понес – в пустые равнины зимней ночи… Я решила спасти не так пошлость пера, но – невинность белизны… Прихватила Мамигоновы шкуры и колпак из нехорошего зверя и пошла обнаружить безумца – по какой-нибудь процедурной нечистоте. Но мне навстречу – живописцы места сего, столь же слеповаты, а может, в прежней жизни – весовщики и наливщики пива, и проводят в искусство – нетоварные вещи: с недовесом сторон, с недогоном краски… так же плохи, как мамигоновский наряд… на что ни наткнешься в темноте кладовой души, что ни вытащишь – для отлова зазевавшейся Музы… Так что какое-то время я вынужденно курлыкалась с жидким вернисажем, заплатанным их холстами… живопасов, затыкающих все посеченное – своим кладовским мусором, и несколько отрешила от себя скроенные из пролежней зверя платья Мамигонова. Но тут сама Мнемозина шепнула мне в забытье, что и мой приют, сейчас от меня отрешенный, посвящен – гостям! Пришлось финишировать, для скорости опираясь на куриную ножку… но уже забыв – звериные Мамигоновы спецовки в углу с неисчисленным градусом…
Известно, что место, ютящее меня на этой земле, высоко. Ничего странного, что на обратный мой путь кое-кто соскочил с ветвей власти… что многопалая рука бюрократии вдруг нашлась в одном со мной лифте. А к ней – сонмище тела, еще туже – от формы вина или от стены до стены слепившего нас подъемника. Что ни глаз, вопрос: – Рыбочка или яблочко?.. Вижу, руководство разлакомилось и решило произвести захват. Подольщалось: – Разделитесь своими эмоциями, впечатлениями… – гули-пули… ремарка из затоптанного романа: пули устремляются к объектам… Но поскольку начала не существует, я зашла с середины подъема: – Кто спорит, мне всегда хотелось вести твердую, черствую линию от лица государства. Разделите со мной портфель, который вы так длинно ловили. И тогда я всех прожую и выплюну…
АПОЛЛОН. Кто, если не я, гостил у тебя в указанный миг? Какой жующий не заметил, как ты отсутствовала меж блюд – на той малине с картинками, и ныне теряется, и глаза – пополам? Или время не властно над тобой и нами?
МУЗА. Когда я пирую, объявляет оттоптанное романное alter ego Мамигонова, я, то есть оно, везде летит метеором, у меня, то есть у буяна, в голове одно: менты, менты… Чуть зазеваешься – в секунду загребут! – конец обоих авторов. Из коих ни один, как ты, не признается в отсутствии Музы. Кстати, я заметила – все случившееся скрупулезно встает в разлитое под него время.
АПОЛЛОН (в кухню). Ау, принимающий, неси скорее – каре ягненка в имбирном седле барашка в корзине из ананаса – оторочена трюфелями и тимьяном… И зачерпни в водах пресных и в водах подсоленных, и нарви с кровоточащих зрелостью ветвей… Кстати, когда ты сыграешь мне на дудке?
МУЗА. Мамигонов не дует, а открывает свой внутренний мир – то ли в комиксах, то ли в комплексах… в общем, комплексное наследие. На дудке – потом и другие, с недоступной ему высоты. А шкуры с него я уже спустила. Но никак не могла припомнить, где оставила… Между тем им тогда же нашелся новый заполнитель. Неотходный от рисовщиков – ходульный гений, так же слеповат и в средствах скуден, он догадался, что эта отоварка… что этот дар ему – от Музы, и принял Мамигоновы пальто и шляпу зверя – сразу на плечо. А после никто не мог вспомнить, откуда он – и куда отдалился.
АПОЛЛОН. О художнике всегда забывают. Думает быть посажен вышивальщицами – на кумач, чтоб его неважный овал рябил над толпой, а мастерицы колют иглами вождей, уже сидящих – и в башнях, и меж пальмовых листов… Знал и я одну подвижницу иглы, а может, ее знала Афина, не помню…
МУЗА. Если художник уже исполнил свою – цитирую: миссию, записал поручение, что шептало ему недомогающее небо… дают себя исполнительским звеном… отныне его жизнь повисает. Не бередит высшие силы, кто до сих пор водил его – меж раззявленных клювов пуль и свистящих петель дождя, открывал – ежедневно пущенный в него сверху огненный шар, эта поддержка с воздуха… или крытых листовой медью атлантов с зеленью в висках или в лесу рук, голосующих – обрушить на него мир как он есть… вернее, кто пас мир – вкривь от его пера… Кто подсказывал ему спасение, теперь сроет надолбы и отворит место, где в голове его – снова хаос и на языке – коровья жвачка… где жилище размыто и неочевидно – для несущих дары, и обломки, проведенные им в реликвии, вернулись в неопрятную дрянь… Ближних его станут отводить – на безучастные позиции, и никому не помогут ни волхвы, ни проволочки обетов, ни вязкость травы… но окропят покидаемого – язвами, а углы – паучьей тоской и прихватят его рубища – из зверя или путанных нитей, ставшие излишне большими, ergo – излишне теплыми… Умалившегося же будут гнать с дороги на дорогу, каковые песочные сестры столь стары, что не помнят, куда идут, и кружат, и теряются, и липнут друг к другу… И сложивший акростихи созвездий продиктует уже не ему, но иным старателям – начистить золотыми бликами проходящие над его макушкой крюки и облить великим покоем – мелькающие ему из повышенных окон площадки… А также – пропажи его творений под машиной, следящей общественный порядок, и развеяние рукописей, дабы то, что написал он, с блеском писали – уже другие, новое поколение тоже хощет! Я могла бы об этом умолчать, но мое единственное оружие – правда, я беру – правдой…
…когда в притягивающем даль волшебном стекле проступает бордель или безумный стан, или лагерь на обочине старинной мечты, на распевах нескончаемой контроверзы… Палатки, чьи стены гуляют боками спешной собаки и гремят гуляющим от бочки обручем, но зато в сих покоях-непокоях – всегда день открытых дверей для гуляющих мимо счета фигур, и родни, и челяди: многих чад по фамилии не то Несчастье, не то Бесчестье, обычно мокрых, и теток из клана Хворей, и бабки Невзгоды, и близнецов Потерь… и вокруг – на дальнобойных фимиамах весне, проходящих гарью сквозь горло и скомканную диафрагму, или на разлитых лиловых и розовых пятнах с душой сирени… точнее, на сукровице глины – снования: перемещенные по пунктам лица, чье переметное продолжение – дебош зачесанных в балахон складок. Но как заняты их глаза и пуговицы! С утра до исхода только выслеживают и пристегивают съедобное, и затекают в полусъедобное, и втягивают в запасливые ямы зрачков – съедобное лишь по обрезу… И врастают балахон за балахоном – на наделе холостого воздуха, проглотившего – машину с хлебом, угощение от стола министра, или полный масленицей одеял грузовичок… такие же самоходки, как время, которое здесь оплевывают – и топчут захватившие их в кабалу дни, забыв бросить в каждом – зарубку, булочные крошки, по которым – назад… бросить шум погашающей монеты переправы… и ждут прозрений, и имеют голоса большого объема – на тонны вздора, и простывают в декламаторах нечленимого гомона… Но настырно формируют из качаемых ветром прутьев – дворники на лобовом стекле, и стоп-огни – из красных петлиц шиповника: смешавшийся вид с капота и с тыла, и в дрожащих, ползущих слоях леса почти обнаружен – угол кузова и бьющиеся в нем золотые рыбы булок… Те, кому пошлем, обмакнув в елей и в рыб, кусок хлеба, – тот предаст нас… В любом случае в дар им – нахлобученный на все поличное закопченный казан с пловом луны… А после кормят и кормят ненасытных львов огня, бросая им в пасть – непродажные вещички, опрыскивая гривы – шипучей мольбой, дабы защищали столь же грязных, как сама кормящая униформа, детей, кто родятся, и родятся, и родятся… Обводят стаей костров, чтобы не приблизилась к ним зима, чтобы провальный надел эфира успел родить машину с рыбобулочными… а к чему? Ибо отпрыски, выводки и выводы голода, угнездившись в теле, если знают читать, то не книги, но скорее – коробки, пакеты, банки, пачки… и с трудом – таблички, доски… ни – согнать мелочь слов в собственные хочу, только – разнузданно интонировать, но осыпаны хочу – по последние пруты на темени, ну да теми же: надстраивать тюрьму души своей… кушать, лопать, давиться, набивать, требовать липкими руками добавку… еще не дозрев – до следующих сладких утех, до страсти – густо размножаться, как предварившие их – вечно, вечно плодоносящие безумными едоками… или всюду ставить тюрьму. Но умеют бегать по кускам света меж встающим стеной брезентом – поддержать прожорливость… оголтело кусочничать, всех побивая: пресекая крылатых, отплющивая ползущих и отмечая ножом шелестящих, носиться меж ними, передавая друг другу – эстафетную палочку Коха, и уноситься – всей жизнью… И не догадаются, что другие побуждения и мотивы – чуть правее их протекающей сущности… Что, прежде чем затмить собой крылатого, дознаются: жаворонок или соловей? Разбивают ползущего – не башмаком, но милотью, ползущую воду – овечьей пеной: пополам… И другие станы или залы взвиваются в небо – по мотивам Икара… или всеми горнами, фаготами, флейтами входят в землю, золотой соскоб которой кто-то послал им, вложив вместо напильника – как раз в не доехавшие до них булки… бросил золотые пригоршни золы – в ноздри заблудившегося хлеба… Кстати, некто, чье оправдание жизни – защита обиженных, измеряет скопления человековида – не головами и лагерями терпимости, а – залами. Куда уходят налоги, не знают ни в одном зале! – сожалеет он, собираясь завернуть – на парламентские сезоны… Впрочем, и те и эти декорации садятся… и станы, и залы съедают эпизоды, выпивают софиты, опорожняют юпитеры и занюхивают обглоданной кулисой… Меняют королей – на дешевых актеров, и пересыпают классические реплики – тем же лагерным арго… и опускают вечное – кушать подано.
Вхождение в роль: вы глубоко погружены в проблемы предпринимательства… вы глубоко – в проблемы препирательста… вы потеряетесь в этой жизни…
К тому же уверяют, что все убийства были инсценированы. И в несчастьях никто не виноват, осуществляются – по техническим причинам, а технические причины всегда – самые совершенные. Такова же и – репродуктивная функция.
Наконец, не дойдут, как весело шататься по потолку собственного дома, перелетая через костер люстры и нервно подскакивая над вскипающим волнорезом притолоки на ровном месте… бродить по комнатам с глубоким настольным зеркалом, обратив его вверх, включив в этот щит Персея – приближенную к снежной площадь и деликатные закоулки – с отуманившейся плиткой, то – посеребренные курящимся в очаге жарким… Двойные и тройные знаки – водяные свидетельства о жизни там, вверху… подтверждения о великом потопе: цитаты, реминисценции… И подробные гипсовые арабески, и перетекающие тени, провода, веревки, канаты… радуги, сердолик и яспис, престолы…
IIIXX. ПОСТНЫЕ ВОПРОСЫ
17. Вы не хотите внедрить ваш микрофон в салат, убрать им оливье?
19. Значит, боевитый юноша с подписью на щеке – сабли, когтя, ногтя… он будет нести микрофон на удочке и ловить хвалы и благодарения, когда мы развяжем убыточную пьеску вилок и ложек «Малый юбилейный обед»?
20. Начнем солировать народными инструментами и повествовать об отце-лауреате Теодоро Великолепном – на обложенном языке…
23. Я бы снял полдлины закатанных в их рукав экспромтов – на пустую кассету… Бон суар, Кира Львовна.
25. Хотя ваш наряженный в мех микрофон – типичнее для тупой лапы зверя… Вы покрасились, Кирочка Львовна? Просто ваш цвет!
26. А тут и вы, mon ami…
27. Оставив всех прочих далеко впереди себя и – с параллельного кинопроизводства. Но ассистент был наставлен – о пленке, и какой свет и шнапс…
29. Вы не могли бы давать нам команды: сушить ложки?
31. И что заснимем в открывшемся павильоне? Лауреата в фазе – скорее нет, чем да… уже ни петь, ни свистеть, ни рисовать? А также радушных людоедок, кто обедают нежующимся, как грифон, лауреатом… Как плотна их фактура – и как скудна кормовая база…
33. Тсс, mon ami, разве они так стары, как преследующие людей события? И вы же не попутаете торжество – с просветленным розыгрышем на ваш «Аррифлекс»… на ваш заношенный «Конвас» с таким же приводом…
34. И не наши локти достойны встать мачтовой рощей – меж тарелок с его славой… не нам пригубить лауреата…
36. Слушайте, конечно, мы выступим единой платформой, но можно, я расскажу тот вечер – тридцать восьмого года? Представьте, в доме где-то спрятана тревога, возможно – в мебели, что ходит с ноги на ногу и пускает – не петуха, но цикаду… и эти ящики-единороги, которые только на сквозняке и минуешь… или в бинтах на подоконнике – от обмочившейся полувесны, капли – в подвешенную жестянку, как срывающиеся минуты… слышишь, как будто все уходит… или мелкие камни в нищую руку… Почти ночь, и папа все не возвращается, но поскольку за завтраком он меня отшлепал за невиннейшую ложь, я на папу сердита и не хочу, чтобы он пришел… И вдруг так поздно вместо папы – чудесный молодой человек, а в руке он держал перчатки, я доросла как раз до его перчаток. И каждая крага так густо начинена – золотой, теплой овечьей шерстью! Кажется, и рука не зайдет… так густо! Как кулек тыквенных семечек…
37. Как ясли с чудным агнцем.
40. Кирочка Львовна, а кто будет бомбардировать нас вопросами, вы?
41. Или кожаная дева, узурпировавшая вашу тень? Кто-то велел ее локонам: на первый-второй рассчитайсь… первые – сирень, вторые – роза, и вся – разрыв, в чьем саду осесть… Когда я смотрю ее волосы, у меня печень идет из берегов.
43. Нет, нет, мой автор. Автор сценария…
44. Значит – она, а не сама жизнь?
48. Кстати, mon ami, хорошо вам на шаг подпустить себя к тому, что снимаете… поскольку сценарий вы не видели, не слышали, не ощупывали…
49. Может быть, автора… писучую нежнодеву, при сжатии – драматический писк… Не близкий мне – на другой картине. Но когда бегут: у Киры Львовны срочный синхрон, а оператор – то ли взял на таран встречную полосу, то ли – в тифозном бараке… Для вас – хоть из митинга в поддержку смертной казни.
52. Этот большой отец и три возлюбленные дочери его – искусственное образование. Все – приемные. Преподают. Раз – рисование, два – музыку и пение, а три…
53. Какие птички! Преподают птичье пение и рисунок птичьей лапкой?
57. А теперь вы тянетесь с микрофоном ко мне на грудь? Хотите воссоздать у нас интерьер НКВД, чтобы на всем произросли уши?
58. Чтобы вы могли любезничать со всяким предметом: многоуважаемым столом, радиатором и буфетом… Чтоб вам не было так одиноко.
60. Какая разница, приемные или извергнул из собственных чресл, все – в таких временах, где уже никто не волнуется… Но вы встали на третьей старухе, что – третья?
61. Проблемы новорожденных, mon ami, решаются по мере выхода детей… по их приросте. Вот вырастет в дверях третья…
63. Он что, искал их по детприемникам? Или сами пришли к нему на прием?
64. Вот где зарыт Шекспир! Он – не тот, кто шлепал их в тридцать восьмом году, а тот чудесный – откуда ни возьмись, кто соблазнял перчатками. И, между прочим, был понятым при аресте. Дочки – его дорогого шефа. Который в легенде – гений, олимпиец, его докторская… хотя уже не защитился. Ни от кого и ни от чего… И тут является аспирант, которого шеф особо выпекал, и во спасение четырех душ совершает – великое: женится на драгоценной… вдове врага отечества или пока жене, не ясно, но ясно – много старше, и удочеряет, удочеряет, удочеряет… Я произнесла – трижды? Это вам не дважды.
65. А поколение – с новыми, расплывчатыми принципами? Дочки, юные жены сына, а если не свежи, то внучки? Хоть нимфеток поснимать на заплаты к синхрону.
68. Кто еще? Крупные дети, сильные внуки… чем мельче – тем глубже сосланы в запасники академической квартиры, ведь вам не понравятся их беспорядочные выкрики балабанов?…
73. Наш звукооператор просит поговорить в микрофон…
74. Угловой – в наушниках и проводах, которые не ведут ни к чему неожиданному?
76. Здесь раз, два, три сестры с жизненным стажем, амортизируются… In Moskau, in Moskau.
77. Сестры вещие везде, на земле и на воде…
78. Взращены и воспитаны одна ответственнее другой, чем всецело обязаны – благороднейшему п. Теодору, гордости политического ландшафта. Постоянно путают работу с домом, одна – художница, почти мэтр, а другая – не меньше предводителя хора, а третья…
79. Разом все вокруг котла! Сыпьте скверну в глубь жерла!
82. Мой звездный пирог с кетой и редкой капустой… носит звание – адмиральский пирог, я караулю его зрелость… поищете ему место в вашем фильме?
89. А вот дева красоты – не только розы, но и темных цветений, рвется трудиться. И сейчас прожует сигарету и заметет с подоконника – опавшие широкие дубравы. Зритель не виноват, что это – труды лауреата. Не пачкайте ему кадр.
91. А чайник, черный красавец? Чуть впрягся в розетку – и уже буря. Не чайник, но «мерседес»!
92. И вздувшегося черного красавца – вон. Диззи Гиллеспи.
94. Кирочка, не лучше все же вы, а не ваша автор? Мы беседуем с известным режиссером, ведь сразу впечатление растет?
97. Mon ami, ставьте вашу камеру против лауреата, а остальное ассистент – с рук.
98. Кира Львовна, а у нашей гордости куски изо рта не падают? Может, лучше – почетный стул почетного… а оскверненная временем говорящая голова – не вырвется из кабинета, из прославления отечества… Потому все не смеют мешать, предлагая – шепоты и свисты, и половину их обкатанной насыпухи мы не пишем: не слышим. Жалко, но не трагедия. Я не ошибаюсь, что главное в кино – картинка? Снимем старца, но не в адмиральском пироге… К черту – разложение плоти.
100. Вы позволите мне определиться справа от папули? Собирается диалог, а у меня… кстати, я – художница… почти отрезано левое ухо. Дар глухоты – не от детской феи, левши, но от детской простуды. Конечно, я знаю, что скажет папуля… то есть примерно…
103. Ваши помощники, они воссядут с нами за пиршество? И кожаная автор, правда, заведена – без конца курить… и ваш жующий мальчик в бархатных, рано полысевших штанах? А угловому в наушниках и восточных косах проводов мы вышлем блюдо… и двое мозоленогих – с железными ящиками… Вас должно быть так много?
104. Мой жующий ассистент, лысый в причинах, нужен на нашей стороне. Хождение камеры и кассет и подснять – не первой важности… и не дай ему бог сделать мне «салат». А осветителей лучше не вязать со столом белых голов. Приемную комиссию в Госкино озадачит облик некоторых лауреатских гостей. Подвинь-ка этот «марс» на меня… еще, еще…
107. А тот, назвавшийся – директор вашей картины, у всего есть директор? Директор окна и директор простенка с картиной… Телом не узок, но глаз сорвал острый – как от первого отдела, и гуляет, не видя хозяев, но излучает чуткость – к вещам… В прихожей дал посидеть на себе новой шляпе Теодора… полагая, что тамошнее зеркало не транслирует… А в моей комнате я выложила папулины награды, вдруг вы хотите снять? И ваш импресарио с одушевлением завесил на своем полустертом плече меж заклепок – орден Ленина, а после – Звезду соцтруда…
111. Да, Кирочка, почему мы не хотим, чтобы ваша кожаная автор задавала вопросы? Она уже нападала на каждую из нас – даже на детей! Из бесцеремонных сторон и меняя стили – знаем ли мы, что Теодор подмахивал письма против диссидентов и неугодных писателей?
112. Во-первых, одно-другое письмо. Только она все знает? И что за великие гонения – с одной его подписи?
115. Вдруг ваша автор с радугой в голове спросит прямо у папули – в минуту съемки? Ищет драматического эффекта!
116. Это же не прямое, оно же – эфирное, а большой экран! Кира Львовна может состричь – все… художественно неправомерное.
117. Но терзать одного из старейших и благороднейших мира?! Самого сердобольного – к нам… И дождалась, когда он стал совсем больным! Если не Теодор, мы были бы – мусор, дождевые грибы, завитки воздуха…
118. Он уже спас нас, он не может спасать – всех! Того, кто спасает всех, зовут иначе.
119. Разве он о чем-то боялся? Подобравший – семейство английского шпиона…
120. Но теперь лауреат, а тогда – много ли терять, кроме своего ничего?
121. Кроме эфира? Воды, земли… оставив себе – камень, штука.
124. Почему он подписывал? Ну так его попросил академик К., забывший себя подвижник, кто слепил науку собственными руками! За что ему отказать? И не смешите меня, такого благородного Теодора уже ничто не запятнает.
126. И кто-то, Кирочка Львовна, наговорил ей невообразимое: будто блестящий молодой человек Теодор женился на маме не просто так… А я тебе говорю: он тогда не был понятым!
127. А я говорю: был.
129. Когда наш настоящий папа, можете называть его в вашем фильме – Иов, кто вечером тридцать восьмого, вы помните, потерял и возлюбленную жену, и деточек своих, и кров с падающими каплями в углах окон, и индустриальный город, полный гудками и началами весны… Жизнь – да, но с последней рано или не очень плошают все. Но так ничего и не получил назад…
130. По вере его, нет?
134. Что вы внезапно приставили к моему лицу? Вы мне угрожаете?
136. Это экспонометр. Он не заряжен.
139. Мы с Кирой, ami, пролистнули семейные фотообразы упокоившейся жены. Ничего от Марлен Дитрих, ни даже – от Любочки Петровны Орловой… На днях кричу в аппарат столичному редактору: высылаю к вам стихи и презент – с оказией именем Додя Шур… И, чтобы не проморгать дарителя, оттуда задают престранный вопрос: как выглядит – Давид Шур, сын Соломона? Да вот так и выглядит!.. Посему не пытай меня о сдаче с арестованного профессора – о его возрастной мещанской жене плюс три места живого груза: эти детки, не умолкающие – до сих пор. Не живописна и не скульптурна. А в последней инистой старухе – и того безнадежнее… Аспирант же, впоследствии лауреат, от золотой молодежи. Не знаю, как в научных открытиях, но – в экстерьере…
141. Будто вместе с нами он удочерил и папину диссертацию, уже готовую, которую папа не успел… и все папино – не опубликованное, но гениальное.
143. Самая извращенная и низменная… История по завистникам, они – у каждого большого ученого, и у Теодора…
145. Будто мама так расплатилась с ним – за наше счастливое детство, разве не гадость, не подлейшая… Бывает трагический крен, надлом, ползун, не дающий поверить – честнейшему… Так это совсем не тот случай! Здесь благодарно верят все! И важнее всего – мы. От лица папы.
147. В конце концов… что значат многоэтажные строчки, слившиеся цифры, кто-то не видел эти буквы и цифры? Если дело – о первой и последней жизни его детей! Вы думаете, какой-нибудь отец начал бы спесивиться – и не отдал все свои труды за благоденствие трех беспомощных созданий в количестве прелестных – сразу три?
152. И сошло с земли его имя…
153. Почти рисовальщицы и преподавателя птичьего пения, а третья… где третья?
154. Нет никакой ощутимой грани – в соседней комнате, или на подпольной работе, или в трамвае. Главное, она продолжает свой путь.
157. Имя Иов не сойдет с земли… пока последний обделенный не дождется возмещения всех потерь, которое никогда особенно не спешит…
158. Разве папуля Теодор не должен был поддержать семью учителя и друга? Вы найдете прецедент в Библии: кто-нибудь наверняка уже взял жену канувшего старшего брата своего…
159. Так не должен, а женился на чужой жене не первой юности… на опоре своего дорогого учителя – по любви? И впустил к себе чад его – с тем же…
161. Ибо чужие дети – всегда лучше…
164. А может, и при живом их папе – уже шуршали амуры?
167. Естественно – общая научная тема. Но кто вам решил, будто от папы осталось неопубликованное – и оно гениально?…
170. Разумеется, папа был гений, никогда не сомневалась. Так кто мешает – и папуле Теодору… Уж такое наше везение: сразу два – в одной нескромной семье.
174. Кирочка Львовна настаивает, что вы – автор сценария? А вашу фамилию мы случайно не знаем, нет?
176. Как, как вы назвали?
178. Кто вам сказал, что это редкая фамилия? Редкая долетит до середины Днепра…
180. И мы всерьез не слыхали? Правда, не на литературной ниве, а… Дорогая, разве мы…
181. Вы так смеетесь? Над самой смешной – со дня присуждения фамилий?
185. А ваш, например, дедушка не служил в предвоенном году в Академии наук? Мы пришли к папуле… нет, настоящий наш папочка был уже не в Академии… но Теодор, он, знаете, приближался к должности, достойной большого ученого…
186. И мы решили ждать его – не в безглазом коридоре, а на всеохватной крыше. И вдруг… никогда не могу вспоминать без смеха! Такой выпученный и встрепанный, просто с бежавшим лицом – и ринулся нас спасать!
187. Бедный так перепугался, что мы уже летим с крыши, и устроил непревзойденный переполох – просто ад! Тебе не показалось, что он выскочил не из каморки завхоза, а из ненормального дома?
189. И вы думаете, мы не запомнили на всю жизнь его фамилию – и она не ваша?
191. Будете отрекаться от вашего дедушки?
193. Три нежные юные прелести – или две? – на вершинной крыше… Бесстрашны, не подвержены ни срывам, ни вольным падениям – всем на радость. Не представляю, что мешало моему всклокоченному дедушке наслаждаться набранной свыше музыкой ботинок.
197. Мой дед, минуя пряничного старичка, позволил убить себя на войне. На Украине, не успел даже до заграницы. Так и не посмотрел – ни орлом, ни мышью… Но бабушка и сын, и две мои тетки обожали его! Недавно ко мне выпала мизерная фотография реалиста, они хранили даже квадратный сантиметр!
198. А чем это могло помешать ему накануне быть завхозом в Академии наук?