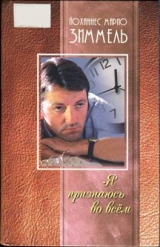
Текст книги "Я признаюсь во всём"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
26
– Ну, мистер Чендлер, чем я могу вам помочь?
Доктор Клеттерхон откинулся в своем кресле и сжал мясистые белые руки. Я сидел напротив него. Кабинет был уютно обставлен, окна выходили в парк. Над письменным столом Клеттерхона висела картина, на которой был изображен табун диких лошадей, которые мчались из рамы прямо на смотрящего. Это была мощная картина в масле.
– Я сценарист, – начал я в третий раз, – и пишу сценарий фильма, у героя которого…
– …опухоль, я знаю. – Он был крупный, худой, у него был мощный орлиный нос и неухоженные засаленные усы, которые свисали на уголки рта. Глаза у него были молодые, а ему самому было по меньшей мере лет шестьдесят.
– Поскольку я в области медицины абсолютный профан, я хотел бы узнать у вас, какие методы обследований вы используете, чтобы определить подобную опухоль, или какие существуют предпосылки для операции, и в какой степени эта опухоль изменяет самого пациента.
– Ну, – сказал он и опять сжал ладони – похоже, это было его постоянной привычкой, – это вообще-то очень обширная тема.
– Я хотел бы узнать всего несколько отправных пунктов, чтобы избежать наиболее серьезных ошибок.
Он немного поразмышлял. Затем он дал мне очень умный и полный обзор первых симптомов (которые я и без него хорошо знал), рассказал о первом прорыве (о нем я тоже знал), о различных методах обследования (которые все еще были у меня в памяти). Я внимательно слушал и делал записи, с удовлетворением отмечая, что мы все больше приближаемся к той части его рассказа, которая меня особенно интересовала. Доктор Клеттерхон без малейших колебаний вводил меня в какие-то медицинские тонкости и психологические трюки в работе с пациентами. Я был автором, который писал сценарий фильма. Мой чудесный парик душил любые подозрения в самом зародыше. Все было очень-очень просто. Спустя почти полчаса он подошел к теме «вентрикулография», и я приободрился.
– Конечно, перед этим обследованием мы требуем от пациента письменного согласия, – сказал он.
– Почему?
– Если во время обследования выяснится, что новообразование злокачественное, мы сразу же оперируем.
– Вы имеете в виду, не приводя человека в сознание?
Он кивнул:
– Да. Такие операции на голове всегда очень сложное дело. Иногда что-то не получается. И тогда мы должны быть защищены его согласием.
У меня пересохли губы, и я облизал их, перед тем как задать следующий вопрос:
– Итак, при вентрикулографии существует две возможности: опухоль безопасна, и вы не оперируете. Или она опасна, и вы оперируете. При этом опять существует две возможности: пациент выживает или не выживает. Не так ли?
– Нет, – сказал врач.
– Нет?
– Есть еще третья возможность, – объяснил он мне, он был очень прилежен. – При обследовании мы можем установить, что опухоль опасна в такой степени, что операция обязательно приведет к смерти пациента.
– И такое есть? – хрипло спросил я. Мой голос звучал как будто издалека. Я откашлялся. – Опухоль, которую нельзя удалить?
Он сжал ладони.
– Конечно, мистер Чендлер, – сияя воскликнул он. – Как часто это случается, как вы думаете? Самая страшная опухоль, которую мы знаем, называется глиобастома.
– Чем же она так страшна? (Глиобастома, записал я и поставил около слова крест.)
– Тем, что ее края четко не очерчены. Поэтому ее нельзя удалить: никто не отважится сказать, где она начинается и где кончается.
– Жутко, – прошептал я и обвел крест еще раз.
– Герою вашего фильма надо, наверно, иметь глиобастому.
– Почему? – Я был настойчив.
– Вы же сказали, что ему надо прожить еще один год. На этом базируется весь сюжет – или нет?
– Да, – сказал я и засмеялся, – на этом базируется весь сюжет. Это должна быль глиобастома, это лучший вариант. Я вам очень благодарен, господин доктор, вы оказали мне неоценимую услугу.
– Ну что вы!
– Нет, в самом деле. Я не знаю, что бы я без вас делал!
– Мне это приятно, мистер Чендлер.
– А что происходит, если вы устанавливаете, что речь идет о глиобастоме?
– Совсем ничего. Мы закрываем обе маленькие дырочки, и дело сделано.
– Ага, – сказал я. – А пациент? Вы сообщаете ему, что он неизлечимо болен?
– Ради бога! – Он покачал головой. – Конечно нет! В лучшем случае мы говорим его родственникам.
– А что вы говорите ему?
– Ему мы говорим, что при обследовании определили, что опухоль безопасна и в операции нет необходимости.
– Но это же ложь!
– Конечно, мистер Чендлер. Но что получил бы бедный парень от правды? Он быстрее начал бы угасать. Во время всех обследований у человека много переживаний. Он заслуживает маленького отдыха. Мы говорим ему, что он должен отдохнуть и прийти снова. И когда он приходит опять, мы назначаем рентгеновское облучение.
– Каждые два-три дня, – сказал я и испуганно замолчал.
– Откуда вы знаете?
– Я когда-то читал об этом, – быстро ответил я, и он успокоено кивнул.
– Да, каждые два-три дня. Всего двадцать – двадцать четыре сеанса.
– И они помогают?
Клеттерхон пожал плечами:
– Трудно сказать. Иногда больше, иногда меньше, немного всегда. На этой стадии многое зависит от диспозиции. И от автосуггестии. Это самая лучшая стадия для пациента. Затем следует не так много радостного.
– Так, – сказал я. – Что следует затем?
– Затем он медленно умирает, – ответил доктор Клеттерхон.
27
Только что, сам того не подозревая, он объявил мне смертный приговор. Он сидел напротив меня, высокий, худой, и дружелюбно кивал:
– Да, это неизлечимая болезнь, мистер Чендлер. Сегодня мы уже многим можем помочь, но многим другим… – он бессильно развел руками.
– Как оно выглядит, это умирание? – спросил я.
– Зачем вам об этом знать? Это действительно слишком печально! Это нельзя показывать в фильме.
– Мы и не собираемся это показывать, – сказал я. – Но мне нужно об этом знать по той простой причине, что нужно знать то, что нельзя показывать.
– Ваш герой должен еще долго прожить после обследования?
– Боюсь, что да, – сказал я, – фильм вообще начинается именно с этого.
– Сколько он должен жить?
– Чем дольше, тем лучше. Сколько это возможно?
– Максимум год. – Клеттерхон задумался. – Не было ни одного случая, чтобы пациент прожил дольше. Все зависит от того, как пройдет облучение.
– А в этом году он еще в норме? Я имею в виду – смерть наступает неожиданно, или пациент медленно сходит с ума, или что там еще происходит?
– Иногда смерть наступает внезапно, из-за апоплексического удара. Тогда человек умирает за секунду, буквально на полуслове.
– Хорошо, – с облегчением сказал я.
– Это если повезет.
– А если не повезет?
В кабинете постепенно темнело – солнце клонилось к закату. Клеттерхон встал и включил электронагреватель, который начал светиться как большой красный глаз.
– Если не повезет, начнется очень неприятный процесс распада, духовного и физического.
– В какой форме?
– Сначала это происходит физически. Изменяется мозг. У человека проявляются свойства характера, которых у него раньше не было.
– Например?
– Например, он становится чрезвычайно недоверчивым. Это типичный симптом.
Я вздрогнул. Недоверчивым! Типичный симптом…
– Ему кажется, что его все обманывает. Он никому больше не доверяет, даже собственным ощущениям. При этом идет медленная атрофия чувства общения. Он теряет контакт с окружающим миром, становится чудаковатым, замкнутым, хитрым.
– Ага, – сказал я.
– Следующая стадия, – продолжал Клеттерхон, – является следствием первых изменений. В пациенте развиваются эгоистичные, асоциальные качества. Он думает только о себе. Он теряет способность различать добро и зло. Он становится аморален.
Я записал: недоверчивый, эгоистичный, аморальный. Список выглядел как расписание. Мое расписание, маршрут моего путешествия. Конечная станция путешествия называется смерть.
– Он становится аморален, безнравствен, – сказал врач. – Он действует не против своей морали, у него просто больше нет морали. Понятие собственности, чувство ответственности, религиозные и частные связи теряют свое значение. Человек будет воровать, обманывать, вести беспорядочную половую жизнь, убивать – не чувствуя при этом ничего, не осознавая преступлений, в которых он виновен. Человек с опухолью в прогрессивной стадии при определенных обстоятельствах – существо, опасное для жизни, и лучше всего держать его за решеткой.
Мне вдруг стало очень плохо, руки повлажнели от пота.
– Ужасно, – сказал я. – И часто такое случается?
Он как-то странно взглянул на меня:
– Вы знаете, мистер Чендлер, иногда мне кажется, что это болезнь нашего времени – этим можно объяснить все безумия, которые сегодня творятся.
– Почему вы так считаете?
– Ну, – сказал он, – разве наше время не потеряло рассудок? Разве все страдания, весь хаос и все ужасы этого столетия не привели к тому, что стало невозможно принимать правильные решения? Наш мозг изменился, он не может воспринимать простые человеческие понятия и искажает простые человеческие истины. Больной дух – больной мир: для меня мои пациенты иногда не более чем живые символы.
– Гм. – Я поднял голову. – Эти явления распада, о которых вы только что упомянули, – они неизбежны?
– Некоторые из них обязательно проявляются.
– А больной осознает свое состояние? Я имею в виду – он страдает от своих действий? Стесняется своего поведения?
– Иногда. В большинстве же случаев то, что он делает, не доходит до его сознания, он воспринимает это естественно – он может, например, раздеться при всех или украсть деньги.
– Но тем не менее бывает, что человек в этот последний год жизни ведет себя нормально?
– Это в границах медицинской вероятности.
– Хорошо, – сказал я.
– Но вы мне говорили, что ваш герой – преступник.
– Он преступник, – сказал я, – но не сумасшедший. Он совершает преступления, но остается не замеченным. Он очень ловкий преступник.
– Ага, – сказал он.
– А как с болями? – Это я тоже должен был знать.
– Они, конечно, усиливаются.
– Можно с этим что-нибудь сделать?
– Сначала – да, – сказал он. – Потом помогает только морфий. Разумеется, больной пытается получить его любым способом. Когда он его принимает, наркотик снимает все проблемы.
– И боли тоже?
– И боли тоже, – сказал он.
Это было очень важно.
– Как заканчивается ваш фильм? – поинтересовался он.
– Точно еще не знаю, – сказал я. – Лучше всего, если герой однажды осознает, что жизнь его стремительно и неотвратимо идет к концу, и сам себя убьет до того, как станет лепечущим кретином.
– Понимаю.
– Если он примет большую дозу морфия, этого будет достаточно?
– Вполне.
– Да, – сказал я, – тогда он умрет именно так.
Дверь открылась, и вошла медсестра Рюттгенштайн, с которой я беседовал раньше. В руке она держала бумаги. Я поднялся.
– Сидите спокойно, – дружески сказала она, – я уже ухожу.
– Я уже узнал все, что мне нужно. Доктор Клеттерхон был очень любезен.
– Я надеюсь, что смог вам немного помочь.
– О да, вы действительно очень помогли мне.
Я собрал свои записи и протянул госпоже Рюттгенштайн руку.
– Вы думаете, Алан Лэдд даст мне автограф? – спросила она.
– Я ему сегодня же напишу. Как ваше имя?
– Вероника.
– Вы получите фото. Я попрошу отправить его на адрес клиники.
Я попрощался с Клеттерхоном, надел шляпу и пошел к двери:
– «Рюттгенштайн» с двумя «т», – сказала медсестра.
– С двумя «т», – повторил я улыбаясь и приподнял шляпу.
Я не знаю, как это произошло. Но в следующее мгновение я почувствовал, что моя голова голая. Я посмотрел в шляпу. Парик лежал в ней. Я снял его вместе со шляпой.
28
Доктор Клеттерхон вскочил и уставился на меня безумными глазами.
– Мистер Чендлер… – прошептала медсестра.
– Вы сами… – доктор запнулся.
– Да, – хрипло сказал я, повернулся и выбежал в коридор.
– Подождите! – крикнул доктор. – Остановитесь!
Я слышал его шаги. Забежав за первый поворот, я оглянулся. Он бежал за мной:
– Мистер Чендлер! Остановитесь!
Я бежал так, как будто от этого зависела моя жизнь. Из всех дверей выходили люди – врачи и пациенты.
– Остановитесь! – доктор преследовал меня. – Остановите этого мужчину!
Медсестра перегородила мне дорогу, но я бежал на нее, и она пропустила меня, отшатнувшись к стене. Теперь за мной бежало много людей. Они бежали ко мне со всех сторон.
Ноги разъезжались на скользком полу. Ко мне тянулось множество рук, наперебой обращались разные голоса. Тут я увидел лифт – пустая кабина ехала вниз. Я бросился вперед и, втиснувшись в быстро уменьшающуюся щель между полом и крышей лифта, упал на пол. Больно мне не было. Кабина спускалась ниже. Когда она доехала до первого этажа, я выскочил в коридор. Он был пуст. Я выбежал в сумрачный парк и помчался к швейцарской. Сзади я слышал взволнованные голоса. Несколько человек, попавшихся мне навстречу, остановились и смотрели мне вслед.
Портье говорил по телефону, меня он не видел. Я побежал вниз по улице к заброшенному участку, на котором стояла моя машина. Движение было сильным в обоих направлениях. Я обернулся еще раз и перевел дыхание. У входа в больничный комплекс в группе людей я увидел госпожу Рюттгенштайн. Они что-то обсуждали, указывая куда-то руками, но преследование прекратили.
Я подождал, пока мое дыхание станет ритмичным, потом снял шляпу и опять надел кепку. У меня было ощущение легкости и полного спокойствия. Теперь, когда я был почти уверен, что отмечен знаком смерти, меня наполнило чувство необычайного удовлетворения от своей хитрости, когда я сел за руль с очень хорошим настроением. Охраннику я дал марку. Выезжая на улицу, я насвистывал «Баркаролу» из «Сказок Гофмана».
Она заговорила, только когда я доехал до Стахуса. Она сидела сзади, смешно, что я ее не заметил. Вероятно, это из-за неожиданно наступившей темноты. Она сидела совсем тихо, и сначала я увидел ее лицо в зеркале заднего обзора, а потом услышал ее голос.
– Добрый вечер, – сказала Маргарет.
29
– Добрый вечер, Маргарет, – сказал я. Опять появилось желание свистеть, но я подавил его.
– Мне было очень неспокойно сегодня после обеда – ты был не такой, как всегда. Тогда я попросила Джо проследить за тобой.
Очень медленно и осторожно я молча доехал до площади Ленбах.
– Ты был в больнице?
– Да.
– По поводу… по поводу твоей головы?
– Да, Маргарет.
Она положила руку мне на плечо:
– И… они тебе сказали?
В этот момент я уже точно знал, что я должен довести дело до конца.
– Да, они мне сказали. Я объяснил, что как автору фильма мне нужна кое-какая информация, и тогда они сказали мне. Теперь я это знаю.
Я остановил машину у бордюра перед кинотеатром «Луипольд». Вскоре, в полседьмого, начинался сеанс, и перед кинотеатром было много людей. Шел фильм «Ниночка».
Если она слушала внимательно, то в последний момент она может распознать западню, думал я. Она видела, что я мог совсем ничего не узнать…
– Ты знаешь… – беззвучно прошептала она.
– Да. – И я рискнул: – Глиобластома, – громко сказал я. – Меня нельзя оперировать. – Я посмотрел на нее в зеркало. Ее лицо было белым и неподвижным. – Ты это знала, – сказал я.
Она молча кивнула.
– Тебе сказали?
Она опять кивнула.
– Еще кто-нибудь знает – Бакстеры или…
– Конечно нет, – прошептала она. Я ждал, что она расплачется, но был разочарован. Она оставалась совершенно спокойной, невероятно спокойной. – Никто об этом не знает. Только я. Я… я не могла тебе сказать, Рой.
Теперь я знал все. Узнать оказалось так просто. Я полез в сумку. «Пожалуй, я могу опять надеть парик», – решил я. Она смотрела на меня во все глаза.
– Ну, – сказал я и повернулся к ней, – как я тебе нравлюсь? Правда, великолепный парик?
Она открыла рот и хотела что-то сказать, но не могла выдавить ни слова. Вместо этого она вдруг начала смеяться. Она смеялась громко, как в истерике. Она смеялась, и смеялась, и смеялась.
– Прекрати, – сказал я.
Но она продолжала смеяться. Она не могла остановиться. Тогда я тоже засмеялся. Мы смеялись, пока у нас на глазах не выступили слезы и мы не начали задыхаться. Неожиданно мы оба замолчали. На лице у нее появился панический страх. Я знал, чего она боялась: она боялась того, что я мог сказать. И напрасно – в эту минуту я был настроен очень благодушно, очень миролюбиво, очень весело.
– Так, – сказал я, – теперь, после всего этого кошмара, поедем ужинать. Я ужасно голоден.
Мы пошли в «Хумпельмайр», и я заказал столько еды, сколько не заказывал никогда в жизни. Сначала мы пили сухое «Пале шерри», к основному блюду – «Хайдзик Монополь» – брют и с десертом – «Карвуазье» и «Мокко».
Обслуживание было превосходным. У девочки-цветочницы я купил для Маргарет большую белую розу. А лангустов я взял две порции.
Поначалу жена сидела напротив меня в застывшей позе, как будто каждую секунду ожидала взрыва. Но я был вполне адекватен, и постепенно она успокоилась. Когда принесли филе, стало понятно, что и она проголодалась. А спаржу она заказывала дважды. Это был чудесный ужин, более чудесным и мирным он просто не мог быть. О моей скорой смерти мы не заговорили ни разу. Уже несколько лет я не ужинал с Маргарет так мило. Я находил ее очень симпатичной. Парикмахер, к которому она ездила, был явно талантлив. Я сделал ей комплимент. Она ответила мне комплиментом насчет моего парика. Что касается шоколадной бомбы на десерт, мы были единодушны: это был самый лучший деликатес, который мы вообще когда-нибудь ели.
Когда мы покидали заведение, на мне был парик, а Маргарет держала в руке белую розу. Мы поехали к театру, где нарядно одетые дамы и господа готовились к выдающемуся вечеру. Мы сразу нашли Бакстеров, у них уже были билеты, и выяснилось, что в нашем распоряжении была целая ложа.
«Карвуазье» согревал желудок, я был слегка пьян и, когда через четверть часа смотрел из своей ложи в полный сверкающий зал, очень доволен собой. По всему, это был абсолютно благоприятный день.
Свет погас. Над декорацией, которая изображала улицу Лондона, поднялся занавес. Я нащупал в темноте руку Маргарет. На сцене стоял Глостер в исполнении Вернера Крауса. В мире с самим собой и со всем светом я слушал его:
– Итак, преобразило солнце Йорка в благое лето зиму наших смут. И тучи, тяготевшие над нами, погребены в пучине океана…
30
Нет, господин Краус, господин Глостер, господин Шекспир! Нет, господа, нет! Они еще здесь, тучи… Они еще не погребены в пучине океана. Это не мои тучи. Не те, которые тяготеют над моим домом. Напротив, буря еще предстоит, еще только построили сцену.
– Но я, чей облик не подходит к играм…
Это было уже лучше.
– …К умильному гляденью в зеркала; я, слепленный так грубо, что уж где мне пленять распутных и жеманных нимф…
Вот это соответствует действительности. Вернер Краус, исполнитель роли герцога Глостера, затем короля Англии Ричарда III, тяжело шагал вдоль рампы. И тут, когда этот безобразный сын Эдуарда IV начал постепенно завоевывать мои симпатии, он заговорил:
– Я, у кого ни роста, ни осанки, кому взамен мошенница природа всучила хромоту и кривобокость; я, сделанный небрежно, кое-как и в мир живых отправленный до срока таким уродливым, таким увечным, что лают псы, когда я прохожу…
Что лают псы, когда я прохожу.
Лаяло много псов. Лаял Джо Клейтон. Лаяли мои друзья в Голливуде. Мои друзья в Мюнхене. Такой уродливый, такой увечный – таким был и я. Я даже немного больше, если уж мы заговорили об этом. Я отмечен знаком смерти. Как патетически это звучит. Смерть патетична. Интересно, была ли у Ричарда III опухоль? Знал ли он, что он скоро умрет? Нет. И тем не менее он говорил с собой с таким сочувствием…
– …Раз не вышел из меня любовник, достойный сих времен благословенных, то надлежит мне сделаться злодеем…
Злодеем? Просто потому, что его никто не любит? Теперь его действительно никто не полюбит. Но, наверно, ему все равно. Мне, в конце концов, это тоже безразлично, любит меня кто-нибудь или нет. Мне безразлично? Конечно, мне безразлично. Этим я отличаюсь от Ричарда III. И тем, что он не должен умереть. Вообще-то, если я правильно помню, он тоже умрет. Но он об этом еще не знает, а я знаю. В этом маленькое различие. Да здравствует маленькое различие!
Что делает человек, который знает, что он должен умереть? Может, он сразу захочет стать злодеем? Точно не знаю. По крайней мере, в течение года, который ему остался, он может сделать еще несколько полезных, приятных, доставляющих радость вещей. Я тоже мог бы сделать множество дел. Да? Разумеется. Например, я мог бы убить какого-нибудь тирана. Политического деспота. Их предостаточно. Я мог бы прокрасться в его дворец войти ему в доверие, а затем убить его. Тогда я бы стал героем, а угнетаемый народ – свободным. Есть много угнетаемых народов – в Европе и других частях света. Только я ничего про них не знал, и они были мне совершенно безразличны. Почему я должен убивать тирана? Уже много тиранов убито. Уже есть достаточно памятников. А вдруг мое покушение не удастся, меня схватят и поставят к стенке? Вряд ли мне поможет, если я начну объяснять, что у меня опухоль. Они не дадут мне дождаться естественного конца, они приблизят его. Быть расстрелянным неприятно. Хотя они могут меня и повесить. Может, народ не хочет, чтобы его освобождали. Очень многие народы были уже освобождены и не получили от этого удовольствия.
Конечно, я мог бы предоставить себя какому-нибудь исследователю. Как кролика для опытов в человеческом обличье. Он провел бы со мной эксперимент, опасный для жизни. С какой-нибудь новой сывороткой против рака. Или против полиомиелита. Газеты пестрели бы моими фотографиями: «Героический американский сценарист рискует своей жизнью на благо человечества». Кинокамеры субботних обозрений – около моей постели: «Как вы себя чувствуете, мистер Чендлер? Расскажите нам о ваших впечатлениях. Вы будете выбирать мистера Эйзенхауэра, если выживете?» – «Да, если выживу!»
Допустим, эксперимент удался и я выжил. Исследователь получает Нобелевскую премию. Я получаю медаль. А через пару месяцев я мертв. Если мне повезет, то при вручении медали я еще не стяну с себя брюки, потому что буду уже не в состоянии управлять своими эксгибиционистскими наклонностями. А может, все-таки стяну. И будет такой скандал, что меня сразу же переведут в закрытое учреждение. Обратно к доктору Клеттерхону. Он будет рад снова меня увидеть.
Или книга. Я мог бы написать книгу. Великолепную книгу. Книгу столетия. Книгу, которая перевернет мир. Книгу, которую ждут миллионы отчаявшихся. Да, я мог бы сделать и это – если бы мог. Только я не могу. Потому что я маленький жалкий человек, который сам сомневается, и ни во что не верит, и боится, и поэтому может написать только книгу, полную страха и сомнений. Нет, думал я, это тоже не подходящий вариант.
Конечно, есть еще церковь. Люди, которых я знаю, общаясь со священниками, узнавали множество интересных вещей. После этого они становились намного спокойнее и счастливее. По крайней мере, так они мне рассказывали. Священники совсем не такие, говорили они. Удивительные вещи можно узнать от священников. Но я не знаю, можно ли верить подобным рассказам. У меня с Господом Богом ничего хорошего не получалось. Конечно, несмотря на это, я мог бы попробовать, возможно, мне бы помогло. Возможно, мир войдет в мою душу, беспокойство уменьшится, и я смогу прожить прекрасную белую зиму вместе с Маргарет, с верой во всемогущего бога и его неиссякаемую милосердную волю.
Только я не хотел проживать зиму вместе с Маргарет. Теперь не хотел. Я и раньше этого не хотел, но эта проблема не была тогда такой неотложной. Теперь каждый день был на счету. Теперь я не хотел больше с ней жить. Нет, разрази меня гром, если я еще хочу этого!
Но чего, собственно, я хочу? Жить с кем-нибудь другим? Например, с Иолантой? Я рассуждал серьезно. Мне опять вспомнилось все, что было у нас с Иолантой. Мне вспомнились упоение, восторг и счастливые сумасшедшие часы, но затем вспомнились и другие часы – часы ссор и холодной ненависти. Часы, которые были скучны, пусты, пошлы и глупы. Часы, когда я не мог ее переносить. Провести этот последний год с Иолантой? Кто знает, долго ли она это выдержит? Вероятно, она неожиданно пропадет, как недавно, после того как она угрожала покончить жизнь самоубийством, если я не выживу. Нет, Иоланта тоже не подходит!
Никто мне больше не подходит. И ничто.
Вокруг меня стало светло, и люди бешено захлопали. Закончился первый акт. Я тоже хлопал, немного очнувшись, хотя и не полностью, из своей задумчивости. В течение всего вечера я не был абсолютно бодрствующим. Я разговаривал с Маргарет и Бакстерами, я даже вышел в перерыве в фойе, но на самом деле я постоянно сидел в темной ложе и думал о том, с чего начать. Я заметил, что Маргарет несколько раз озабоченно взглянула на меня. Каждый раз, когда она это делала, я успокаивающе ей улыбался. Но как только свет опять погас и продолжилась пьеса о короле-мошеннике, я опять погрузился в свои мысли – с определенной радостью и даже облегчением, как иногда, полный грусти и приятной печали, ночью в поезде или зимой, когда темнеет, перед камином вспоминаешь девушку, с которой когда-то давно встречался, или давно прошедшие эпизоды на цветущих лугах, в тихих садах или в кафе, где играет тихая музыка…
Домой, думал я.
Я охотно съездил бы домой в этот последний год. В дом моей молодости, к моим родителям. У нас был прекрасный большой дом, я был в нем очень счастлив. Но мои родители умерли, а дом был продан. Домой! А где, собственно, мой дом? В гостиничных номерах, в мастерской или в самолетах? У Иоланты? Или у Маргарет? Или у меня у самого? Везде, где бы я ни был, я тосковал и куда-то оттуда стремился. А там я опять тосковал и опять стремился куда-нибудь. Я всегда стремился куда-то. Много лет.
Вероятно, это было самое лучшее. Куда-нибудь уйти. Уйти одному. И если там ситуация сложится не так, как я хочу, я попытаюсь найти новое место. Есть много мест, если есть достаточно денег.
У меня достаточно денег? Не очень. Я бы с удовольствием имел больше. Но вряд ли у меня их прибавится. По меньшей мере, честным путем. Другим путем – возможно. Если я захочу стать злодеем.
Если бы я захотел стать злодеем, я смог бы поехать тогда куда хочу, в любой город и в любую страну. Если бы у меня было достаточно денег, все было бы просто в этот последний год. Все и должно быть просто. Непростой последний год я не смогу вынести. Но он может быть непростым – без денег. Человеку в моей ситуации нужны деньги. На то, на се. Позднее – на морфий. Надо иметь в виду, что понадобится много денег на морфий. Я еще не совсем представлял себе свои последние месяцы, но то, что они должны быть дорогостоящими, я понимал. Особенно, если буду не в полном порядке в душевном плане…
Если у меня будут деньги, все будет легче. Тогда я буду свободен, тогда я смогу сегодня быть здесь, а завтра там, и нигде не задерживаться надолго, чтобы они меня не нашли и не схватили. И когда я однажды замечу, что я действительно докучаю маленьким детям, или больше не могу правильно есть, на этот случай останется морфий. Морфий будет всегда.
Но я был свободен. Совершенно свободен! Я мог делать что хочу. Больше никаких обязанностей. Никакого принуждения. Никаких героических амбиций. Никакого христианского смирения. Никакого профессионального отчаяния. Никакой любви с ее сложностями. Только я. Я один. Я всегда охотно оставался один. И я хотел бы быть один. Один – это чудесно. Только для этого мне еще нужны деньги…
Я открыл глаза.
Маргарет сидела рядом и пристально смотрела на меня. У меня было чувство, что она уже давно так на меня смотрит. Я улыбнулся. Она тоже улыбнулась. Бакстеры смотрели на сцену. Пьеса подходила к концу. На поверхности Тамворта спящему королю явились духи преданных им и убитых друзей. Они поднимались вокруг его палатки один за другим в бледном свете луны и шептали свои проклятия. Дух Букингема склонился над королем.
– Спи дальше, – пробормотал он, – перелистай во сне свои злодейства! Ты, окровавивший земную твердь, казнись, дрожи! Отчаянье и смерть!
Это было не очень приятно.
Но Ричард III уже не спал. Он внезапно вскочил со своего ложа и дико огляделся. Духи исчезли.
Никто не шевелился, ни на сцене, ни в зрительном зале.
– О, как ты мучаешь, трусиха совесть! Мерцанье звезд… Стоит глухая ночь. Холодный пот. И дрожь. Ужель боюсь я? Кого, себя? Здесь больше никого.
Я зачарованно подался вперед, я вспомнил, что отрывки из пьесы мы когда-то читали в школе, распределив роли. Я читал за Ретклифа. Но я знал и слова короля, я вспомнил их и тихо говорил вместе с главным героем:
– Я – это я. И сам себе я друг. Здесь есть убийца? Нет… Есть: это я. Тогда бежать!.. От самого себя? Я отплачу!.. Как, самому себе? Увы, себя люблю я. Но за что? За то добро, что сам себе я сделал?
– Тсс, – зашипели два злых голоса. Я посмотрел в их сторону. Из соседней ложи на меня смотрели возмущенные лица. Я замолчал и откинулся назад. Я закрыл глаза и слушал голос короля:
– Отчаянье! Никто меня не любит. Умру – не пожалеет ни один. И в ком бы мог я встретить жалость, если во мне самом нет жалости к себе?
Голос продолжал звучать. В моем черепе громко и тепло стучала кровь. Моя кровь. Я еще жил. Моя кровь говорила: вперед.
Я прислушался к словам.
Вперед. Дальше. Дальше вперед.
По сцене прошел Вернер Краус и попросил коня, за которого он был готов отдать свою корону.
Вперед. Вперед. Только вперед, говорила моя кровь. Кровь в моем черепе. Кровь, которая протекала и омывала глиобастому. Моя кровь. В моем черепе.
Занавес опустился, я видел это через какую-то пелену. Опять неистовые аплодисменты, вспыхнули огни, люди до хрипа в голосе вызывали великого исполнителя главной роли. Он выходил на сцену и кланялся, кланялся огромное количество раз. Аплодисменты не смолкали. Среди тех, кто аплодировал громче всех, был и я.
– Чудесно! – по-английски прокричал мне Тед Бакстер. – Разве он не великолепен?
– Да! – прокричал я. Я хлопал как сумасшедший. – Он великолепен!
Я смотрел вниз на рампу. Там стоял Вернер Краус и все еще кланялся. Все видели его, кроме меня. На его месте я видел кого-то другого, я видел его совсем ясно, и я громко аплодировал ему.
Я видел себя самого. И я кланялся сам себе и сам себе выражал одобрение.








