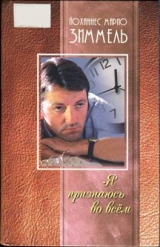
Текст книги "Я признаюсь во всём"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
7
– Не помешаю? – спросил Джо Клейтон.
Я не слышал стука, он уже стоял в моей палате, с иллюстрированными журналами и бутылкой виски в руке.
– Конечно нет, – сказал я, – проходите, Джо.
Он широко улыбнулся и крепко пожал мне руку. Он был похож на веселого толстого биржевого маклера.
– Давайте сначала выпьем по глоточку, – предложил он и позвонил, усаживаясь и доставая портсигар и карманный ножик, который мог служить и штопором. С помощью него он открыл бутылку. Он показал на портсигар:
– Здесь можно курить?
– Конечно.
Он зажег огромную сигару и выдохнул перед собой большое облако дыма. Казалось, он был очень доволен собой.
– Вы кажетесь мне очень довольным собой, Джо, – сказал я.
По какой-то причине я чувствовал себя неуютно. Что-то не сходилось, я не мог сказать, что это было, но я ощущал это совершенно отчетливо. Он был слишком расположен ко мне.
– Так и есть, так и есть, мой мальчик, – сиял он, сцепляя свои короткие толстые пальцы. – «Крик из темноты» закончен. Через четыре недели мы начинаем съемки.
«Крик из темноты» – так назывался мой фильм. От веселости Клейтона мне с каждой минутой становилось все более тревожно.
– Почему через четыре недели? – спросил я. – У вас же только мой сырой сценарий.
– Ваш сырой сценарий великолепен, Джимми! – Он похлопал меня по спине. – Лучше он и не мог бы быть! Все от него в восторге, даже Ташенштадт. А вы сами знаете, как трудно ему угодить.
– Да-да, – сказал я, – но это все-таки всего лишь сырой сценарий. Мы с Хельвигом хотели изменить некоторые сцены, а потом… – Я осекся. – Постойте, но ведь Ташенштадт вообще не говорит по-английски!
– Конечно нет, а что?
– Как же он тогда прочитал сценарий?
– Конечно, он прочитал не ваш сценарий, а Хельвига.
– Да, тогда ясно.
– Что – тогда ясно?
– Конечно, это совсем другое. Диалоги Хельвига уже готовы. Над моими нужно было еще поработать.
– Разумеется, разумеется, – сказал он отстраненно. Я вообще перестал его понимать. Я хотел что-то спросить, но тут отворилась дверь, и появилась медсестра. Она была безобразная и толстая.
– Два стакана, пожалуйста, – сказал Клейтон по-английски.
– Два стакана, пожалуйста, – сказал я по-немецки.
– Конечно, сейчас, – сказала безобразная сестра по-английски. Она исчезла.
– Вы тоже придерживаетесь мнения, что над диалогами еще надо поработать?
– Да, Джимми, – он облизнул свою сигару, которая собиралась потухнуть. – Над ними надо будет еще немного поработать. Но не беспокойтесь! Не торопитесь, вы должны хорошенько отдохнуть, сейчас это самое главное! Здоровье прежде всего! Важнее ничего нет!
– Да, но…
– Вы свое дело сделали великолепно, я вами более чем доволен. Хельвигом тоже. Но вами особенно, Джимми. И когда я буду снимать свой следующий фильм – это будет, вероятно, осенью в Испании, – вы твердо можете рассчитывать на то, что я снова вспомню о вас.
– Что с вами, Джо? Вы говорите так, будто я уже закончил свою работу.
– Так и есть, Джимми, ха-ха-ха! – он засмеялся и снова похлопал меня по спине.
Безобразная сестра принесла два стакана.
– Спасибо, – сказал Клейтон и улыбнулся ей.
– Пожалуйста, – произнесла она. Но не улыбнулась. Она посмотрела на бутылку виски, а потом на меня, покачала головой и ушла.
– Вот, возьмите! – Клейтон протянул мне стакан. – За то, чтобы вы снова были абсолютно здоровы!
Мы выпили. Виски было теплым и тяжелым. Я почувствовал, как оно разлилось у меня в груди. Я поставил стакан.
– Джо, что это значит: я закончил свою работу? – Теперь я уже точно знал, что случилась какая-то неприятность. Он смотрел в пол, избегая встретиться со мной взглядом. Он был порядочным парнем и врал очень неумело. Он не отвечал. – Отвечайте же! Как это я закончил со свою работу, если я должен еще переписать диалоги?
– Но вы же не можете переписать их, если вы больны и лежите в больнице!
– Я пробуду здесь всего три-четыре дня.
– Всего три-четыре дня? – Он пожал плечами. Без сомнения, он рассчитывал, что это продлится гораздо дольше. Почему, черт возьми, почему?
– Да, три-четыре дня! И потом я снова в вашем распоряжении! Что это значит? Я могу писать даже здесь, чтобы не терять времени. Мне больше нечего делать! Да, так даже было б лучше всего…
Он покусывал губы. Его сигара догорела, но он этого не замечал. В саду за окном постепенно темнело.
– Джимми, не говорите чепухи! – Он медленно поднимал глаза и наконец с измученной собачьей улыбкой посмотрел мне в лицо. – Как же вы здесь можете писать, здесь, в такой обстановке, в вашем состоянии?..
– Я в полном порядке!
– Разумеется, но все-таки… Вы еще не знаете результата обследования. Господи, конечно, оно покажет, что вы абсолютно здоровы, но пока…
– Джо, – медленно произнес я, – что вы от меня скрываете?
– Ничего, Джимми, ничего. Хотите еще виски?
– Нет.
– А я – да! – Он налил себе полный стакан и залпом его выпил.
– Итак! – сказал я. – Что это значит? Почему я не могу здесь писать диалоги? Кто же тогда их напишет?
– К счастью, Коллинз сейчас в Мюнхене, – произнес он, не глядя в мою сторону. Лицо его стало пунцовым. Бедный малый!
– Ах вот оно что, – сказал я и сел. Коллинз был автором, пользующимся большим спросом в Америке, в настоящее время он гостил в Европе. Мы были знакомы, я им восхищался, а он обо мне ровным счетом ничего не знал. И вот Коллинз должен был писать мои диалоги. В первый раз за этот день я почувствовал, как у меня снова начинают болеть виски.
– Он любезно откликнулся на просьбу внести несколько небольших изменений, когда я ему сказал, в какое затруднительное положение я попал из-за вашего приступа…
– Джо, – выговорил я, – еще по телефону вы мне сказали, что из-за моего приступа вы ни в какое затруднительное положение не попали. Вы старый лжец!
– Я же уже поговорил с Коллинзом, Джимми, – с мольбой в голосе и с несчастным видом проговорил он.
– Я полагаю, – продолжал я, – что вы действительно не попали из-за меня ни в какое затруднительное положение. Напротив. Мое несчастье, должно быть, оказалось для вас даже подарком небес.
– Джимми, не говорите так!
– Это был наилучший способ устранить меня, так?
– Пожалуйста, Джимми, вы знаете, как я вас ценю!
– Вы и ценили меня! С каких пор вы стали мной недовольны?
– Я никогда не был вами недоволен! – вскричал, подскочив.
– Не кричите, – сказал я. – Здесь больница. И сядьте! – Он сел. Его толстые руки тряслись. – Ну, давайте говорите, кто меня очернил, кто вам внушил, что моя работа ничего не стоит!
– Ни один человек мне ничего подобного не внушал, Джимми, действительно никто!
– Прекрасно. Тогда слушайте внимательно, что я вам скажу: Коллинз не будет менять мои диалоги!
– Он же это уже делает! – хватая ртом воздух, сказал он плачущим голосом. Значит, он был еще хуже, чем я думал.
– Хорошо, – сказал я, – тогда заберите у него рукопись. Наш с вами контракт еще в силе. Пока я работаю с вами по контракту, вы согласно закону о профсоюзах не можете работать с другим автором. Скажите Коллинзу, что вам жаль. Это моя работа! Я хочу закончить ее! Или увольте меня, если вам так лучше! Тогда вы сможете взять столько авторов, сколько захотите.
Он тяжело дышал и молча смотрел на меня.
– Вы меня поняли?
Он кивнул.
– И то ж?
Он снова встал:
– Джимми…
– Сядьте!
Но он покачал головой и продолжал стоять.
– Джимми, я надеялся, что вы избавите меня от этого. Если вы отказываетесь признать Коллинза, тогда… – Он набрал в грудь воздуха, теперь глаза его действительно были влажными.
– Тогда…
– …тогда я вынужден вас уволить, – тихо произнес он и снова сел.
После этого мы какое-то время молчали.
– Теперь вы можете мне налить еще виски, – наконец сказал я.
Он наполнил стаканы, сделав он это так неуверенно, что немного янтарной жидкости пролилось на мою кровать. Мы выпили.
– Спасибо, – сказал я.
– Вы признаете Коллинза? – спросил он еще тише.
– Нет. Уже из одного самоуважения – нет.
– Тогда, тогда…
– Да, Джо, конечно. Вы рассчитаетесь со мной еще до конца недели.
– Вы злитесь на меня?
– Нет, – сказал я, – я почти влюблен в вас.
– Господи, что за ужасная профессия! В самом деле, Джимми, я ненавижу этот фильм! Я ненавижу его! Вы мне друг, и я должен вам это сказать! Теперь, если у вас будут проблемы… О нет, я должен! Что я мог сделать?
– К примеру, хоть раз иметь свою точку зрения. Не всегда верить последнему человеку, с которым вы разговаривали!
Он покачал головой:
– Ситуация гораздо хуже, мой мальчик! Здесь, в Мюнхене, я ни с кем не разговаривал, ни с кем.
– Тогда откуда появилось ваше решение избавиться от меня?
– Оттуда, – произнес он почти шепотом, – с побережья.
Мы всегда говорили «побережье», когда имели в виду Голливуд.
– А, – сказал я. Он был прав: это действительно было еще хуже.
– Вместе с сообщением о том, что перечислены деньги, пришло еще одно, – продолжал он, – и в нем говорилось, что я должен поручить Коллинзу переписать ваши диалоги. Должен, Джимми, понимаете? Вы можете посмотреть это сообщение, если вы мне не верите!
– Я вам верю.
– Я же простой исполнитель! Я должен делать то, чего от меня потребуют с побережья. Я перед ними отвечаю за все! Они же мне платят!
– Кто же это там прочитал?
– Что? – Он непонимающе смотрел на меня.
– Мой сценарий.
– Халлоран. Он дал экспертную оценку.
Халлоран был драматургом, очень добросовестным, честным и порядочным человеком. Люди Шталя очень доверяли ему, и я тоже. Он был неподкупным, умным и знал толк в своей профессии.
– И что же?
– Он сказал, что сюжет в порядке. Но диалоги не очень. – Два последних слова Клейтон произнес по-немецки. Я посмотрел на темный сад за окном и почувствовал, как широкой, тяжелой и ленивой волной снова накатила боль.
– Он сказал, что диалоги совсем плохие?
– Да, Джимми. Он сказал, что вообще ничего не понимает, вы же достаточно хороший автор, но в этот раз просто не справились. Работа рассеянна, бессердечна, поверхностна и пуста. – Я кивнул и ухмыльнулся. – Что он бы не советовал снимать фильм по сценарию в том виде, в каком он сейчас. – Моя голова сама кивнула, а мой рот сам ухмыльнулся, я казался себе куклой. – Мне очень жаль, – повторил бедный Клейтон.
– Это хорошо, Джо. Вы ничего не можете поделать. Конечно, это все неприятно. Но знаете, что самое неприятное? Что теперь я – о господи! Совершенно лишен уверенности! Кажется, у меня способности к самооценке! Я часто писал дерьмо, но тогда я сам знал, что это дерьмо! Только в этот раз, Джо, в этот раз, верите вы мне или нет, я надеялся, что написал хорошую книгу. Включая диалоги, которые нужно было только немного улучшить, немного! Я думал: они уж и так чертовски хороши! Собственно, об исправлении я говорю только из тщеславия! Чтобы услышать немного похвалы, понимаете?
– Да, Джимми, – сказал он смущенно.
– И вот приходит Халлоран и говорит, что диалоги рассеянны, бессердечны, поверхностны, пусты и глупы.
– Глупы – нет, – сказал Клейтон. – Он не сказал, что глупы.
– Нет?! – закричал я. – Он не сказал, что глупы! И это повод, чтобы отпраздновать, Джо! Налейте мне еще стакан виски!
Он подал стакан.
Я выпил.
– Джимми, я правда не знаю, что мне сказать. Я охотно хотел бы вам помочь. Поверьте, эта проклятая, жалкая, грязная работа губит людей и убивает души! Возьмите бедного Любича! Тот должен был умереть в пятьдесят пять лет.
– Перестаньте меня утешать.
– Вы знаете, о чем я?
– Да, Джо, я знаю. Вам не пора идти?
Он встал.
– Вы имеете в виду…
– Я не имел в виду ничего плохого, – сказал я. – Я только хотел бы побыть один.
– Ну, хорошо! – Он взял свою шляпу и протянул мне руку. – Не принимайте это слишком близко к сердцу, Джимми. Что я сказал – я сказал!
– А что вы сказали?
– Что я снова хочу работать с вами – в Испании.
– Ах да.
– И еще, Джимми: на побережье ни один человек об этом не узнает, тут вы можете быть совершенно спокойны. Мои люди порядочны – а Халлорана вы сами знаете.
– Да, – произнес я, – Халлорана я знаю.
– Ну, тогда пока!
– Пока, Джо, – сказал я.
Как только он закрыл за собой дверь, зазвонил телефон. Это была Маргарет. Она спросила, как я себя чувствую.
– Спасибо, великолепно.
– Я звоню сейчас, потому что Тед достал билеты в театр и потом у меня не будет времени.
– И куда вы идете?
– На «Фиделио». Ты ведь не злишься?
– Ради бога, конечно нет.
– Тед думал, я должна была отказаться.
– Конечно нет, Маргарет!
– Я завтра снова зайду.
– Отлично.
– Профессор уже был у тебя?
– Нет.
– Он мне обещал сегодня еще раз осмотреть тебя. Завтра начинается обследование. Он сказал, что ты должен сначала один день хорошенько отдохнуть. Да, Рой, чуть не забыла: мы встретили в баре Клейтона! – Я вздрогнул. – Он мне сказал, что побережье и немецкий кинопрокатчик были в восторге от твоего сценария! – Добрый толстый Клейтон. – Разве это не прекрасно?
– Прекрасно.
– Он уже был у тебя?
– Да.
– И он сказал тебе это?
– Да, Маргарет.
– Видишь! А кто вас свел?
– Ты, Маргарет! – Я отчетливо чувствовал, что она была не одна. – Ты одна?
– Нет, со мной, Вера и Тед мы все еще сидим в баре! – Голос Теда прокричал что-то непонятное. – Они передают большой привет!
– Спасибо, – сказал я.
– Ты видишь, я уже знаю, с кем ты можешь работать!
– Да, Маргарет!
– Я твой маленький менеджер! Я еще сделаю из тебя автора, пользующегося самым большим спросом в мире!
Я представил себе, как она с сияющим лицом сидит за стойкой, кивая Бакстерам, и как Бакстеры ею восхищаются.
– Джо тебе наврал, Маргарет! – сказал я. – Сценарий отклонили. Джо уволил меня. Коллинз переписывает рукопись.
После нескольких секунд молчания она взяла себя в руки:
– Это меня радует, это очень меня радует, Рой! Джо сразу же тебе предложил два новых фильма? Я скажу – да, ты делаешь карьеру! Только продай себя так дорого, как это возможно! Ты знаешь, чего ты стоишь. Не заключай контракта, пока лежишь в больнице, оставь мне вести переговоры, как всегда…
– Спокойной ночи, Маргарет! – сказал я.
Она взволнованно продолжала болтать, но я положил трубку. Она наверняка прижала ее к уху, как будто связь не прерывалась, продолжая говорить и затем нежно со мной прощаясь. Бакстеры, несомненно, ею восхищались. Какая она все-таки жена! Ее муж – человек искусства, а она существо, которое ему в верной и бескорыстной любви расчищает дороги, возносит его к славе, отодвигая на задний план свои собственные амбиции как актрисы, ведет переговоры и заключает контракты, которая сводит его с такими величинами киномира, как Джо Клейтон…
Самое смешное, что действительно это сделала она. Она была тем, кто завязал первые отношения между нами. И я был ей за это даже благодарен. Хотя в то время я был бы благодарен каждому, кто мне давал возможность работать, все равно, на кого и где, потому что за последние полтора года я не написал ни одной книги и мы находились в достаточно бедственном положении. Свою немалую долю в достижении такого шаткого состояния внесла и Маргарет.
Начиналось это совершенно безобидно, если не сказать – волнующе. Я был очень счастлив, когда она мне сказала, что у нее будет ребенок, и мы решили сразу же пожениться. Тогда я очень хотел ребенка, дом, семью. Это был тот период моей жизни, когда я чувствовал в себе сильные обывательские желания. Ее родители приехали на свадьбу в город. Это были простые милые люди Среднего Запада, они владели аптекой в городе под названием Луисвилль, штат Огайо. Маргарет написала им много обо мне и об удивительных вещах, которые я делаю в Голливуде, и они восхищались мною с почтенным благоговением. Они были рады этой женитьбе. Мне они понравились, особенно мать Маргарет.
Потом они, счастливые, вернулись в Луисвилль, а я начал жизнь в качестве супруга. Это было прекрасное время. У нас был чудесный врач, который наблюдал Маргарет, и ребенок делал замечательные успехи. Мои друзья приходили к нам в гости и принимали Маргарет с готовностью, дружелюбно и по-свойски, с той непосредственной естественностью, которая является отличительной особенностью социальных отношений моей работы, где каждый может все, если он талантлив.
В мире и согласии мы жили совсем недолго. Затем Маргарет начала заботиться о моей карьере. Для того чтобы лучше понять нижеследующее, я должен также заметить, что в Голливуде, впрочем, точно так же, как и везде, где создается кино, господствуют ужасные близкородственные отношения. Люди кино общаются с людьми кино, и единственная тема, которой они владеют, называется кино. Нет ничего иного. О кино говорят денно и нощно, на улице, в ресторане, в клубе и в постели. Говорят о ролях, актерах, сюжетах, интригах, гонорарах и будущих проектах. Это болезнь. Это особенный вид эксгибиционизма, помешательство на разоблачениях и слухах, чего нет ни в одной другой профессии.
Врачи и инженеры, физики и адвокаты имеют еще и другие интересы, они пишут музыку или собирают почтовые марки, они понимают в этом толк, и после окончания рабочего дня они отключаются. Другое дело – люди театра и кино. Они никогда не отключаются от своей работы, у них нет других интересов, никаких занятий для достижения равновесия, они должны всегда говорить о том, что ими движет, днями и ночами, из года в год. Они должны общаться, они должны выставлять себя голыми, как есть, они должны говорить о себе и своей работе. Они действуют друг другу и самим себе на нервы тем, что иногда пытаются убежать от этой чумы: они выезжают за город и в глушь – и возвращаются через несколько дней оголодавшими и с жаждой к знаниям, воодушевленные одним-единственным желанием узнать, что нового случилось в их отсутствие.
И в этом мире жила Маргарет. Она и раньше жила в нем, но только в качестве милой маленькой девочки, которую могли выбирать и взять с собой на какую-нибудь вечеринку, где она спокойно и застенчиво пила свою водку и служила украшением мужчины, который ее привел с собой. Но теперь она жила в этом мире, так сказать, на равноправных началах. Рабочая аристократия кино, единственная аристократия, которую знает кино, признала ее в ее новом качестве – как жену писателя Джеймса Элроя Чендлера.
В качестве жены писателя Маргарет скоро сделала опьяняющее открытие: она больше не была милой маленькой девочкой, которую могли выбирать и взять с собой на какую-нибудь вечеринку, где она спокойно и застенчиво пила свою водку и служила украшением мужчины, который ее привел с собой. Теперь с ней разговаривали, к ней прислушивались, люди оборачивались и дружелюбно ей кивали, когда она говорила.
Я хочу попытаться быть справедливым. Она никогда не говорила о себе. Она никогда не пыталась выдвинуть себя на передний план, подчеркнуть свой талант, заинтересовать собой. Ах, даже если бы она это делала! Как это было бы приятно, как безобидно и безопасно! Она делала нечто много худшее: она говорила обо мне. Она пыталась выдвинуть меня на передний план, подчеркнуть мой талант, сделать меня интересным. И это было ее непростительным грехом. Потому что если есть неписаный закон в этом особом, ирреальном и подозрительном призрачном мире кино, то он таков: ты можешь говорить плохо обо всем человечестве, но никогда не превозносить себя самого или своих близких. Твой талант должны обнаружить другие, но не ты сам. Извне – да, это другое, об этом заботятся твои менеджеры и агенты, но никто не воспринимает всерьез ни слова «из дома». Внутри же, там, где сидят твои коллеги, ты можешь говорить только о своей работе, но не о своих заслугах. Друг перед другом мы все бедные и обнаженные, изнуренные и уставшие. Люди, которые в такой обстановке накидывают себе на плечи пурпурную мантию исключительности, приходятся не ко двору. Их избегают. Один эксгибиционист не будет держать зла на другого, если тот даст ему понять, что он обнажился больше него.
Но это было как раз то, что начала делать Маргарет. Она поносила коллег, и это было в порядке вещей. Но кроме этого, она рекламировала меня, и это было совершенно недопустимо. Тут шутки кончались. Я ее сразу же попросил оставить все как есть, и она мне это пообещала, но не смогла сдержать свое обещание. Она не могла придержать язык. «Если бы вы только позволили Джимми» – был ее крылатым выражением.
Если бы вы только позволили Джимми, то вскоре положение братьев Уорнеров стало бы иным. Если бы вы только позволили Джимми, то последний фильм с Бетти Дэвис не провалился бы. Если бы вы только позволили Джимми, то Гордон Маккейт в своей последней книге написал бы роль не для Роберта Монтгомери, которого все так критикуют, что бедный Роберт, который, к сожалению, не знает, что для него хорошо, должен был бы просить и умолять о новом контракте. Джимми сделает гораздо лучше это и предотвратит то, Джимми предсказал какое-то событие еще год назад, и уже три года у него в шкафу лежит рукопись, идею которой у него хотела украсть кинокомпания «Фокс». Джимми в сто раз лучше, чем все остальные авторы, включая присутствующих, и только из-за его собственной лени, а также тупости окружающего его мира он каждый год не получает премию «Оскар» за лучший сценарий. Да, если бы вы только позволили Джимми!
Я еще раз попытаюсь быть справедливым. Я снова должен сказать, что Маргарет никогда не делала все это из личных интересов. Она постоянно с горечью слышала, что не обладает ни каплей актерского таланта. Можно ли поэтому удивляться, что свои собственные амбиции она перенесла на своего мужа, что она хотела его видеть значимым, знаменитым и пользующимся успехом? Было ли что-нибудь еще более трогательное? Было ли что-нибудь большим доказательством ее любви? И, господи, было ли что-нибудь еще более ужасное?
Наконец я дал ей понять, что сыт ею по горло, и она, по крайней мере при мне, стала воздерживаться от восхваления Джимми. Но вскоре мне рассказали, что в мое отсутствие она стала еще больше трубить в свой тромбон песню «Если-бы-вы-только-позволили-Джимми». Половина моих друзей действительно были недовольны, а остальные иронически подмигивали мне: замечательная идея – сделать жену рекламным агентом, а самому в качестве протеста всегда поднимать невиновные руки. Они меня злорадно поздравляли. Где угодно, при любых продюсерах подобные гимны всегда звучали и приносили успех. Что они, коллеги, меня этим обижали, им уже было не важно.
Наши первые ссоры начались из-за сложившего таким образом положения вещей, из-за этого пролились и первые слезы Маргарет. Она желала мне только добра. А я не хотел ее понять. Она плакала навзрыд, я стыдился и просил прощения, она обещала больше никогда этого не делать, а я подозревал, что она нарушит свое обещание. Я оказался прав. Катастрофа, к которой это в конце концов привело, была следствием ее нарушенного обещания.
Это случилось в 1991 году, весной.
Маргарет как раз была на последних месяцах беременности, когда мы увидели премьеру «Смерть – это женщина». Фильм был основан на идее, которая пришла мне в голову еще в 1938 году. Тогда у меня был заключен прочный, хорошо оплачиваемый контракт с кинокомпанией Уорнеров. Они купили идею и заказали мне сценарий. Это был психоаналитический триллер с главной ролью для Дороти Макгуайр. Когда я отдал сырой сценарий, все были разочарованы. Я не справился. Они были очень вежливы со мной и сразу усадили меня за другой сценарий. Мою рукопись они отдали переработать Доре Томпсону.
Такое часто случается, это прямо-таки правило. Тогда это со мной случилось в первый раз, и мне это было неприятно. Для бедной Маргарет это было светопредставлением. Она не могла этого пережить. Когда я ей об этом сообщил, она забилась в истерике. Она ожесточилась и озлобилась. Она больше не здоровалась с бедным Доре Томпсоном, когда его видела, как будто он мог что-то сделать. Она поносила его в обществе, она рассказывала о нем разные истории. Я думал, что частично ее горе было связано с тем, что тогда ей в первый раз пришло в голову, что я, возможно, действительно самый что ни на есть посредственный писатель и никогда не сделаю карьеру.
Первый показ фильма прошел вечером 23 февраля.
В этот день было очень холодно. Маленькое помещение, где проходил показ, было плохо натоплено и переполнено людьми. Был приглашен весь творческий и технический коллектив фильма, руководство производства, режиссер и лично Джек Уорнер.
Маргарет к этому времени была уже довольно бесформенной, отчего она страдала и чего уже не могли скрыть специально для этих целей купленные платья. Она была неспокойна, раздражена и неуверенна. Она отчаянно улыбалась своей прежней улыбкой Мадонны на все стороны, и от нее не укрылось, что многие люди больше не улыбались ей в ответ.
Потом мы посмотрели фильм. Она толкнула меня и презрительно кашлянула, когда появились титры: «Сценарий: Доре Томпсон, по мотивам повести Джеймса Элроя Чендлера».
– Псст, – я отчаянно сделал ей знак.
– А что! – шикнула он презрительно.
– Маргарет, прошу тебя!
Потом в течение девяноста минут она была спокойна. Спокойна почти до жути, подумал я. Она сидела, сложив руки на животе, и смотрела вперед на мерцающий экран. Ее спокойствие меня настораживало все больше по мере того, как становилось понятно, что фильм был нехорош. Я говорю это не потому, что мой сценарий был отклонен. Фильм действительно был плохой, последующие критические статьи и его прием публикой подтвердили это. Доре Томпсон сделал неудобоваримое, пространное литературное недоразумение из сюжета, основными предпосылками которого были головокружительность, действие и напряжение. Конечно, в тот вечер это абсолютно не имело значения. В мире кино это табу – после показа нового фильма всех его участников поздравляют с мастерским произведением при любых обстоятельствах. Если это табу нарушить, впредь никакие грехи тебе прощены не будут. Я предполагаю, что тогда именно это и явилось причиной – или, по крайней мере, одной из причин – того, почему начались всеобщие поздравления и рукопожатия, когда наконец снова зажегся свет.
Маргарет сидела с белыми губами и не смотрела на меня. Она продолжала сидеть, когда я встал, чтобы принять участие в разговоре, начавшемся вокруг. Ей ее сидение на стуле прощалось, о ее состоянии было всем известно.
Сначала я подошел к Дороти Макгуайер:
– Чудесно, действительно чудесно, Дороти. Я поздравляю вас. Это была ваша лучшая роль.
– Ах, Джимми, как мило, но вы преувеличиваете!
– Нет, действительно, Дороти, я вам клянусь! Вы со мной согласны, мистер Уорнер?
Старый Уорнер медленно кивнул и с улыбкой погладил руку Дороти:
– Да, детка, я чрезвычайно доволен вами.
– Я тоже, Дороти! – Это был Доре Томпсон. Он поцеловал ей руку. – Я в восторге.
– Доре, – сказал я, – это была моя идея, а затем мистер Уорнер дал рукопись вам, но я надеюсь, что вам особенно отрадно будет услышать из моих уст, что вы проделали великолепную работу.
– Спасибо, Джимми, спасибо! Я действительно этому рад!
И так далее.
Официанты принесли напитки, все курили, и почему-то никто не решался покинуть маленькую холодную комнату. Так было всегда. С фильмами, которые всеми не воспринимались как безупречные, особенно. Переходили от одной группы к другой и говорили друг другу любезности. Это была скромная роскошь. Нелюбезностей слышали достаточно. И это старая прописная истина, что люди искусства живут больше за счет аплодисментов, чем за счет своего хлеба насущного.
Джек Уорнер ходил туда-сюда, по-отечески улыбался и разговаривал со всеми как со своими детьми. Я пытался на всякий случай держать его подальше от Маргарет, которая сидела среди группы второстепенных актеров, но мне это все-таки не удалось. Уорнер подошел к ней. Ему с почтением освободили место, и круг снова сомкнулся вокруг него, еще плотнее, чем прежде. Я был отделен от Маргарет.
– Ну, миссис Чендлер, – сказал старый Уорнер и поцеловал Маргарет руку с немного комичной, но сердечной галантностью, – а как вам понравился фильм?
У меня на лбу крупными каплями выступил пот. Стало тихо, и Маргарет, нарушив тишину, сказала громко и холодно:
– Я нахожу, что он воняет.
«О боже! – подумал я. – Боже мой, нет, только этого не хватало!» Я закрыл глаза. Я услышал, как Доре Томпсон засмеялся. Затем я услышал голос Джека Уорнера:
– Но, миссис Чендлер, мы все находим его великолепным!
Я снова открыл глаза. Я увидел свою жену – с лихорадочно красными щеками, руки сложены вокруг бесформенного живота, сидящую прямо, кивающую головой. Медленно и со зловещим достоинством она сказала:
– Я нахожу его ужасным.
– Но наша Дороти…
– Это не касается мисс Макгуайер, – произнесла Маргарет, – это касается ужасного сценария. Если вы, мистер Уорнер, имели хотя бы на пять центов понятия и взяли сценарий моего мужа, то сейчас у вас был бы фильм, достойный вложенных средств. – Она посмотрела на Доре. – Мне жаль, мистер Томпсон, но это моя точка зрения. – И добавила, обращаясь к Джеку Уорнеру: – Вы потеряли на этом много денег!
Господи, благослови ее, она была абсолютно права, общество действительно потеряло на фильме «Смерть – это женщина» много денег. Но тогда этого еще никто не предполагал. И никто этого не хотел знать.
Маргарет встала. Ей уступили место, отчужденно и холодно. Полная высокомерия, она несла свое бедное бесформенное тело. Со своей улыбкой Мадонны она подошла ко мне.
– Рой, – сказала она, – я хочу домой.








