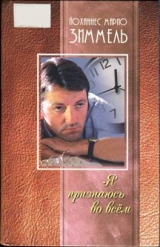
Текст книги "Я признаюсь во всём"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
– Мне что-то попало в глаз.
Мой автомобиль стоял шагах в двадцати.
– Пожалуйста, пропусти меня, – сказал я малышке. – Я спешу.
Она отступила в сторону, затем побежала за мной:
– Дядя! Дядя!
Я остановился:
– Что?
– Мне жалко тебя, – сказала она. – Я подарю тебе что-нибудь! – Она вытащила из-под фартучка грязный бумажный пакетик и грязными пальчиками достала из него грязную карамельку. – На, она с начинкой!
– Спасибо, – сказал я.
– Положи ее в рот.
– Попозже.
– Нет, сейчас. Я хочу посмотреть!
Я сунул карамельку в рот. Я чувствовал ее на языке, она была липкой и гладкой. Желудок сразу свели спазмы. Я отчаянно сглотнул. Потом чудовищных размеров черная стрела вонзилась мне в глаза, ударив прямо в зрачки. Я вскрикнул и упал. Черная стрела взорвалась, и этот взрыв ослепил меня. Я почувствовал, как моя голова стукнулась о камень, и слышал, как испуганно закричала маленькая девочка. Хельвигу я так и не позвонил, подумал я. Потом я провалился в бездонную шахту колодца глубокого обморока.
4
Это был мой первый приступ.
Я часто и охотно заставлял героев моих сценариев – и в первую очередь героинь – в соответствующих случаях эффектно падать в обморок, но для меня самого это было абсолютно новое и захватывающее ощущение. Даже больше: это было самое прекрасное ощущение в моей жизни.
Мой первый обморок своим совершенством, безмятежным состоянием мира и беззаботного душевного спокойствия не мог сравниться ни с одним другим ощущением, которые я испытывал. Если есть рай, то я был в раю, и если смерть хоть немного так же чудесна, как обморок, который со мной случился, тогда мои последние часы будут полны ожидания и станут самыми счастливыми в моей жизни.
Не было никаких снов, никаких лиц, надо мной не проносились в замедленной съемке значимые события прошлого. Я не слышал никаких голосов и никакой музыки. У меня не было никаких кошмаров, никакого состояния подавленности.
У меня было состояние мира. Состояние полного блаженного мира, о котором, насколько я помню, в Библии упоминается чаще всего. Мира, который окружил меня со всех сторон и не пропускал ко мне ничего, что могло вызвать во мне ощущение тяжести или угнетения: воспоминания, осознание, бремя автоматического мыслительного процесса мозга. Вероятно, это то чувство, которое стремятся ощутить люди, нюхающие кокаин или курящие гашиш, люди, обреченные на зависимость от наркотиков; вероятно, это такое состояние, которое они оберегают и хранят как тайное сокровище. Если это так, тогда я могу понять их – всех тех, кто подделывает рецепты и становится вором, тех, кто покидает свои семьи и спускается в грязные подвалы, чтобы унизить себя, – их всех я теперь могу понять, если они тоскуют по этому состоянию умиротворенности, по этому счастливому состоянию избавления, которое оно приносит. После моего обморока я стал их братом, я чувствую так же как и они, и я с тоской вспоминаю мгновения моей величайшей слабости, как с тоской вспоминаю о счастье моего давно ушедшего и давно забытого радостного детства. Я не знаю, все ли обмороки у всех ли людей так чудесны – но мой был таким. И поэтому я ожидаю смерть почти с нетерпением, в надежде, что она хоть немного похожа на него. Тогда – непосредственно перед тем, как я очнулся, – в течение короткого сумасшедшего момента у меня было ощущение, что она меня уже настигла, что я уже нахожусь в ее владениях. Но это было заблуждение. Сразу же после этого мое сознание вернулось, и ворота рая закрылись за мной. Я всего лишь побывал там в гостях.
5
Я лежал на белой кровати в большой белой комнате. В этой комнате все было белым. Стены, мебель, шторы, двери. И даже человек, который сидел на моей кровати и наблюдал за мной, когда я открыл глаза, был белым. На нем был белый халат, и у него были белые волосы.
Я долго молча смотрел на него. Затем мой взгляд скользнул по помещению к окну. На улице светило солнце. Свет больно ударил мне в глаза, и я отвернулся.
– Головные боли? – спросил человек.
– Да.
– Боль в глазах?
– Да.
– Гм, – сказал он. Затем улыбнулся. – Мистер Чендлер?
– Да.
– Моя фамилия Ойленглас.
– Очень приятно, – сказал я. Потом я наконец вспомнил, что хотел спросить: – Где я?
– В «Золотом кресте».
– В бо… бл… би… – Я испуганно замолчал. Я хотел сказать «в больнице», но не мог выговорить это слово.
Ойленглас взглянул на меня:
– Простите?
– В бо… бо… бо… – Я потел, в висках у меня шумело, я чуть не плакал: я лежал здесь, бедный лепечущий идиот, который не мог выговорить слово «больница»! Господи, что со мной случилось?!
– Вы не можете выговорить слово? – спросил Ойленглас. Я ненавидел его за этот глупый вопрос.
Я потряс головой.
– Но вы знаете, что вы хотите сказать?
Я кивнул.
– Попытайтесь еще раз!
Я попробовал еще раз. Это было ужасно, у меня на глазах выступили слезы.
– Помогите же мне! – закричал я.
– «В больнице», мистер Чендлер, – спокойно и дружелюбно сказал Ойленглас.
После этого я наконец-то смог выговорить это слово, что было просто физическим наслаждением:
– В больнице!
– Ну вот, – сказал Ойленглас.
– Что это означает?
– Простите?
– Что это такое, что сдерживает меня, что мешает мне выговаривать слова?
– Это пройдет, мистер Чендлер.
– Я хочу знать, что это!
– Это называется литеральная парафазия, – с готовностью сказал он. Он распознал во мне интеллектуала. Интеллектуалам необходимо всегда все разъяснять. Если затем он сочтет, что все понял, он почувствует облегчение. – Ваш мозг сбит с толку. Какой-то мускул в речевом центре раздражен и не может правильно функционировать. Раздражение утихнет. Это все, мистер Чендлер.
– Ага, – сказал я. Я считал, что все понял. Я почувствовал облегчение. Теперь я видел его лицо лучше. Мои глаза, которые сначала были подернуты пеленой, опять функционировали безупречно. Ойленглас носил сильные очки, и у него было узкое загорелое лицо ученого.
– Вы пережили небольшой несчастный случай. Вас привезли сюда, к профессору Вогту. Я его ассистент.
– Вогт? – Я смутно помнил это имя. – Хирург?
– Да.
– Что это значит? – Я приподнялся. – Почему я здесь?
– Для обследования. – Он опять уложил меня на подушку.
– Кто привез меня сюда?
– Ваша жена, мистер Чендлер.
– Так, – сказал я. Потом я немного помолчал, раздумывая. Я пытался вспомнить. Но пока все события были стерты из памяти.
– Сначала вы прибыли на станцию неотложной помощи, – сказал Ойленглас. – Затем известили вашу жену, и она велела перевезти вас в клинику.
– Когда это было?
– Вчера.
Неожиданно я почувствовал, что на меня опять мощной волной накатываются все жизненные бедствия и невзгоды. Я закрыл глаза.
– Какой сегодня день?
– Понедельник.
– А который час?
– Что-то около обеда.
– Этого не может быть! Я точно помню… – начал я, но осекся. Я ничего не помнил.
– Вчера около пяти часов вас доставили на станцию неотложной помощи. Вы были без сознания, мистер Чендлер. И достаточно долго.
– А потом?
– Мы дали вам снотворное, чтобы сделать ваш переезд в клинику приятнее.
Теперь блеснула искра воспоминания.
– Ио… Ио… Ио… – начал я. Опять! Я не мог выговорить ее имя! Господи, думал я, господи!
– Что, простите? – Ойленглас изучающе смотрел на меня.
– Ничего. Где меня нашли?
– В саду дома на Романштрассе, сто двадцать семь, – сказал он. – Я думаю, вы были там по служебным делам.
– Да, – сказал я. – У моей секретарши. Я пишу сценарий. – Я подумал и затем добавил: – Я должен был продиктовать ей две новые сцены.
– Она уже была здесь, – сказал Ойленглас.
– Кто? – спросил я с недоверием.
– Госпожа Иоланта Каспари, – ответил он. – Это же имя вашей секретарши, не так ли?
– Да, – сказал я. – Когда она была здесь?
– Сегодня утром. Цветы от нее. – Он показал на столик около кровати. Там стоял телефон, а около телефона – две цветочные вазы. В одной были красные гладиолусы, в другой – мальвы. Ойленглас показал на мальвы.
– Гладиолусы от вашей жены, – сказал он и опять взглянул на меня. У меня было чувство, что он улыбается.
– Чему вы улыбаетесь? – строго спросил я.
Он, не понимая, посмотрел на меня:
– Прошу прощения, мистер Чендлер?
– Я спросил, почему вы улыбаетесь. Что здесь смешного?
– Вы нервничаете, мистер Чендлер. Я не улыбался.
– Так, – отрезвленно сказал я. Вероятно, он действительно не улыбался. Я нервничал. – Извините меня.
– Конечно, мистер Чендлер. Вы прекрасно говорите по-немецки.
– Мои дед и бабушка были немцами. В нашей семье немецкий был вторым языком.
– Вот как! – Теперь он действительно улыбался. Но это была дружелюбная улыбка врача. – Обе дамы придут еще, – пояснил он. – Ваша жена – сразу же, как только мы сообщим ей о вашем пробуждении, а госпожа Каспари – после обеда.
– Спасибо, – пробормотал я. Голова окончательно стала ясной. Даже боли впервые за долгое время полностью исчезли. Я сел, заметив при этом, что на мне чужая пижама, и энергично откашлялся.
– Так, – сказал я. – Теперь все мои пять чувств в норме. Пожалуйста, не могли бы вы сообщить мне, что со мной и почему меня надо обследовать? Вообще-то я должен срочно продолжить работу. Моя фирма будет меня везде искать.
– Ваша фирма извещена еще ночью. Мистер Клейтон, – он достал из кармана листок и прочитал фамилию американского продюсера, для которого я работал, – зайдет около семнадцати часов. Если хотите, можете позвонить ему на работу. Он передавал вам привет и просил не волноваться. Все в полном порядке.
Вошла симпатичная светловолосая медсестра. Она принесла стакан с какой-то жидкостью янтарного цвета и дружески со мной поздоровалась.
– Выпейте, – сказал Ойленглас. – Вам понравится.
Я выпил. Мне действительно понравилось. Жидкость была холодной, освежающей и пощипывала язык.
– Что бы вы хотели на обед, мистер Чендлер? – спросила симпатичная медсестра.
– Черт побери, – сказал я. – Я что, в отеле?
– Почти, мистер Чендлер. Вы лежите в частном санатории. И мы хотим сделать ваше пребывание здесь настолько приятным, насколько это возможно.
– Вы голодны? – спросил Ойленглас.
Я долго и серьезно размышлял над этим вопросом.
– Очень, – затем констатировал я.
– Прекрасно, – сказал врач.
– Что же есть в наличии?
Светловолосая медсестра перечислила. Я заказал ненормально обильный обед.
– Итак? – спросил я, когда она закрыла за собой дверь. Я уже перенял от Иоланты технику прерывания разговора. Ойленглас был в состоянии следовать за моей мыслью.
– Мы еще не знаем, что с вами. Беглое обследование показало симптомы типичного нервного срыва со всеми вытекающими последствиями. В последнее время вы много работали, сказала ваша жена.
– Да.
– Вот именно! Отсюда вытекает… – Он замолчал и неопределенно махнул рукой.
– Что?
Он поразмыслил, начал говорить, и то, что он в итоге сказал, без сомнения было тем, что он хотел сказать с самого начала:
– Эти головные боли, мистер Чендлер… Вы можете их точно описать?
Я описал.
– Так, – сказал он. – Я слышал, в Соединенных Штатах вы были уже у многих врачей?
– Да. Они констатировали всегда одно и то же.
– А именно?
– Ничего. Они говорили, что это вегетативный невроз.
– Ага. – Он улыбнулся. – Вероятно, так оно и есть. Вы постоянно принимаете только болеутоляющие порошки?
– Только порошки.
– Какие?
Я сказал. Он опять кивнул:
– Мистер Чендлер, вы делали когда-нибудь рентген – я имею в виду вашу голову?
– Нет, никогда. – Я тревожно взглянул на него. – А что? Вы думаете…
– Мы ничего не думаем, мистер Чендлер. Еще слишком рано что-нибудь думать. – Он помедлил и затем дружески взглянул на меня. – Я хочу быть предельно откровенным.
– Я прошу вас об этом.
– Ваша жена высказала серьезную озабоченность. По-видимому, она слышала, что такие симптомы, как у вас, при определенных условиях – я подчеркиваю: при определенных условиях! – могут вызвать более серьезные изменения, гм, мозга, поэтому она очень просила провести общее обследование состояния вашего здоровья.
– Изменения? Какие изменения?
– Их может и не быть, мистер Чендлер, может и не быть. В большинстве случаев обследование показывает полную безобидность симптомов…
– Да-да, – сказал я. – Что это за изменения?
– …и даже если результаты плохие, с помощью средств современной хирургии легкое…
– Господи боже мой, что за изменения?!
– Новообразования, – сказал Ойленглас.
– Вы имеете в виду – опухоль?
Он медленно кивнул:
– Да, мистер Чандлер, я имею в виду именно это.
6
Какое-то время в комнате было тихо.
Ойленглас внимательно посмотрел на меня:
– Вы хотели все знать, мистер Чендлер, – произнес он наконец, – и я вам сообщил это. Я повторяю: это может быть, но это не обязательно. В большинстве случаев подобного рода…
– Уже хорошо, – сказал я.
– …это действительно только мера предосторожности, если вы позволите себя обследовать в целях личной безопасности.
– Да-да, – сказал я.
– Теперь, раз уж мы об этом заговорили, я советую вам обязательно провести обследование, чтобы самому удостовериться. Чтобы вы в своем подсознании исключили даже саму возможность, что у вас есть…
– Моя жена попросила об обследовании?
– Да, она была очень обеспокоена.
– И сколько времени что-то подобное проводится?
– Вы должны остаться у нас на три-четыре дня.
– Это больно? Я довольно-таки труслив.
– Вряд ли это больно, мистер Чендлер. Это сложное обследование, но совершенно безболезненное. Мы сделаем энцефалограмму.
Это слово я уже однажды где-то слышал, но никаких приятных воспоминаний с ним не связывал.
– Энцефалограмму?
– Электроэнцефалограмму, – сказал он успокаивающе, сделав ударение на первую часть слова.
– А в чем разница?
– Раньше энцефалограмму делали таким образом, что пациенту закачивали воздух в мозг и по тому, как вел себя воздух, делали определенные заключения.
– Тьфу, черт!
– Не скрою, это было скорее неприятное, а кроме того, совсем небезопасное обследование. Обследование при помощи электроэнцефалограммы, напротив, приятно и абсолютно безопасно.
– Вы очень хороший психолог, – сказал я.
– Почему?
– Потому что вы хотите избавить меня от страха перед вторым методом, рассказывая плохое о втором.
Он усмехнулся и ответил, он никоим образом не преувеличивает: новый способ действительно безболезненный и является чистой формальностью. Затем он спросил, не согласился бы я на общее обследование.
– Конечно, – сказал я. Это было единственное, что я мог произнести. Если бы я сейчас не получил однозначного заключения о своем состоянии от одного из первых светил, то с моим душевным спокойствием было бы покончено.
– Очень хорошо, – сказал он и поднялся. – Тогда я сразу же извещу вашу жену. Я приду к вам во второй половине дня с профессором Вогтом.
Он кивнул мне и вышел из комнаты. Через минуту миловидная сестра принесла обильный обед, который я заказал. К большей его части я не притронулся. У меня пропал аппетит, и я попросил унести сервировку. Потом я позвонил Клейтону в офис.
– Привет, привет, привет, – весело завопил он.
– Добрый день, Джо, – произнес я.
Клейтон ни слова не говорил по-немецки. Он выучил только несколько слов приветствия. Это был толстый краснолицый делец, который во время войны занимался сталью и при этом завоевал доверие многих фирм, переживший конъюнктуру в период войны. После войны он основал в Голливуде независимую кинокомпанию и первым решил работать в Европе, после того как выяснил, что это можно сделать, потратив всего лишь долю тех средств, которые необходимы для съемок одного фильма в Голливуде. Суммы, в которых он нуждался, внесли его старые друзья-промышленники военных времен. Клейтон был деловым человеком, ничего не понимал в искусстве, и даже не притворялся. Впрочем, эта бесхитростность имела и свои отрицательные стороны: он постоянно принимал точку зрения того человека, с которым в последний раз говорил о какой-либо проблеме в искусстве. Это немного осложняло его работу.
– Очень жаль, что я доставляю вам неприятности, – сказал я по-английски, но он меня тут же перебил:
– Замолчите, Джимми! О каких неприятностях здесь может идти речь? Все в лучшем виде! Вы великолепно выполнили свое задание. Теперь премило оставайтесь в своей маленькой постельке и флиртуйте с медсестрой, ха-ха-ха!
– Это всего лишь на несколько дней.
– Как долго это продлится – не важно, даже не думайте об этом! Я к вам приду после обеда, Джимми. У меня есть хорошие новости! Ташенштадт прочел сырой сценарий, и он в восторге!
– Отлично! – ответил я. Ташенштадт был шефом одной немецкой кинопрокатной фирмы, которая должна была взять на себя съемку фильма.
– Сегодня утром от них пришло сообщение, – продолжал Клейтон. – Деньги переведены.
– Поздравляю.
– Спасибо. Видите, Джимми, все работает и без вас. Вам что-нибудь нужно? Могу я для вас что-нибудь сделать?
– Я думаю, нет.
– Я принесу вам бутылку виски, когда приду.
– Договорились!
– И отдохните, вы заслужили отдых, старина.
Я попрощался и положил трубку. Голос Клейтона звучал так чертовски весело, подумал я. Можно было подумать, что он был счастлив оттого, что я в больнице. Странно, очень странно. Но потом я пожал плечами. Чего я, собственно говоря, хотел? Стало бы мне лучше, если бы он неистовствовал?
Солнце теперь светило прямо на мою кровать, мне было тепло, уютно и клонило ко сну. Где-то тихо играло радио. Глубокий женский голос пел по-английски: «Я собираюсь в сентиментальное путешествие…»
Я знал эту песню.
Зазвонил телефон. Я поднял трубку.
– Вам звонок, мистер Чендлер, – произнес женский голос.
– Спасибо, – сказал я. В трубке раздался щелчок. – Алло?
– Алло, – это была Иоланта. Я лег на спину, прижал трубку к уху и не отвечал.
– Джимми, ты там?
– Да.
– Один?
– Да.
– Тебе уже лучше?
– Да.
– Я ужасно напугана, Джимми.
Я молчал.
– Это я виновата. Ты разволновался. Это было подло, то, что я сказала. Мне так жаль, Джимми. Ты меня прощаешь?
– …сентиментальное путешествие домой… – напевал женский голос.
– Джимми, ты меня слышишь?
– Да.
– И что?
– …семь, в этот час мы уедем, в семь…
– Да.
– Ты прощаешь меня?
– Конечно.
– …считая каждую милю железной дороги…
– Я только хотела тебя взбесить. В том, что я тебе сказала, нет ни слова правды, я тебе клянусь…
– …которые меня уносят, которые меня уносят…
– Уже все хорошо, Иоланта.
– Нет, не хорошо! Я слышу это по твоему голосу!
– …никогда не думала, что мое сердце может так тосковать…
– Мне все равно, Иоланта.
– Джимми!
– Возможно, у меня опухоль.
– Джимми!
– В голове. Опухоль. Я еще не знаю.
– …отчего я решила скитаться…
– Боже мой, боже мой, это же ужасно! Кто это сказал? Откуда ты знаешь? Тебя будут оперировать?
– Никто не сказал. Я вообще ничего еще не знаю.
– …я собираюсь в сентиментальное путешествие…
– Джимми, Джимми, позволь мне прийти к тебе, прямо сейчас, я возьму такси…
– Ни в коем случае.
– Почему?
– Потому что я этого не хочу.
– Потому что придет твоя жена?
– О господи, Иоланта!
– …сентиментальное путешествие домой…
– Но я должна прийти! Я должна тебя видеть! Я же люблю тебя!
– Прощай! – сказал я и положил трубку.
Женский голос допел песню до конца. Затем ожил диктор:
– Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати часам.
Я лежал на спине и смотрел на белый потолок. В дверь постучали.
– Войдите, – сказал я.
Это была Маргарет.
На ней был узкий английский костюм из блестящего черного материала, белая шелковая блузка и маленькая круглая черная шляпка с вуалью. Она нанесла немного румян и выглядела уставшей. Я сел на кровати, и она быстро чмокнула меня в щеку.
– Ну, гуляка, – сказала она по-английски.
Она плохо говорила по-немецки. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Я очень хорошо знал эту улыбку. Я знал ее по разным причинам. Все эти причины имели общее: в основе их лежали события, о которых Маргарет старалась не допускать и мысли. Если Маргарет чего-либо не желала признавать, то этого просто не существовало. Ее улыбка стирала это и заставляла исчезнуть навсегда. Это была улыбка холодного превосходства, улыбка прощения и благосклонного понимания. Это была королевская улыбка, и особенно хорошо она смотрелась в профиль. Я знал эту улыбку по премьерам, по интервью с критиками, по алкогольным ночам и семейным ссорам. Я очень хорошо ее знал.
– Я только что разговаривала с врачом, – сказала Маргарет. – Ты находишься в лучшей клинике. И я думаю, у нас у обоих камень с души упадет, когда мы удостоверимся, что ты абсолютно здоров, правда, Рой?
Она постоянно звала меня Роем, это была вторая часть моего имени. Я снова прилег и посмотрел на нее. Она торопливо говорила:
– Знаешь, меня напугали Бакстеры.
Бакстеры были ее друзьями, они жили на Химском озере.
– Это у Теда Бакстера возникла идея обзвонить больницы, когда ты не приехал, чтобы забрать меня. Боже мой, Рой, ты представить себе не можешь, что я почувствовала, когда они мне сказали, где ты был! Нет, ты не можешь себе это представить! Я думала, что упаду в обморок! Тед был так мил, он подвез меня до города. Он проехал всю дорогу, сто миль, он такой добрый! И по дороге мы говорили о твоих симптомах. Он объяснил мне, что это может означать. У него был дядя, с которым тоже сначала так было, а потом его оперировали и он ослеп на один глаз. О, прости, Рой, это так глупо с моей стороны, ты же знаешь, что я хотела сказать, правда? Это только потому, что он меня успокаивал, и потому что мы оба хотим быть уверены, правда?
Она посмотрела на меня взглядом, просящим с ней согласиться. Ее улыбка была чистой и полной просьбы о прощении.
– Маргарет, – сказал я. – Ты же знаешь, где меня нашли.
– Конечно, Рой. – Она достала из своей сумки журналы и газеты. – Я тут принесла тебе кое-что почитать. Свежий «Нью-Йоркер». Там есть несколько очень смешных картинок.
– Романштрассе, сто двадцать семь, – продолжал я. – Ты знаешь, кто там живет.
– Само собой, любимый. – Она дружелюбно улыбнулась. – А вот сегодняшняя почта. Эззарды опять едут в Майами. И как это люди умудряются, хотела бы я знать! – Она порылась в сумке и положила на кровать пару конвертов. – Робби пишет, что он сейчас у Уорнеров и работает для Сиодмака. Это очень хорошая карьера, правда?
– Маргарет…
– А тут несколько западных критических статей о твоем последнем фильме. Некоторые из них великолепны! Я принесла только самые лучшие. Остальные я выкинула, они были слишком глупы…
– Иоланта, – произнес я, – Иоланта Каспари. Моя секретарша. Я провел выходные с ней.
– Да-да, конечно, Рой. – Она сняла шляпку и положила ее на столик. У нее были черные волосы, гладкие и разделенные на пробор. Она скрестила ноги – ровные длинные ноги в светлых нейлоновых чулках. – Полагаю, мальвы от нее.
– Да.
Она понюхала цветы.
– Они не пахнут, – сказал я.
– Но они очень мило выглядят.
– Иоланта – моя любовница, – произнес я.
Она провела прохладной ухоженной рукой по моей щеке. Я был довольно небрит. Ее рука пахла дневным кремом «Элизабет Арден».
– Да, Рой, я знаю. Мы должны об этом говорить?
– Я бы хотел.
– Это очень мило с твоей стороны.
– Что?
– Что ты хочешь попросить прощения.
– Я не хочу просить прощения. Я хочу поговорить об этом.
Она улыбнулась:
– А я нет. Зачем? Я же знала об этом.
– Да?
– Да.
– И что?
– И я знала, что ты обставил бы это так же тактично, как всегда. Так осторожно, чтобы люди ничего не заметили. Чтобы я не страдала от этого. Так, как ты всегда это делал. Я полностью осознаю, что тебе неприятно впутывать меня в эту ситуацию.
– В какую си… си… са… сатиу… – начал я и от ярости и стыда закусил губы. Это случилось снова.
– Что такое, Рой? – испугалась она.
– Доктор называет это литеральной парафазией, – объяснил я. – Кажется, проходит. – Я глубоко вздохнул. – Что ты хочешь сказать?
– Конечно, о нас начнутся пересуды.
– Мне жаль.
– Я знаю, Рой. Но я не упрекаю тебя. Это была не твоя вина, что ты упал в обморок именно в палисаднике этой маленькой потаскушки. Это был форс-мажор.
– Да, это верно.
– Ты это сделал не преднамеренно. Ты не хотел меня специально обидеть. Мы не будем больше об этом говорить.
– О, нет, будем.
– Я не буду, любимый. – Она улыбнулась еще шире. – Ты сейчас со мной порвешь?
– Я еще не знаю.
– Конечно, ты должен подумать. У тебя будет время. А сейчас тебе нужен покой, это самое важное, профессор Вогт тоже это сказал. Ты не должен сейчас думать об этом. Это может плохо повлиять на обследование. И на твою работу тоже. Может, мы съездим ненадолго на Ривьеру, когда все закончится, как ты думаешь?
– Я ненавижу Ривьеру, – ответил я.
– Тогда я поеду одна. Я обещала Бакстерам слетать с ними в Париж. Они сняли восхитительный домик в Сент-Клоде, я видела фотографии.
– Маргарет, я хотел бы с тобой развестись.
– Любимый, ты частенько этого хочешь.
– Да, это верно.
Она посмотрела на часы:
– Боже мой, полчетвертого!
– Ну и что?
– Мне придется взять такси. Тед ненавидит, когда кто-то опаздывает.
– Ты договорилась с ним встретиться?
– Да.
– Где?
– В баре «Четыре времени года». Вера тоже там. – Вера была женой Бакстера. – Они хотят знать, как у тебя дела. Можно им к тебе прийти?
– Нет.
– Хорошо. Я приду завтра. А вечером я позвоню. Ах да, чуть не забыла! – Она порылась в своей огромной сумке и вытащила фотографию в рамке, где была изображена в белом купальнике на пляже Лос-Анджелеса. Она поставила ее перед гладиолусами. – Вот!
– Зачем?
– Так все выглядит гораздо лучше, Рой! – Она склонилась надо мной и поцеловала в губы. Она пахла свежестью и чистотой – «Пепсодентом», «Шанелью № 5» и мылом «Палмолив». – Ну, будь здоров. И посмотри «Нью-Йоркер». Он в этот раз действительно очень веселенький.
– Будь здорова, Маргарет, – сказал я.
Она пошла к двери. Узкий костюм подчеркивал ее безупречную фигуру. У двери висело зеркало. Она остановилась перед ним и поправила свою шляпку. При этом она с улыбкой посмотрела на мое отражение в зеркале.
– Разумеется, я никогда не разведусь, – сказала она. – Ты же знаешь это, любимый, не так ли?
– Да, – ответил я, – я это знаю.
– Отлично. – Она повернулась. – Тогда все в порядке.
Она послала мне воздушный поцелуй и вышла из комнаты. Остался свежий, чистый запах ее тела. Я заложил руки за голову и закрыл глаза. Я чувствовал себя уставшим и слегка ошарашенным. Вероятно, все еще сказывались последствия снотворного, которое мне дали.
Я попытался заснуть, но это мне не удалось. Через некоторое время я отказался от этих попыток и взялся за газетные вырезки, которые принесла Маргарет. Это были статьи критиков из провинциальных газетенок, которые ограничивались тем, что пересказывали содержание моего последнего фильма, сопровождая его какими-то глупыми комплиментами. Похвала такого рода не приносит никакой радости, потому что состоит из нескольких обычных фраз, показывающих, что рецензент и понятия не имеет, о чем он рассказывает.
Я взял «Нью-Йоркер». Это был действительно очень веселый номер, картинки были великолепны. Я посмотрел все. Среди них была новая картинка Чарльза Адамса. Оба чудовища его ужасной семейки обезглавливали куклу при помощи игрушечной гильотины. Это выглядело смешно. К тому же на последней странице номера я обнаружил критическую статью о моем последнем фильме. Она была самой рассудительной, остроумной и уничижающей, которую только можно было представить. Критик разобрал меня по косточкам. Я подумал, что Маргарет, возможно, не увидела статью, но быстро отверг эту мысль. Маргарет никогда ничего не упускала, особенно критику на мои фильмы. Она принесла мне этот номер «Нью-Йоркера» вполне осознанно. Это был один из многих способов отомстить мне.
Можно было точно проследить эту ее основную цель в последние годы: отомстить, отыскав те места, где меня можно было уязвить легче и больнее всего, а затем спокойно добить – точно, холодно и с дружелюбной улыбкой Мадонны. Я должен был быть для нее большим разочарованием. Она абсолютно мне доверяла…
Я уронил на пол «Нью-Йоркер» и стал думать о Маргарет.
Я познакомился с ней в 1940 году. Она была одной из бесчисленных девочек, которые населили Голливуд и походили друг на друга, как одно яйцо на другое: длинные ноги, великолепно сформировавшиеся тела и премилые личики. Честолюбивые и без денег. Всегда в ожидании шанса. Их можно было встретить на каждом коктейле и в каждом клубе. Я встретил ее на одном празднике, который устраивала Бетти Дэвис. Ее с собой привела Джерри Уальд. Маргарет выглядела великолепно, отлично танцевала, и я начал с ней флиртовать. В то время я был пятым соавтором одного детективного фильма Чарльза Лафтона. Она это знала. Мы достаточно много выпили, и я пригласил ее к себе домой, в небольшую квартирку в Беверли Хиллз. Она была юна, красива и пахла мылом «Палмолив», «Шанелью № 5» и «Пепсодентом». Я был довольно пьян, и она казалась мне страстной. Она сказала, что давно влюблена в меня, и хвалила мою работу. Когда она разделась и пришла ко мне в кровать, она дрожала всем телом и заикалась: мол, если я думаю, что она делает все это ради того, чтобы получить роль, то это заблуждение. Она, мол, идет на это по любви, поэтому я могу с ней делать все, что захочу. Это произвело на меня большое впечатление.
На следующий день она переехала ко мне, а через день я уже разговаривал с Ирвингом Уоллесом, нашим продюсером. Он позволил Маргарет что-то продекламировать, пройти пробы, и она получила маленькую роль. Лафтон был с ней мил. Но это не помогло. Это было настолько бездарно, что в конце концов в интересах фильма и по велению сверху сцены с ее участием были вынуждены свести к минимуму.
Она держалась очень мужественно, когда узнала об этом, и сказала, что она меня предупреждала и сама никогда не ощущала себя актрисой. В день показа она мне сказала кое-что еще. При этом она улыбнулась и нежно прильнула ко мне. На показе мы сидели в отдалении сзади, и она ждала, когда мы увидим ее на экране. И тогда она сказала мне, что была у врача и нет никаких сомнений.
У нее будет ребенок.








