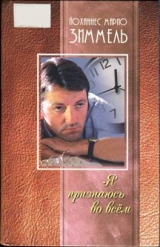
Текст книги "Я признаюсь во всём"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
9
Я не знаю точно, когда впервые осознал, что люблю Вильму. Вероятно, это не было неожиданностью. Когда такое случается, никто ничего не замечает, потом это становится все больше и сильнее, и когда человек это замечает, он давно уже является жертвой. Сначала ощущается приятное беспокойство. Человек еще не догадывается о причине этого беспокойства, но все тело уже устремлено к нему, оно уже готовится к чему-то новому, так же, как индикатор в химии определяет мельчайшее изменение в отношениях ионов в каком-нибудь растворе. Мозг самостоятельно интересуется вещами, которые человек не воспринимает своим сознанием. Сколько лет Вильме? Девятнадцать. Мне сорок пять. На двадцать шесть лет старше. Фантастика! Когда мне стукнет пятьдесят, она будет в два раза моложе меня…
Тут я вспомнил, что мне никогда не будет пятьдесят. Никогда не будет сорок шесть. Это безумие, настоящее безумие. Но это сладкое безумие, и оно опьяняет, как благородное вино. Всю неделю, которая следовала за нашим посещением театра, я почти ежедневно встречался с ней. Я присутствовал на всех репетициях. С бессовестностью человека, дающего деньги и с давних времен позволяющего себе тиранить художников, которых он финансирует, я высказывал свои пожелания, задавал вопросы, давал советы, которых никто не просил. Все были со мной очень внимательны, ко мне прислушивались.
– Да, господин Франк, мы точно такого же мнения, как и вы, – декорации второй сцены выглядят бедно. Но у Сузи больше нет полотна, чтобы сделать нормальные кулисы.
– Почему у нее нет полотна?
– Нет денег, – лаконично сказала Сузи, декоратор сцены, девушка с челкой и в больших роговых очках.
– Вот деньги, – сказал я. – Пойдите и купите полотно, Сузи.
– Спасибо, господин Франк, очень мило с вашей стороны!
– Мы, конечно, вернем все деньги! – сказал Феликс.
– Вы прелесть, господин Франк! – это Вильма.
Да, я был для них прекрасной сказкой, которую рассказывают детям, чтобы они хорошо спали. Один взмах моей руки – и Сузи радостная возвращалась с рулоном полотна. Я платил маленькому служащему – и начинали работать машины, чтобы красным и синим на чудесной белой бумаге напечатать афиши, которые потом наклеят на тумбы для объявлений.
«Студия 52», сообщалось в них, «представляет всемирную премьеру пьесы «У мертвых нет слез» Феликса Райнерта». Ниже стояли имена участников, расположенные по алфавиту. Ее имя тоже. Паризини. Вильма Паризини. Под деревьями Рингштрассе, уже сбрасывавшими листья, мы увидели первую из этих афиш – она и я. Мы как раз шли с репетиции домой. Первой увидела она.
– Там, – сказала она, затаив дыхание, – смотрите же!
Она показала рукой на другую сторону улицы. Затем она сорвалась с места и побежала, как маленький ребенок, через дорогу – почти прямо под автобус.
– Вильма! – закричал я.
Но она уже не слышала меня, и в следующее мгновение я понял, что бегу следом за ней, – я, Джеймс Элрой Чендлер, он же Вальтер Франк, разыскиваемый международным уголовным розыском, я, Вальтер Франк, который, если не повезет, умрет через год, а если повезет, то еще раньше. Я, Вальтер Франк, который все забыл, как только догнал ее, и стоял рядом с ней, тяжело дыша, как она, и видел, как она радуется, как она смеется, как горят ее щеки.
– О, господин Франк, я так счастлива, так счастлива! И это все благодаря вам! И когда я думаю о том, как я боялась, когда шла к вам несколько дней назад…
– Вы боялись, Вильма?
– Ужасно боялась, господин Франк!
И потом мы опять засмеялись, и я взял ее руку, и мы пошли дальше, по асфальту, по желтым листьям, мимо чужих домов чужого города, который казался мне таким близким в эти дни, как будто я в нем родился.
Да, я думаю, что действительно был для нее чудом. Если вечером шел дождь, я поднимал руку, останавливал такси, и оно отвозило нас домой. Она сидела за мной на заднем сиденье, огни улицы скользили по ее лицу, а она рассказывала мне тысячи историй, из которых я ни одной не запомнил, потому что все время думал только о том, как было бы чудесно поцеловать ее. Но я не целовал ее. Перед домом я прощался с ней и шел один под дождем обратно на Райзнерштрассе, в тихую квартиру графини, которую я снимал, и где меня ждала Иоланта.
Я был чудом. Для Вильмы, для ее друзей, для меня самого. Я приносил радость везде, где появлялся. Я, именно я! Занавес был старый и страшный? Что ж, тогда должен быть новый занавес! Слишком мало хороших кресел? Смешно, мы купим несколько новых! У Феликса нет темного костюма для премьеры? Феликс получал новый костюм. Он получал его от лучшего портного города через три дня.
Деньги творили чудеса.
Не я – деньги! Это я понял внезапно, однажды утром, когда сидел в зрительном зале театра и смотрел, как они с криками и смехом прикрепляют новый занавес. Деньги были источником всего хорошего. Деньги, из-за которых я обманул банк и которые инженер Лаутербах каким-то темным способом перевел в другую валюту. Грязные, проклятые деньги, в погоне за которыми я провел всю мою жизнь и которых мне до сегодняшнего дня всегда было недостаточно. Это были деньги, деньги, а не я! Да, если я имел деньги, мир лежал у моих ног, я мог покупать женщин и мужчин, любовь и власть. Деньги, деньги, деньги. Не я.
Я положил голову на сделанный под мрамор столик и закрыл глаза. Я ощущал себя сентиментальным дураком. Потом я услышал ее голос.
– Вам нехорошо, господин Франк?
Она стояла передо мной уже в костюме, с нарумяненными щеками, большим нарисованным ртом и накрашенными ресницами. Она склонилась надо мной, в глазах было беспокойство.
– Нет-нет, все хорошо, конечно. Что такое?
– О, господин Франк, мы тут подумали… Новый занавес нам не нравится. И он такой дорогой. Мы хотим вернуть материал, а Сузи разрисует старый золотой краской, и он будет выглядеть как новый.
– Конечно, – сказала декоратор, семнадцатилетняя Сузи. – Представьте, сколько денег мы сможем сэкономить!
– Вы действительно так считаете? – тихо спросил я.
– Да, еще бы! – закричал Феликс. – Мы вовсе не собираемся шиковать, если мы нашли вас и вы нам помогаете!
Я встал и опять почувствовал тяжесть в членах и тяжесть в голове, как будто я был пьян от южного вина.
– Дайте мне все сделать! – сказала Сузи. – Занавес, который я нарисую, вы не сможете оплатить всеми деньгами мира!
– Всеми деньгами мира, – повторил я.
– Вы мне не верите? – вызывающе спросила Сузи.
– Я? – сказал я и посмотрел на всех. – Я вас люблю!
– Мы тоже любим вас! – сказала Вильма.
10
Да, так это начиналось – в эти осенние дни, которые предшествовали премьере. Однажды в среду она пришла ко мне. До этой среды я жил как во сне. Это был короткий сон, он длился три недели, а затем закончился. Но это был прекраснейший сон моей жизни, и если я думаю о том, что было перед этим, вся подлость и вульгарность последних месяцев спадает как шелуха при воспоминании об этих трех неделях, счастливейших в моей жизни.
Я думаю о них ночью, когда я лежу с открытыми глазами, днем, когда сижу за письменным столом, они светят мне из всей грязи, и когда я закрываю глаза, я вижу, как все было, каждую мелочь, каждую улыбку, каждое прикосновение ее руки.
Я никогда не владел ею, но она была мне близка, и я любил ее больше, чем любую другую женщину в моей жизни. Я думаю, она знала это. Мы никогда не говорили об этом, но по ее манере поведения, по тому, как она иногда смотрела на меня и говорила со мной, я мог понять, что она догадывалась, о чем я никогда не говорил из-за того, что времени было слишком мало и смерть следовала за мной по пятам.
Я не знаю, где она сегодня. Но если есть бог на свете, он сделает так, чтобы она была счастлива, – за то счастье, которое она дала мне, прежде чем вокруг меня станет окончательно темно и холодно. Если есть Бог на свете, он вознаградит ее добром за все добро, которое она сделала для меня, не зная об этом.
В течение дня, с девяти до четырех, она была в офисе, и я не мог ее видеть. Но я звонил ей. Из телефона-автомата, тайно и изменяя голос, чтобы меня никто не узнал.
– Пожалуйста, могу я поговорить с госпожой Паризини? – Я казался себе школьником, как будто все еще ходил в колледж и звонил моей подружке Клодетт, ассистентке зубного врача.
– Минутку, – говорил молодой человек в офисе, который отвечал на телефонные звонки. Он был очень подозрителен. Но я не верил, что он что-то замечает. А потом я слышал ее голос, этот детский, немного ломающийся голос с постоянно вопросительной, немного удивленной интонацией:
– Алло?
– Это Франк.
– О, добрый день! – Она не называла меня по фамилии, это было наше безмолвное соглашение, у нас была общая тайна, самая сладкая и самая невинная тайна в мире.
– Я как раз неподалеку и подумал – может, мы могли бы увидеться?
– Да, было бы прекрасно.
– Как всегда? За углом в маленькой кондитерской?
– Да, хорошо.
Все самое главное должен был говорить я, она могла только односложно отвечать: молодой человек следил.
– В четыре?
– Да, хорошо.
– Я рад, Вильма.
– Да, хорошо.
– Всего хорошего.
– Да, хорошо.
В четыре я сидел в маленькой кондитерской за углом, которая была всегда пуста и всегда немного пахла нафталином, в которой были выставлены всегда одни и те же торты и всегда одна и та же кошка проходила по залу – неприступно, величественно, высокомерно. Я сидел там, пил вермут, и при каждом стуке каблучков по брусчатке тихого соседнего переулка вскакивал с места, и при виде каждой женщины, которая проходила мимо выложенных на витрине пирожных, приподнимался в кресле, пока не приходила она, со своей вместительной сумкой на ремне, в которой таскала бесчисленное количество вещей – бутербродов и записей ролей для радиопередач до шелковых чулок, на которых надо было поднять спущенные петли. Хозяйкой кондитерской была пожилая женщина с внешностью сводни. Она сияла, подходя к нашему столику, и каждый раз задавала один и тот же вопрос: «Что сегодня принести молодой даме? И каждый раз получала один и тот же ответ: «Горячий шоколад со взбитыми сливками и три порции клубничного торта».
Иногда Вильма заказывала четыре порции. Это был ее любимый торт. Перед тем как заказать еще одну порцию, она всегда испытывала угрызения совести.
– О, господин Франк, я действительно не знаю, должна ли я съесть еще порцию торта!
– Почему нет, Вильма, вы же его любите!
– Да, но все это стоит ужасно дорого.
– Я могу еще себе это позволить, – говорил я. И она заказывала еще один кусок торта. А я заказывал еще один вермут.
– Я знаю, что не должна этого делать, – начинала она опять.
– Прекратите сейчас же, Вильма!
– Нет, не только из-за денег. Но и из-за фигуры. Как актриса я должна всегда следить за своей фигурой.
– Вы не должны следить за своей фигурой!
– Должна, господин Франк! За последний месяц я прибавила килограмм! Верите?
– Ни за что!
– Да! Это ужасно! Я не знаю, что будет дальше. Мне уже малы мои вещи.
– Смешно.
– Нет, действительно, вы только посмотрите на юбку! – Она приподняла кофточку и крутнулась передо мной. – Вот, пожалуйста! А пуловер? Смотрите!
Она стояла передо мной так близко, что можно было схватить ее, и показывала, насколько мал ей ее пуловер. А я сидел и смотрел на пуловер и на маленькие крепкие груди, которые в двух местах растягивали петли блузки, так, что я мог видеть белое нижнее белье.
– Пожалуйста, вы сами видите!
Милый боже, думал я. Милый боже на небесах!
11
В субботу ей не надо было идти на работу, Лаутербах дал ей выходной. Она сказала мне это в пятницу вечером, когда я отвозил ее домой.
– Я тоже завтра свободен, – сказал я. Я подумал о Иоланте, но она была мне безразлична. – Не могли бы мы провести время вместе?
– Да, вообще-то я хотела… – начала она.
– Что вы хотели?
– У меня передача на радио, – сказала она. Мы стояли у подъезда дома, в котором она жила, опять шел дождь, на ней было пальто, в котором она пришла ко мне в первый раз, и тот же самый платок. От вида этого платка я сходил с ума, при каждом вдохе у меня болело сердце так, как будто хотело разорваться.
– И что?
– Мне еще надо выучить роль.
– Давайте учить вместе.
– Да, но я не знаю…
– Что вы не знаете?
– Я всегда хожу в лес учить роли, – сказала она. – Дома я произвожу слишком много шума. Соседи жалуются, у нас такие тонкие стены.
– Идиоты, – зло сказал я.
Она кивнула:
– Верите, они однажды вызвали полицию.
– Нет!
– Да. Я тогда учила «Вознесение Ханнеле». Сцена, в которой умирает бабушка, знаете? Я допускаю, что учила несколько громко. «Бабушка, – кричала я, – бабушка, не умирай, бабушка, ты не можешь умереть, ты слышишь меня, бабушка?»
У меня так болело сердце, что мне казалось, я умираю. Я решил дышать реже.
– И? – спросил я.
– И через двадцать минут приехала полиция. Они подумали, что моя бабушка действительно умирает.
– Хм, – сказал я и перестал дышать.
– Хотя она уже десять лет как умерла.
– Мне жаль, – вежливо сказал я.
– Спасибо, – ответила она. – Тогда встретимся завтра утром в восемь у остановки трамвая, да?
– Какого трамвая?
– Линия сорок шесть, – сказала она. – Перед «Беларией». Вы найдете?
– Конечно.
Я нашел. Я взял такси и назвал место. Но я попросил шофера остановиться кварталом раньше и последний отрезок пути прошел пешком. Я не хотел, чтобы Вильма считала меня капиталистом.
Она была уже там и кивнула мне. День был прекрасный, небо безоблачное и голубое. Светило солнце, но дул сильный восточный ветер. На Вильме был коричневый костюм. В этот раз она оставила платок дома. Но сумка была с ней, и была туго набита. Там лежали бутерброды, как она мне объяснила в трамвае, который вез нас через западный пригород к венскому лесу.
– Бутерброды с чем?
– С салями, сыром и колбасой. Вы какие любите?
– С салями, – наугад сказал я.
– Ой! – она прикусила губу.
– Что случилось?
– Ничего.
– Ну скажите, Вильма!
– Я тоже люблю с салями, – удрученно сказала она.
– Я пошутил, – быстро сказал я. – Я терпеть не могу салями.
– Это неправда!
– Нет, правда!
– Нет, вы говорите это только затем, чтобы я могла съесть бутерброд с салями!
– Вильма, за кого вы меня принимаете?
– За лгуна.
– Я клянусь.
– Этого мало! Пусть вы через год умрете, если солгали!
Это было легко.
– Хорошо, – сказал я. Она была удовлетворена.
– За это вы получите паприку, – сказала она. – Зеленую паприку, мама дала мне три. Вы любите паприку?
– Я люблю паприку.
– Еще есть томаты, – гордо сказала она. Похоже, она взяла с собой целый овощной магазин. Она всегда так делала, как она мне позже объяснила. Когда она идет в лес учить роли, мать пакует ей бутерброды.
– Так много денег расходуется, если по пути что-то покупаешь поесть.
– Но зато надо меньше нести, – сказал я, взглянув на тяжелую сумку.
– Мы будем меняться, – ответила она. Я согласился.
За конечной остановкой трамвая начиналась Вилленштрассе, которая вела прямо в лес. Здесь ветер был намного сильнее. Он пел в листве деревьев на аллее, кружил пыль и листья на дорожках. Волосы Вильмы летали вокруг ее головы. Небо сияло. Мне стало очень тепло от ходьбы, и я снял пальто. Пахло осенью. В саду двое мужчин разожгли костер, они жгли старые щепки и жухлую листву. Дым костра долетел до нас.
Вильма втянула ноздрями воздух.
– Хорошо пахнет, да? – спросил я.
– Да. Вам тоже нравится?
– Очень. И запах костра, в котором печется картофель.
– И запах смолы, когда ремонтируют улицу!
– Смолы тоже, – сказал я. Это была абсолютная любовь. Мы понимали друг друга во всем.
Почти перед самым лесом мы увидели газетный киоск.
– Минутку, – сказала Вильма. Она побежала к киоску и вернулась обратно с газетой. – Мне надо посмотреть, есть ли там мое имя, – объяснила она и начала листать страницы.
– Где «там»?
Пока она быстро листала газету, я узнал, что там есть ежедневная рубрика, где критикуются радиопередачи. В четверг Вильма играла в одном радиоспектакле.
– Вот! Посмотрите! – вскрикнула она.
Я посмотрел. В конце абзаца, совсем внизу, было написано: «В маленькой роли выступила Вильма Паризини». И все. Но она сияла так, как будто ей только что вручили приз за лучшую роль.
– Ха! – сказала она. – В этот раз они не смогли меня обойти! Медленно, но продвигаюсь! – Она еще раз перечитала строчку, затем спрятала газету в переполненную сумку. – Даже если это медленно продвигается, – сказала она, – Сикора, конечно, была опять великолепна! Мастерство – при всей воде, которую она льет! – Сикора была коллегой, о которой критик радиорубрики упомянул более подробно и привел пару чествующих эпитетов. – Вы не поверите, но я точно знаю, что она сама пишет себе письма!
– Что она делает?
– После каждой передачи, в которой она участвует, студия получает несколько восторженных писем от слушателей. «Эви Сикора была опять чудесна!» «Почему эту талантливую актрису не приглашают чаще участвовать в спектаклях?» «Мы ждем следующей передачи с Эви Сикора!» – Вильма возмущенно шмыгнула носом. – Вы можете себе такое представить?
– Невероятно, – сказал я.
– Но самое смешное, что эти идиоты на радиостанции воспринимают это всерьез! Они во все верят! Они действительно считают, что это глас народа!
– Почему? – сказал я. – Это же явный обман – письма, на которых нет адреса отправителя!
– Но на них есть адрес отправителя! Это же такая низость! Сикора просит всех своих знакомых писать такие письма. И там, конечно, есть настоящие адреса!
Я был под впечатлением.
– Это же самое последнее, что может делать артист, правда? – спросила она.
– Не знаю, – сказал я. – Мне это импонирует. Люди хотят, чтобы их обманывали, они сами напрашиваются на это!
– Вы действительно так считаете?
– Конечно, Вильма. Как только я приду домой, я сяду и напишу письмо о несравненной актрисе Вильме Паризини!
Выражение ее лица сразу изменилось, она просияла.
– Вы действительно хотите это сделать? – закричала она, совершенно забыв, как только что клеймила позором подобный нечестный метод.
– Конечно, еще сегодня!
– Ах, – закричала она, – это было бы великолепно! Сикора лопнет! Знаете, пошлите письмо не руководству радиостанции, а господину Якобовичу!
– Кто это – господин Якобович? – спросил я и почувствовал, как накатила нелогичная и смешная волна ревности.
– Это режиссер, с которым я всегда работаю. Вжарьте и о нем что-нибудь!
– Что?
Она густо покраснела.
– О господи, извините, я имела в виду: напишите и ему несколько хвалебных слов.
– Можете на меня положиться, – сказал я. – Господин Якобович для меня крупнейший радиорежиссер континента.
В этот день было еще очень тепло. Мы шли по лесу, по узким дорожкам между высокими деревьями, в кронах которых буря играла на органе, – во всяком случае, ветер здесь превратился во что-то подобное. Это была дикая осенняя чудесная буря, которая шумела над нашими головами, и нам приходилось кричать, когда мы разговаривали друг с другом. Мы говорили мало. Мы шли друг за другом, она впереди. В лесу почти не было ветра, буря скользила по верхушкам деревьев, и благодаря этому возникала невероятная атмосфера, которая оглушала меня. Я слышал бурю, она делала меня почти глухим, но я не чувствовал ее. Светило солнце, пробиваясь между стволами деревьев, наши ноги утопали в ворохе увядшей листвы. Через полчаса было такое ощущение, что у меня горная болезнь. Я шагал за Вильмой, время от времени она поворачивалась и улыбалась мне. Сумку теперь нес я.
Ближе к обеду мы оба достаточно устали, чтобы обрадоваться маленькому ресторанчику, который стоял в лесу. Со стороны, защищенной от ветра, мы увидели у стены дома несколько столиков со стульями. Мы были единственными посетителями. Хозяин дружелюбно поздоровался с нами. Он счел нас любовной парой и сразу же предложил лучшее вино. Я заказал бутылку. Вильма удивила многоопытное сердце хозяина тем, что настаивала на том, чтобы вино для нее было разбавлено содовой водой. А то она слишком быстро напьется, сказала она.
Я пригласил хозяина выпить с нами стаканчик, и Вильма распаковала свои бутерброды. Вино в стаканах светилось в солнечных лучах, буря бушевала в деревьях, Вильма серьезно распределяла провиант, поглощенная этим занятием. Она действительно съела все бутерброды с салями. Я съел три кусочка зеленого перца и много сыра эмменталер. Даже соль и перец Вильма привезла с собой, в двух маленьких бумажных пакетиках. На одном печатными буквами было написано «соль», на другом – «перец». Чтобы не перепутать, сказала Вильма.
Потом мы начали работать. Она вытащила текст роли, а я слушал ее. Это был радиоспектакль-сказка. Вильма играла в нем злую фею. Роль была достаточно большой, и я думаю, что спектакль был отвратительным. Но в то утро у меня было ощущение, что я слушаю вечные строки бессмертного Шекспира. Я называл ей ключевое слово, она закрывала глаза и говорила свой текст, при этом она ритмично качала головой и постукивала кулаком левой руки по столу. Если надо было кричать, она кричала. Это было чудесно – видеть ее кричащей. Слышно ее было на расстоянии не более трех шагов – так громко бушевала буря.
Я выпил пару стаканов вина, немного поскучал, а потом с каждой минутой становился все счастливее. Волосы Вильмы отсвечивали золотом на солнце, маленькие зеленые точки в ее глазах стали совсем темными и казались бархатными. Было около двух часов, когда я почувствовал, что моя головная боль возвращается. Я попытался ее игнорировать. Когда я уже не мог больше ее игнорировать, я сделал глубокий вдох и старался говорить по возможности меньше. До сих пор это помогало. В этот раз не помогло. Наконец я больше не мог терпеть и проглотил две таблетки мирацида. Вильма испугалась:
– Что с вами?
– Голова болит, – сказал я, – сейчас пройдет.
– Это от вина. Надо было и вам пить его с содовой.
– Да, – сказал я.
Она откинулась на спинку стула:
– Ложитесь!
– Что?
– Вам надо лечь. Головой мне на колени. Я положу вам руку на лоб.
– Это помогает?
– Часто, – сказала она. – У моего отца часто бывают головные боли. Тогда я кладу ему руку на лоб, и все проходят. Мы так пробовали и с другими людьми.
Я положил ноги на второй стул и откинулся назад. Я смотрел на верхушки деревьев, сквозь которые светило солнце.
– Закройте глаза, – сказала она и положила мне на лоб сухую прохладную ладонь.
Шум бури, мое горизонтальное положение и головная боль, а также близость Вильмы привели к тому, что мне стало плохо. У меня было такое впечатление, что я лежу на качелях. Перед закрытыми глазами мелькали красные круги и какие-то вихри. Рука Вильмы тихо гладила мой лоб. У меня было ощущение тепла, счастья, и хотелось спать. Через десять минут головная боль прошла.
– Я же говорила, – довольно сказала Вильма.
На другой стороне маленькой террасы сидела рыжая белочка и серьезно смотрела на нас. В лапках у нее был орех.








