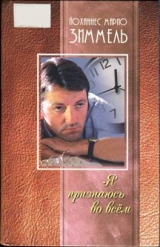
Текст книги "Я признаюсь во всём"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
8
Но это еще не была собственно катастрофа.
Сама катастрофа случилась только 1 марта. Первого марта Уорнеры разослали формуляры, где служащим сообщалось о продлении их контрактов на следующий год. Это был тревожный, опасный день, это 1 марта. Я сидел в своем офисе, когда пришел посыльный и принес мне желтый закрытый конверт. Я допечатал страницу до конца, затем разорвал конверт и, пока шел к двери, быстро пробежал глазами письмо. Я хотел пойти пообедать в столовую. Был час дня.
В этот день я не пошел в столовую. Я успел только пройти по коридору. Потом мне стало ясно, что было в письме.
Уорнеры не продлили мой контракт.
Я медленно вышел во двор, прошел мимо студии-3. Письмо я держал в руке. Уорнеры не продлили мой контракт. Я сел на небесную бледно-голубую кровать в стиле Людовика XIV, которая стояла на весеннем солнце перед входом в студию, и закурил сигарету. Уорнеры не продлили мой контракт. Я поднял ноги, положил их на кровать, в которой еще вчера лежала Бетти Грабл, и думал. Я оказался на улице. Скоро родится ребенок. У меня было отложено немного денег, и можно было продержаться несколько месяцев. Кроме того, у меня были идеи, которые я мог бы продать. Но несмотря на это и тем не менее: Уорнеры не продлили мой контракт. Я был свободным писателем. Было много свободных писателей, дела которых шли даже лучше, чем у тех, кто работал по контракту. Но у многих дела шли хуже. У многих и вовсе плачевно. Скоро родится ребенок. А Уорнеры не продлили мой контракт. Почему, черт возьми, они этого не сделали? Я встал и пошел к главному зданию. Я хотел поговорить с Джеком Уорнером. Или с одним из его сотрудников. Я хотел знать, почему мой контракт не продлили. Да, я хотел это знать. Конечно, я хотел это знать, черт побери!
Вход в главное здание был через огромную стеклянную дверь. В стеклянной кабине рядом с дверью сидела платиновая красотка. Я знал ее семь лет. Ее звали Мэйбл Деррмот, она была замужем за коммивояжером. У нее было двое детей, и она не всегда отказывалась от приглашений куда-либо. Фокус стеклянной двери был в том, что ее можно было открыть только тогда, когда Мэйбл нажимала на кнопку. В этом заключалась ее работа. Она должна была быть со всеми знакома и точно знать, кому разрешено было входить в главное здание, а кому нет. Она знала всех. Меня она тоже знала. Она нажимала для меня на кнопку в течение семи лет, когда у меня были дела в главном здании. Я кивнул ей, она кивнула мне в ответ. В следующий момент я налетел на огромную стеклянную дверь.
Я потряс за ручку. Стеклянная дверь не поддалась. Мэйбл не нажала на кнопку. Она высунула голову из маленького окошечка.
– Привет, Мэйбл, – сказал я. При этом у меня свело желудок.
– Добрый день, мистер Чендлер, – вежливо ответила она. – Вам назначено?
Значит, она уже знала. Я был одним из тех, для кого она больше не нажимала на кнопку.
Все произошло быстро. Очень быстро.
– Нет, – сказал я. – Мне не назначено.
– Сообщить о вас?
– Спасибо, – сказал я.
– Доброго вам дня, мистер Чендлер.
– Доброго вам дня, Мэйбл, – сказал я. Затем я направился обратно в офис, чтобы забрать свою пишущую машинку и свою трубку.
Когда я пришел домой, Маргарет вязала. Мы снимали дом на Нортвуд-драйв, очень уютный маленький домик с одной гостиной и широкой крутой деревянной лестницей, которая вела на второй этаж. Маргарет услышала, как я закрыл входную дверь, и окликнула меня по имени.
– Да, Маргарет, – сказал я. Я поставил пишущую машинку и поднялся к ней. На ней была широкая домашняя юбка, она с улыбкой смотрела на меня.
– Погляди, – гордо произнесла она.
Она показала мне какую-то вещь для новорожденного.
– Миленько.
Она насторожилась:
– Что случилось?
– Ничего.
– Нет, у тебя что-то случилось! Скажи мне, Рой. Что стряслось?
Я подошел к окну и выглянул на улицу. По траве гоняли друг друга две незнакомые собаки.
– Откуда эти собаки? – спросил я.
– Где?
– В нашем саду. Чужие собаки.
Она встала, тяжело подошла ко мне и потянула меня от окна к себе.
– Рой, скажи, что произошло?
Тогда я все сказал ей.
Переваливаясь, она вернулась на свое кресло. Она села, посмотрела на детские штанишки и уронила их. Волосы беспорядочно падали ей на лоб, на ее лице были типичные при беременности желтые пигментные пятна, и она была не накрашена…
– Это я виновата, да? – беззвучно произнесла она.
– Смешно! – Я ушел от ответа. Конечно, она была виновата. Но разве мог я ей это сказать? – Что за ерунда! В чем ты виновата?
– Потому что я сказала мистеру Уорнеру, что нахожу фильм ужасным.
– Ерунда! – я снова посмотрел вниз на собак. Потявкивая, они копали яму в нашей клумбе для роз. – Это вообще не имеет ничего общего с тем случаем!
– Разумеется! Поверь мне, Рой! Я знаю это. Доре – хороший знакомый мистера Уорнера. Поэтому он и получил заказ на то, чтобы переписать твою рукопись.
Она с трудом поднялась и начала ходить взад-вперед. Длинная юбка стесняла ее движения, и она дважды споткнулась.
– Конечно, так и было! Доре пришел к Уорнеру и настроил его против тебя! Потому что ты талантливее его!
– Я не талантлив.
– Ты в сто раз талантливее Доре!
– Нет, Маргарет, у меня нет таланта.
– Есть! Есть! Доре боится конкуренции с тобой! Он знает, что ты скоро размажешь его по стенке! И поэтому он хочет тебя устранить! Потому что ты талантливее его!
Я подошел к ней и положил руки ей на плечи.
– Теперь послушай меня внимательно, Маргарет. Я не талантливый. Я заурядный писатель, это я тебе уже говорил, и теперь я тебя очень прошу наконец это понять.
– Я…
– Подожди! Я знаю, что приятнее быть замужем за Полом Осборном или за Джоном Стейнбеком, если ты честолюбива. Но я не Осборн! И не Стейнбек! Я требую, чтобы ты наконец смирилась с этим.
– Я никогда с этим не смирюсь! – взволнованно закричала она. – Я никогда не смирюсь с этим, потому что это неправда! Ты себя просто недооцениваешь!
– Это не так. Просто ты переоцениваешь меня! И должна прекратить это!
– Прекратить – почему?
– Потому что это уже давно отнимает у меня всякую возможность работать! Потому что я теряю своих друзей, свои связи…
– …и свой контракт с мистером Уорнером, – медленно произнесла она.
Ее глаза впились в мои. Я молча смотрел на нее. Ну и прекрасно, думал я, если ты непременно хочешь это услышать – пожалуйста.
– И свой контракт с мистером Уорнером.
– Значит, я все-таки виновата в этом!
Я не хотел этого говорить, и все же сказал:
– Да, Маргарет.
– Ах!
– Мне жаль, но это так. То, что ты сделала на премьере, было непростительно! Я тебя люблю, ты моя жена, но я не могу этого простить!
– Значит, ты не можешь этого простить!
– Нет.
– Тебе было стыдно за меня?
– Да, Маргарет.
– И это из-за меня, из-за этой сцены на показе, мистер Уорнер не заключил с тобой контракт?
Я говорил про себя, я не хотел говорить это вслух, и все же я сказал:
– Это не такое ужасное несчастье, хотя, конечно, неприятно. Но я со всей прямотой должен тебя попросить взять себя в руки. В будущем это должно быть по-другому. Иначе…
Она вскочила:
– Иначе?
– …иначе ты снова оставишь меня без работы!
Она резко рассмеялась:
– Я оставлю тебя без работы! Я? Именно я? Вот это здорово! Это очень хорошо!
Она снова, спотыкаясь, начала ходить взад-вперед.
– Сядь, Маргарет, подумай о ребенке.
– Теперь я должна подумать о ребенке? Сейчас, вот так сразу? А ты подумал о ребенке?
– Маргарет, прошу тебя!
– Оставь меня в покое! Что ты, собственно, о себе воображаешь? Ты смеешь меня упрекать? Я пытаюсь помочь тебе, поддержать тебя, продвинуть тебя дальше – а ты меня упрекаешь?!
– Я тебя только попросил…
– Я всегда на твоей стороне, я заступаюсь за тебя, я сказала Джеку Уорнеру правду – и ты меня упрекаешь?! Да, чего ты, собственно говоря, хочешь? Какую-нибудь маленькую потаскушку, которая молча смотрит, как тебя хают? Которая не раскрывает рта, когда творится несправедливость? Которая улыбается и, может, ухаживает за мистером Томпсоном? Ты мной недоволен, да? Я плохая жена, да? Тебе неприятно, что я на твоей стороне? Было бы лучше, если бы я тоже устраивала вместе с вами этот лживый театр, да? Да, мистер Уорнер! О, прекрасно, мисс Макгуайер! Вы гений, мистер Томпсон, так?
Закашлявшись, она остановилась передо мной:
– Скажи мне, чего ты хочешь! Скажи же мне!
– Покоя, я хочу покоя, хочу работать спокойно! – закричал я.
– Ах, и я тебе в этом мешаю!
Я не хотел этого говорить, Господь свидетель, я не хотел этого говорить, но все же сказал:
– Да, и ты мне в этом мешаешь!
Она посмотрела на меня. Ее глаза наполнились слезами:
– Вот благодарность. Благодарность за все, что я для тебя сделала!
Она повернулась и, спотыкаясь, побежала к двери.
– Маргарет, прошу тебя!
Дверь захлопнулась. Я услышал стук ее каблучков в коридоре. Я тут же рванулся к двери. Прежде чем я добежал до нее, я услышал крик. Это был ужасный крик. Он звучал как крик животного, в нем не было ничего человеческого.
– Маргарет! – закричал я.
Она лежала внизу в гостиной, скрючившись, со смертельным ужасом на лице, прижав руки к животу. Она смотрела на меня глазами, в которых стоял этот ужас, когда я к ней спустился. Широкая голубая домашняя юбка веером лежала вокруг нее.
– Врача, скорее врача, – прохрипела она.
Она упала с крутой лестницы.
9
Господи, сделай так, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы все было хорошо, Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Это я виноват, я ее разволновал. Она побежала к лестнице, потому что была взволнована. Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы с ней ничего не случилось и чтобы с ребенком ничего не случилось. Я не хочу писать никаких хороших фильмов, Господи, если ты дашь ей выжить, я клянусь тебе, я не хочу быть снова счастлив, но, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дай ей выжить и сделай, чтобы ничего не случилось с ребенком. Аминь.
Это было три часа спустя.
Я стоял в одном из бесчисленных коридоров больницы Беллевю и ждал. Руки у меня были влажными, рубашка пропотела насквозь. Я потел от страха. Пришел врач, он вызвал «скорую помощь» – у Маргарет началось кровотечение. Потом она потеряла сознание. Я сидел рядом с ней, когда «скорая» с воющей сиреной мчалась по улицам, и чувствовал, как врач, сидя в ожидании рядом, смотрит на меня взглядом, полным отвращения.
Ее сразу повезли в операционную, еще в «скорой» ей сделали необходимые инъекции. Врач оттолкнул меня, когда я хотел последовать за ней.
– Вы останетесь здесь, – холодно сказал он. Он ненавидел меня. Я и сам себя ненавидел. Я остался. Над входом в операционную загорелась лампочка.
«Идет операция. Вход воспрещен», – гласила надпись.
Я не входил. Я сидел на скамье и молился. За Маргарет. За ее жизнь. За жизнь ребенка. Я молился в течение сорока пяти минут. Затем приоткрылась створка двери, и они выкатили Маргарет. Она была без сознания и выглядела как мертвая.
– Что? – спросил я врача.
– Еще слишком рано говорить.
– Ребенок…
– Мертв, – сказал он.
– А она…
– Слишком рано, – сказал он. – Придите через час.
И он оставил меня стоять. Он знал, что я был виноват. Я вышел на улицу, нашел бар, который был еще открыт, и попросил бутылку виски. Бар находился неподалеку от больницы. Бармен ободряюще мне кивнул:
– Сказали подождать?
– Да.
– Все мужчины, которые сюда заходят, должны подождать, – сказал он.
Я ничего не ответил. Через некоторое время он вернулся ко мне и молча поставил передо мной вторую бутылку виски. Он подходил еще пару раз. Потом я снова пошел в клинику. Сестра, которая сидела перед палатой Маргарет, сказала, что еще слишком рано. Я должен был опять прийти через час. Через час!
Бармен кивнул, когда меня увидел. Он поставил передо мной большую чашку черного кофе:
– Сказали еще подождать?
– Да.
– Выпейте это. Все мужчины, которые должны еще подождать, пьют это.
Я выпил кофе. Он был крепкий и очень горький. Потом я снова пил виски.
Через некоторое время вошел еще один мужчина. Он был потный и заказал себе пива. Бармен покачал головой и подал ему большую порцию виски.
– У вас должно быть много работы, – сказал мужчина бармену.
– Хватает, друг мой, – ответил он. – К вечеру меньше.
Наконец час прошел, и я вернулся обратно в больницу.
День был жарким, слишком жарким для марта. Сестра сказала, что надо подождать еще несколько минут, и я могу посидеть в коридоре перед палатой. Я ждал.
Я достаточно много выпил, но я этого не ощущал. На вкус виски было похожим на воду. Я помолился еще. Потом пришел врач. Он закурил сигарету и с неприязнью посмотрел на меня.
– Можно мне к ней?
– Да.
– Она спасена?
– Да.
– И…
– Она никогда больше не сможет иметь детей, – сказал он и оставил меня стоять. Теперь я тоже его ненавидел.
Я пошел к Маргарет. Она лежала в светлой безликой палате и выглядела постаревшей лет на двадцать. Она улыбнулась знакомой улыбкой Мадонны, которая особенно хорошо смотрелась в профиль, и сказала:
– Ничего, любимый.
Я подошел к ней и опустился на колени. Моя голова лежала у нее на груди.
– Прости меня, – прошептал я.
– Я прощаю тебя, – спокойно сказала она.
Я посмотрел на нее.
Маргарет улыбалась.
10
Я перечитываю то, что написал до этого, и замечаю, что совсем забыл описать мое душевное состояние в этот первый день в клинике, мои мысли и мое мнение насчет предположения об опухолевом образовании в моем мозгу и связанной с этим операции. Это упущение объясняется, вероятно, тем обстоятельством, что в то время я вынужден был заниматься посещениями, о которых я упоминал, а также новостями, которые мне сообщали. Поэтому вплоть до вечера у меня почти не было свободного времени для того, чтобы заняться моим странным заболеванием. Возможность для этого появилась только с наступлением темноты. У меня были моменты депрессии и растущей раздражительности из-за моей неспособности найти или выговорить определенные слова, но иногда события, творящиеся вокруг, захватили меня. Только когда началось обследование, я все больше и больше стал терять ко всему интерес и замыкаться в себе, размышляя о моем будущем и моей судьбе.
После звонка Маргарет моя головная боль усилилась. А может быть, виной тому было виски, которое я выпил. Я позвонил, потому что хотел попросить у сестры порошок, но по какой-то причине сигнал остался без ответа. Я включил прикроватную лампу и встал, чтобы выйти в коридор. Я встал с кровати впервые за целый день, и мне казалось, что я иду по облакам и что все предметы странным образом удалены от меня – как будто они отступают от меня, а пол шевелится как во время качки на корабле. Голова сильно кружилась, и когда я наконец добрел до двери, я едва успел ухватиться за дверную ручку. Еще секунда – и я бы упал. Что это было? Только слабость? Насколько я действительно болен? Что со мной? Когда мне об этом скажут? Когда, наконец, придут врачи? Я чувствовал, что меня впервые охватывает паника. Выступил пот. Я стал дышать чаще, в надежде, что головокружение пройдет. Но оно не проходило. Только немного уменьшились колебания пола. Правая рука опять заболела. О господи, где же врачи?
Снаружи кто-то нажал на дверную ручку. Я отступил от двери, она открылась, и появился доктор Ойленглас. С ним был маленький толстый человек в белом халате. Он был похож на профессионального букмекера – хитрый, бесцеремонный и циничный. Только руки выдавали в нем врача. Это был профессор Вогт.
Ойленглас познакомил нас и пошел за порошком, когда я сказал, почему я встал. Вогт довел меня до кровати.
– Будет лучше, если какое-то время вы будете как можно меньше двигаться, – сказал он. У него был голос евнуха. Высокий, певучий, какой-то бабий. Удивительный врач, подумал я. Он сел около меня и достал из кармана халата аппарат стетоскоп.
– Не могли бы вы снять куртку, мистер Чендлер?
Я снял, и он начал меня обстукивать. Его пальцы были твердыми и горячими. «Дышите глубже, – говорил он при этом, – еще глубже. Теперь, пожалуйста, не дышите… А теперь опять очень глубоко, да…» Он исследовал меня со знанием дела и быстро. Он заглянул мне в горло, прощупал железы и проверил мои рефлексы маленьким металлическим молоточком. Потом он заставил меня повращать глазами.
– Небольшое, но тщательное обследование будет вам полезно, мистер Чендлер. Я уже сказал это вашей жене. Завтра утром мы пойдем в оптическую лабораторию.
– Вы думаете, что я… что у меня…
– Да? – Он спокойно взглянул на меня маленькими хитрыми глазками.
– …что у меня опухоль?
Он дружелюбно улыбнулся:
– Мой дорогой друг, как вы считаете, вы можете написать сценарий про мою жизнь?
– Не знаю, господин профессор. Я ничего не знаю о вашей жизни…
– Вот видите, – сказал он. – И я ничего не знаю о вашем теле, чтобы понять, есть ли у вас опухоль. Вы должны дать мне немного времени.
Ойленглас пришел с порошком, который я проглотил, продолжая описывать Вогту мои симптомы, о которых его коллега уже знал.
– Ага, – сказал он, когда я рассказал ему о своих затруднениях, связанных с произнесением некоторых слов. – Итак, вы не можете произнести некоторые слова?
– Да.
– Что это за слова? Это какие-то определенные слова?
– Нет. Совершенно разные. Неопределенные.
Он достал из кармана карандаш:
– Что это?
Я ответил. Он показал на картину и опять задал вопрос. После четвертого предмета, который я назвал, выражение моего лица, вероятно, изменилось, потому что он спросил, что со мной.
– Совсем ничего. Я только немного испуган.
– Чем?
– Этими… этими вопросами. Это выглядит так, как будто я сумасшедший.
– Не говорите ерунды, мистер Чендлер, – строго сказал он своим писклявым голосом, который вызвал во мне смех, – и, пожалуйста, соберитесь. Для подобных импрессий нет никаких оснований. – Он посмотрел на меня. Его глаза неожиданно стали строгими и в них появился приказ. Желание смеяться у меня пропало:
– Хорошо, господин профессор.
Он продолжал задавать вопросы. Наконец он добился, чего хотел. Он вытащил ключ:
– Что это?
– К… кл… кла… – Я потел, в висках стучало, я чуть не плакал. Дыхание стало тяжелым. Я попытался еще раз. Я не мог выговорить слово «ключ».
– Но вы знаете, что делают этим предметом?
– Да, господин профессор.
– Что им делают?
– От… отк… – Я видел, что Ойленглас записал что-то в блокнот, который сунул в карман. – От… – Я чувствовал, что от волнения у меня выступили слезы. – Я не могу сказать, но я знаю, что им делают.
– Покажите нам, мистер Чендлер, – дружелюбно сказал Вогт. Я взял ключ и сделал движение, как будто что-то закрываю.
– Большое спасибо, – сказал он. – Отлично. Да, ключом закрывают. – Он произнес эту фразу медленно.
– Ключом закрывают, – повторил я с неимоверным облегчением. Я даже улыбнулся. – Я знал это, господин профессор, но не мог этого сказать.
– Вы голодны?
– Нет.
– Порошок подействовал?
– Немного.
Вогт поднялся:
– Смотрите, спите хорошо, чтобы завтра вы были свежим. И не беспокойтесь. Пока мы что-либо не найдем, нет ни малейшего основания для беспокойства. Он протянул мне сухую горячую ладонь. – Спокойной ночи, мистер Чендлер.
– Спокойной ночи, господа, – сказал я. Ойленглас тоже попрощался и последовал за своим шефом. Я остался один.
Литеральная парафазия, думал я. Это звучало помпезно. Я взял бы эти слова в свой лексикон и удивлял бы ими своих знакомых, когда отсюда выйду: «Коллинз был моим последователем в «Крике из темноты». Он составил литеральную парафазию».
Это звучало злобно и едко. Особенно если не знать, о чем идет речь. Завтра утром я пойду к врачу-окулисту. Почему к окулисту? Какое отношение имеет это к глазам? И если у меня что-то с глазами, значит ли это, что я смогу их вылечить? Или существует опасность ослепнуть? Или свихнуться? Или ослепнуть и свихнуться?
Это было начало той первой ночи. Я думал, что до ее конца я не доживу. Просьбу профессора Вогта спать хорошо я, к сожалению, исполнить не смог. И плохо я тоже не спал. Я вообще не смог заснуть. Я лежал и размышлял о своей болезни, о которой еще никто ничего не знал. Я рисовал себе ее в развитии. Я всячески разукрашивал ее, у меня богатая фантазия.
У меня всегда была богатая фантазия. Поэтому я всегда очень сочувствую людям моего склада. Если у кого-то богатая фантазия, значит, у него нет целого ряда других качеств, например мужества. Фантазия и мужество несовместимы. Одно исключает другое. Если человек благодаря своей фантазии может представить свое будущее, опасность или какую-нибудь ситуацию со всеми возможными последствиями, значит, он уже не сможет действовать в этой ситуации. Мужественными бывают только люди, не имеющие дара представления. Они не знают, что может произойти, они не в состоянии это представить. Величайшие герои были наипростейшими существами. А величайшие трусы, согласно этой теории, были, вероятно, интеллектуалами. Я завидую простым существам. Они легче ко всему относятся. И при всем при том они находят больше сочувствия. Хотя, если подумать, это несправедливо.
Когда я наконец погрузился в путаный и неприятный сон, было пять утра и в саду уже пели птицы. Через два часа меня разбудила медсестра. Она была бесцветная, молодая и глупая.
– Завтрак, мистер Чендлер. – Она поставила его передо мной. Я сел в кровати. Голова у меня больше не кружилась, только немного болела.
– Нельзя ли мне еще немного поспать?
– Мне жаль, но нет, мистер Чендлер. Так распорядился доктор Ойленглас. Ваше обследование начнется в восемь часов.
– Так-так.
– Второй порошок помог?
Я непонимающе посмотрел на нее:
– Какой второй порошок?
– Который я вам дала.
– Когда?
– Два часа назад, мистер Чендлер.
Выяснилось, что на рассвете я позвонил ей и попросил еще один порошок от головной боли. При всем моем желании я не смог этого вспомнить. Пока я пил горячий кофе, я размышлял над этим и нашел все очень неутешительным. Теперь я начал забывать и события!
– Вероятно, вы были в полусне, мистер Чендлер, – сказала медсестра. – Вы спали очень неспокойно.
– Да?
– Вы кричали и разговаривали во сне.
– Вот как? И о чем же я говорил?
– Вы все время говорили о каком-то человеке… мужчине. – Девушка, вероятно, была родом с Баварских гор, она говорила с сильным акцентом.
– И как звали мужчину?
– По-моему, Иов, – сказала она.
Это была очень глупая медсестра.








