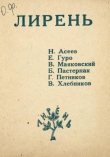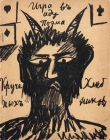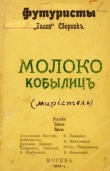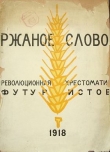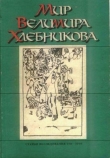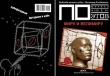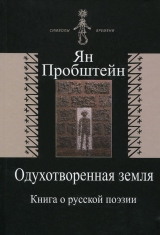
Текст книги "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии"
Автор книги: Ян Пробштейн
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
из чего Микушевич заключает: «Горы двинутся против теченья времен, не обратно в крепь, а прямо в синтезирующую, синхронизирующую
воскрешающую вечность»[139].
Несомненно, что речь идет о духовной преемственности и ученичестве, и что одной из тем является нравственная добродетель и 10
заповедей, а также тема кремня и воды, то есть лермонтовской и державинской тем. Поэтому гораздо резоннее было бы не искать перекличку
стихов «Блажен, кто…» у Пушкина, Тютчева и Ходасевича, но обратиться непосредственно к стихотворению Державина:
Блажен тот муж, кто ни в совет,
Ни в сонм губителей не сядет,
Ни грешников на путь не станет,
Ни пойдет нечестивым вслед.
Но будет нощию и днем
В законе Божьем поучаться
И всею волею стараться,
Чтоб только поступать по нем.
Как при потоке чистых вод
В долине древо насажденно,
Цветами всюду окруженно,
Дающее во время плод,
Которого зеленый лист
Не падает и не желтеет:
Подобно он во всем успеет,
Когда и что ни сотворит.
«Истинное счастие»
Как известно, это стихотворение, в котором есть и потоки чистых вод (выделено мной – Я. П.), является переложением 1 Псалма, то есть
помимо Нагорной Проповеди, не лишне вспомнить и Ветхозаветную праведность: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Тогда
становятся ясными стихи «Обратно в крепь родник журчит»: поэт возвращается к Державину как к своему истоку, а речь возвращается к Слову,
которое было в начале. Кроме того, поскольку речь идет о труде, не совсем бессмысленно будет предположить некую связь и со стихотворением
«Похвала сельской жизни» («Блажен, кто удалясь от дел,/ Подобно смертным первородным, /Орет отеческий удел/ Не откупным трудом —
свободным,/На собственных своих волах…», а также «Блажен, кто менее зависит от людей» из «Евгению. Жизнь Званская». Эти стихи
Мандельштама также предваряют концовку, коду всего стихотворения, вновь возвращаясь к теме памяти, астрологии и минералогии и к шестой
главе «Разговора о Данте»: «Поэзия, завидуй кристаллографии, кусай локти в горе и бессилии! Ведь признано же, что математические
комбинации, необходимые для кристаллообразования, не выводимы из пространства трех измерений. Тебе же отказывают в элементарном
уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя! »[140]. В последней строфе «Грифельной оды» поэт говорит о себе как об ученике
памяти:
И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света.
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык —
Кремень с водой, с подковой перстень.
Круг замкнулся: последняя строфа, как сферическое зеркало, отражает, вобрав в себя, и все стихотворение в целом, и первую строфу в
частности. Или, быть может, это – высший виток спирали, завершающий и разрешающий темы минералогии и астрологии, лермонтовскую и
державинскую темы – это контрапункт оды. Ронен, а вослед за ним и Микушевич, справедливо замечает связь с Фомой Неверующим: «аште не…
вложу перста моего в язвы гвоздинные» (Иоанн 20:25), а кроме того, Ронен проследил связь и с прозой тех лет Мандельштама, в которой
повторяется притягательно-отталкивающий жест Фомы, образ влагаемых перстов, и даже имя Фомы; слово же «язва», как заметил Ронен, говорит
о «болезненном вдохновении», одной из основных тем русской поэзии, восходящей к пророчествам Исайи[141]. Поэтический мотив «Грифельной
оды» объединяет мотив державинской «реки времен», лермонтовских – «кремнистого пути» и «Из пламя и света рожденного слова», усиленные
аллюзиями на «Фауста» Гете и Новалиса, Ветхий и Новый Завет, темы судьбы и долга поэта, – соединяя провалы, преодолеть метафизический
страх одиночества человека и разобщенности истории. Это показ времени-пространства, истории, бытия в их неразрывном единстве. Таким
образом, «Грифельная ода» посвящена духовному странничеству – не в пространстве, а – по вертикали – во времени: от лермонтовской звезды
к Слову, которое было в начале.
В цикле «Армения» и органически связанным с ним «Путешествием в Армению» мотив странствия также понимается как странствие во
времени и культуре. Армения оказывается приближена не только к Персии («Ты розу Гафиза колышешь», «Ты рыжебородых сардаров / Терпела
средь камней и глин», «…близорукое шахское небо»), но и к Вавилону, что проявляется и на образном, метафорическом уровне («Улиц твоих
большеротых кривые люблю Вавилоны»). Мотив «вавилонских наречий» был еще более отчетлив и открыт в черновой редакции, который, как
заметила И. М. Семенко, «генетически связан с мотивом обратного пути (обратные роды) прежней редакции. Сама эта метафора снята, но одно из
ее значений сохраняется и получает дальнейшее развитие: обратный путь – дорога в древность»[142]. Близость к древнему Востоку (в черновой
редакции – «Арарат Арарат Урарту»[143]), котлу ближневосточной культуры, и – одновременно – окраинность, отъединенность от культуры
греко-римской, Средиземноморской («Вдали якорей и трезубцев, / Где жухлый почил материк, / Ты видела всех жизнелюбцев, / Всех
казнелюбивых владык») свидетельствует об особенном историческом положении Армении:
Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.
И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.
Таким образом, прошлое – не только богатство истории, но и трагедии, пережитые армянским народом, «орущих камней государством», в
котором смерть и жизнь соседствуют в истории (потому-то и «молодые гроба», и «молодая старуха», и «посмертная маска», снимаемая, очевидно,
археологами, ведущими раскопки[144]).
Однако в цикле «Армения» звучит не только мотив отъединенности, но и причастности этой древней страны античной культуре. Седьмое
стихотворение окончательной редакции цикла и по ритму, и по образности, и по ощущению истории и времени родственно «Нашедшему
подкову»:
Не развалины – нет, – но порубки могучего циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар
из языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные Византией.
Мотив странствия во времени уводит поэта в эпоху, противопоставленную и христианству, и, в особенности, враждебному ему
мусульманскому миру. Н. Я. Мандельштам писала, что «древние связи Крыма и Закавказья, особенно Армении, казались ему (О.М.) залогом
общности с мировой, вернее европейской культурой. Сам О.М., чуждый мусульманскому миру – „и отвернулась со стыдом и болью от городов
бородатых востока“ – искал лишь эллинской и христианской преемственности»[145]. В «Путешествии в Армению» также ощутимы эллинские
метафоры и сравнения: «Весь остров по-гомеровски усеян желтыми костями – остатками богомольных пикников окрестного люда» (О Севане, СС,
III, 180); «размером он (струг барки) был с доброго троянского коня» (СС, III, 183).
Поэзия прозы, не менее метафоричной и экспрессионистически необузданной, нежели стихотворный цикл, в значительной степени выявляет
мотив странствия в творчестве Мандельштама, и проясняет его поэтику – «тропы» и метафорическое видение. «Путешествие в Армению»
включает в себя и Москву, и Сухум, и странствия в культуре («Вильгельм Мейстер» Гете, французские импрессионисты), науке (Ламарк,
проясняющий, кстати, и образность одноименного стихотворения, видимо, родившегося впоследствии из прозы, Линней, Бюффон, Паллас), в
свою очередь связанные с музыкой («Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта, тот ни черта не поймет в Палласе»; «Ламарк чувствует провалы
между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда» (СС, III, 201). Странствия – это, конечно, же книга, чтение, как открытие и
запечатление бытия:
«Поговорим о физиологии чтения. Богатая, неисчерпаемая и, кажется, запретная тема. Из всего материального, из всех физических тел
книга – предмет, внушающий человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому
на подрамник. <…> Я заключил перемирие с Дарвиным и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом. Если бы они обедали
вместе, с ними сам-третий сидел бы мистер Пикквик». (СС, III, 201.)
Не случайно поэтому и уподобление земли книге, а книги земле в стихах об Армении:
Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как глиною и словом.
Метафора реализуется, история и бытие овеществляются, материализуются в книге, а книга – в глине, земле, которая сама является
метафорой страны, ее истории и культуры[146]. Подобное смешение метафор, когда творчество неотделимо от бытия, а бытие от творчества,
наблюдается и в «Путешествии в Армению»:
«А на столе роскошный синтаксис путаных, разноазбучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы
растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотворении». (СС, III, 190.)
Так, в прозе и в стихах «армянского» цикла предвосхищается и мотив материализации стиха, который впоследствии станет темой
«Восьмистиший», и «учебник бесконечности» – «Безлиственный дикий лечебник / задачник огромных корней», и дуговая растяжка (сравнение
формы «зачаточного листа настурции» с алебардой или «двустворчатой удлиненной сумочкой, переходящей в язычок», но также и с «кремневой
стрелой палеолита. Но силовое натяжение, бушующее вокруг листа, преобразует его сначала в фигуру о пяти сегментах. Линии пещерного
наконечника получают дуговую растяжку». (СС, III, 193).
Обладавший абсолютным слухом, Мандельштам услышал в «могучем языке, на котором мы недостойны говорить» (СС, III, 183) не только
общеиндоевропейские корни и цветение языка, но и шум времени, историю:
Колючая речь араратской долины,
Дикая кошка – армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.
А близорукое шахское небо —
Слепорожденная бирюза —
Все не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.
Метафорический эпитет «колючий», возможно, образованный по ассоциации с шипами розы, рождает другую ассоциацию: шипы – когти,
необузданность языка – дикая кошка, «царапающая ухо». Собственный языковой голод поэта рождает «хищный язык» и «речь голодающих
кирпичей». «Орущие камни» – крик истории. Мысль Хайдеггера о том, что «язык – это дом бытия» получает в метафорах Мандельштама зримое
воплощение. Язык Армении неотделим ни от ее бытия, ни от ее природы, ни от ее трагической истории. В связи с этим примечательно
стихотворение «Фаэтонщик», в котором действительно слышны и «Мчатся тучи, вьются тучи…» и «Пир во время чумы», за что оно было
раскритиковано Кирсановым после вечера в «Литгазете», как пишет Н. Я. Мандельштам[147]. Тем не менее, «Фаэтонщик» примечателен сочетанием
физического и метафизического страха, вызванного поездкой в Нагорный Карабах, в Шушу, где они въяве видели следы резни:
Там в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.
Июнь 1931
Н. Я. Мандельштам пишет: «Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, без окон, без дверей. В вырезы окон
видны пустые комнаты, изредка обрывки обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. Дома из знаменитого туфа,
двухэтажные. Все перегородки сломаны, и сквозь эти остовы сквозит синее небо. Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. <…
> У О. М. создалось впечатление, будто мусульмане на рынке – это остатки тех убийц, которые с десяток лет назад разгромили город, только
впрок им это не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах. <…> О. М. сказал, что в Шуше то же, что у нас,
только здесь нагляднее, и поэтому невозможно съесть ни куска хлеба… И воды не выпьешь из этих колодцев…» [148] Возможно в этом, не только в
безумии – причина того, почему он отказывался принимать пищу из рук вертухаев во Владивостоке. В рассказе Н. Я. Мандельштам наглядно
видна степень сопереживания как сопричастности и сочувствия – «совместного держания времени», по выражению самого О. Мандельштама, что
и является истинным, не умозрительным ощущением истории.
Мотив странствия в цикле «Армения» и «Путешествии в Армению» – своего рода синтез: пространство, неразрывно связанное со временем,
историей, становится своего рода формой времени, а время – формой культуры. И еще шире: сама поэзия для Мандельштама —
непрекращающееся странствие, постижение мира и бытия, неутолимый голод, о котором поэт писал в «Разговоре о Данте» (СС, III, 218).
Путь поэта требует не меньшего мужества, чем плавание морехода. Странствия во времени таят не меньшие угрозы, чем рифы и бури.
Человек своего времени и горожанин («Пора вам знать, я тоже современник – / Я человек эпохи Москвошвея…/Попробуйте меня от века
оторвать, – /Ручаюсь вам, себе свернете шею…»), Мандельштам восставал против него:
Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.
Стихийное неприятие современности преодолено зрелым Мандельштамом в стихах удивительного видения и не менее удивительного
мужества:
Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.
Григорьев утверждает, что «промер» – хлебниковское слово из «Досок судьбы»[149]: «День измерения русла Волги стал днем ее покорения,
завоевания силой паруса и весла, сдача Волги человеку. Промеры судьбы и изучение ее опасных мест должны сделать судьбоплавание настолько
же легким и безопасным делом <…> Подобные же промеры можно делать и для потока времени, строя законы завтрашнего дня, изучая русло
будущих времен, исходя из уроков прошлых столетий и вооружая по способу судьбомерия разум новыми умственными очами в даль грядущих
событий»[150]. Однако последнее двустишие полностью переворачивает хлебниковский оптимизм.
Ю. И. Левин полагает, что «программа всего цикла» задана блоковской строчкой «Грядущих войн ужасный вид» и представляет
«комплексный образ глобальной войны», «химической войны»[151] (а Вяч. Вс. Иванов, как отмечено ниже, говорит о видении ядерной войны).
Ю. Левин выделяет основные темы: Космос или Природа, Война и Смерть. В качестве источников аллюзий и ассоциаций сама Н. Я. Мандельштам,
Левин, Ронен, Вяч. Вс. Иванов, М. Л. Гаспаров и другие указывают Иезекииля, «Гамлет» Шекспира, Ломоносова, Державина, Фламмариона,
«Демон» Лермонтова, «Ночной смотр» Жуковского-Цедлица, и теорию относительности Эйнштейна. Гаспаров указывает также «На Западном
фронте без перемен» Ремарка и «Огонь» Барбюса, а также вышедший в 1932 г. роман «Могила неизвестного солдата» Вл. Лидина и
экспрессионистко-гротескное стихотворение Арк. А. Штейнберга с тем же названием, опубликованное в 1933 г., в котором уже звучит тема
прошлой и будущих войн, лермонтовского Наполеона, «Ночного смотра», и сияние солнц грядущего света, чистилище и воскресение из
мертвых[152]. (Кстати сказать, Липкин вспоминает, что и стихотворение Штейнберга 1928 г. «Волчья облава», опубликованное в «Литературной
газете» 24 марта 1930 г., было известно Мандельштаму и отозвалось не только «волком-волкодавом», но и самим ритмом стихотворения «За
гремучую доблесть грядущих веков»[153]. ) К этому можно добавить стихи немецкого поэта Макса Бартеля «Неизвестному солдату» и «Верден»,
которые переводил сам Мандельштам в середине двадцатых годов [СС, III, 173,180].
О. Ронен замечает в «Солдате» аллюзии на Хлебникова: «пифагорейская» тема из «Зангези», для символа череп, помимо Йорика,
ассоциация из «Взлома Вселенной» Хлебникова, а Вяч. Вс. Иванов связывает тот же образ с мотивом «черепа-головы» из сверхпоэмы «Война в
мышеловке» Хлебникова. Вяч. Вс. Иванов указывает, что «явная футуристичность поэтики „Стихов о неизвестном солдате“ значительно более
близка к поставангардному письму Хлебникова, чем к акмеизму»[154]. Действительно, и раскованность позднего Мандельштама, как бы
незавершенность некоторых стихотворений, прежде всего «Стихов о неизвестном солдате», и словотворчество, как «стрепет» в «Грифельной
оде», «боль и моль нулей» (огромная величина скорости света дана и в фонетической игре, и в зрительной – длинный ряд нолей, как бы
выгрызенных молью, что, возможно, включает и длинных ряд «нолей» в шинелях) и «Бабочка» из «Восьмистиший», о которых несколько ниже,
на наш взгляд, говорят об изменении поэтики позднего Мандельштама и приближении ее к поэтике Хлебникова. Как было замечено
Ю. И. Левиным, у позднего Мандельштама нет установки на книгу, а циклы складываются стихийно, по воле порыва, «стремление к формальной
законченности отсутствует»[155]. Родственное Хлебникову отношение позднего Мандельштама к поэзии как к процессу, неконвенциональность ее,
резкое увеличение диссонансов («обновою-новое», «окопное-целокупное»), ассонансо-диссонансных рифм («ягодами-ябедами», «крошево-
подошвами-задешево»), разноударных рифм («журавлем-Ватерлоо-светло»), составных и при этом разноударных («дразнит себя-яснится-
снится»), изменение строфики (увеличение нечетнострочных, замечено Ю. Левиным) говорит о разомкнутости времени-пространства, выходе в
космос, который так же, как и землю, может захлестнуть хаос. Образы меняют свою полярность: «Амбары воздуха и света/ Зернохранилища
вселенского добра» [СС, I, 154] или «Воздух пасмурный влажен и гулок…» [СС, I, 66] из еще более раннего стихотворения в «Солдате» несет
смерть – «Этот воздух пусть будет свидетелем / Дальнобойное сердце его» (Как заметил М. Л. Гаспаров, эти строки так же, как стихотворение
«Реймс-Лаон» ассоциируются с эпизодом Первой мировой войны, когда немцы из-под Лаона (Лана) обстреливали Париж из Большой Берты [156]);
«шевелящимися виноградинами / Угрожают нам эти миры» (ср. «Виноградное мясо стихов»); «Неподкупное небо окопное / Небо крупных оптовых
смертей» – «О небо, небо, ты мне будешь сниться…» [СС, 1,70].
«Океан без окна, вещество» – не столько воздушный, лермонтовский, как полагает Ю. И. Левин[157], или безличный неосвоенный космос,
всеядно пожирающий людей и превращающий их в «вещество», но скорее человечество, как верно считает И. М. Семенко, которая показала, как
произошло смещение метафоры от «Яд Вердена, всеядный и деятельный, / Океан без окна, вещество» варианта 1 марта 1937 г. к самому
последнему из известных вариантов[158]. Существует определенная связь «Солдата» со стихотворением Аполлинера о Первой мировой войне
«Земной океан», посвященном художнику де Кирико[159], в котором есть и земной бескрайний океан, и землянка, и окопы, превращающиеся в
могилы, и образ человечества, согнанного «гурьбой и гуртом», копать себе могилу, и бессмысленность движения, а в целом – абсурд войны.
Думается, что «океан без окна, вещество» не просто образ человечества, лишенного видения, света («ибо если свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма?») и в силу этого совершенно открытого и незащищенного перед бытием и новейшими открытиями науки, несущими смерть и
разрушение:
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья – Шекспира отец…
СС, III, 125
В противопоставление «океану без окна» дан череп как «чаша чаш и отчизна отчизне» – вместилище мысли; не случайно в подтексте, как
заметили И. М. Семенко[160], М. Л. Гаспаров[161], и многие другие – Шекспир как символ вершины человеческого интеллекта и творчества. Быть
может, в подтексте, и «Череп» Баратынского, и теория эволюции: вспомним, что в 1932 г. Мандельштам написал статью к «Проблеме научного
стиля Дарвина», где уже высказано то, что легло в основу стихотворений «Ламарк», «Не у меня, не у тебя – у них…», 4-го и 5-го и 10-го
«Восьмистиший», где есть образы, либо прямо перекликающиеся со статьей о Дарвине, «озабоченно листающем книгу природы» («И твой,
бесконечность, учебник..»), либо развивающие идеи, высказанные в статье («Монастыри улиток и створчаток…», «Преодолев затверженность
природы/ Голубоглазый глаз проник в ее закон»). Более того, в «Дарвине» есть прямая лексическая и смысловая перекличка со «Стихами о
неизвестном солдате»: «Дарвин счастливо избегает „затоваривания“ природы, тесноты, нагроможденности. Он на всех парах уходит от
плоскостного каталога к объему, к пространству, к воздуху»[162]. «Чаша чаш», по наблюдению Кациса, ассоциируется с евхаристией и Святым
Граалем[163]. Гибель и разрушение грозит не только земле и человечеству, но и космосу, обоим небесам: небу осязательному и небу духовному,
как полагает Струве[164], небу войны и небу мира (Хазан[165]); Ронен предполагает, что оба неба – две створки «черномраморной устрицы», космической раковины ночи[166], но быть может, оба неба – это рай и ад, поскольку «чаша чаш», череп, «который сам себе снится», – отец не
только Шекспира, но и Данте, отца «Божественной комедии», и отчизна всей духовной деятельности человечества. «Тара / Обаянья в
пространстве пустом» – возможно, космос, притягивающий взоры и мысли человека, небо и облака «обаянья борцы» (Семенко заметила, что во
втором «Дантовом небе» употреблено то же слово и в той же соотнесенности[167]).
Ясность ясеневая, зоркость яворовая,
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.
…………………………………
Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?
Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?
Не исключено, что в «Стихах о Неизвестном Солдате», как отмечают исследователи творчества Мандельштама, в частности, Вяч. Вс. Иванов,
нашли отражение как старые научные теории (в частности, об эфире), так и новейшие – о величине скорости света (с = 300 000 км/с), и, как
пишет Иванов, «…еще большее значение имеет не только наличие в стихотворении эйнштейновских парадоксов, касающихся времени в связи со
скоростью света, но и возможных следов размышлений Мандельштама о формуле Е = тс2, т. е. о связи энергии с квадратом скорости света.
Напомним, что эта формула и легла в основу работ, приведших к появлению атомной бомбы – того страшного оружия, которое может грозить с
неба, как в стихах Мандельштама»[168].
Однако на мой взгляд, гораздо важнее то, что Мандельштам переосмысливает самый миф о свете и тьме и показывает такую картину мира,
где свет может стать тьмой, это переосмысление мифа об основном событии бытия – сотворении мира и человека и показ как бы обратного
процесса – превращения космоса в хаос. Это соединение зрения и про-зрения, мифа и мысли в языке. «Луч стоит на сетчатке моей» – не просто
образное видение, зримое представление теории о величине скорости света, но про-зрение, трагическое видение того, что будет «после»,
роднящее поэта XX века с откровениями пророков Исайи и Иеремии, с Откровением Иоанна. В конце Апокалипсис Нового Завета кончается, как
заметил М. Л. Гаспаров, светлой вестью, у Мандельштама эта светлая весть подвергается настолько кардинальной трансформации, что
превращается в свою полную противоположность: «Я не Битва Народов, я новое, / От меня будет свету светло». Свет этот можно принять за
ядерную вспышку, как полагает Вяч. Вс. Иванов, но вряд ли справедливо утверждение о том, что популярная в те годы доктрина молниеносной
войны на чужой территории могла быть близка Мандельштаму.
В финале стихотворения Мандельштам говорит о своей готовности разделить судьбу своего поколения (выкошенного на полях Первой
мировой войны, на которой погибло более 200 французских поэтов, среди которых и Аполлинер, раненный на фронте и умерший от
гриппа-«испанки» вскоре после возвращения в Париж; целое поколение английских поэтов, среди которых замечательные поэты Уилфрид Оуэн и
Руперт Брук, выдающийся немецкий поэт Георг Тракль и многие другие); народа, страны и всего человечества: «Я рожден…/ в девяносто одном /
Ненадежном году, и столетья / Окружают меня огнем». Тютчевский образ: «И мы плывем, пылающею бездной /Со всех сторон окружены»
трансформируется, реализуется, наполняясь не метафизическим, а реальным, физическим смыслом.
Все бывшие и будущие войны сливаются в один архетип войны, при этом в первой части особо изображена самая пока памятная, Первая
мировая, и грядущая как Страшный Суд, Армагеддон, новая, от которой будет «миру светло». Н. Я. Мандельштам пишет во «Второй книге» о том,
что в «Стихах о неизвестном солдате» говорится не про собственную гибель, а про целую эпоху «крупных оптовых смертей»; что Мандельштам
предчувствовал не одну войну, а целую серию войн, что он предсказал даже союз с Гитлером [169]. Стало быть, «Солдат» – произведение
пророческое, своего рода апокалипсис нового времени. Вместе с тем, следует отметить, что «Стихи о Неизвестном Солдате» – не просто
апокалипсическое видение поэта (М. Гаспаров говорит еще и о том, что «агитка не получилась»), но мужественная попытка поэта про-видеть —
проникнуть в будущее за пределы видимого, основываясь на достижениях современной ему науки и на собственном даре, это – одновременно и
показ (именование) картины грядущей катастрофы, и стремление предупредить о ней человечество, и слиться «с гурьбой и гуртом», быть не
свидетелем, а участником. Именно поэтому в финальной части стихотворения переход от космического видения и от 3 лица к личному, первому:
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья – с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.
Финал стихотворения знаменует единение с человечеством не только в преддверии мировой катастрофы и Страшного суда, но и в
предчувствии собственной страшной судьбы: зажавший в кулак номер, год рождения, поэт растворяется в толпе лишенных имени и шагающих по
этапу. В этом смысле видение Мандельштама страшнее дантовского «Ада», поскольку Данте сохраняет имя, а стало быть личность, даже и самым
отъявленным преступникам. У Мандельштама – номер из ада нового времени – ГУЛАГа и гитлеровских концлагерей.
«Одиссея» в поэзии Бродского
Как верно отметила Л. Зубова[170], мотив странствия, предвосхищающий тему Одиссея, едва ли не впервые появляется в поэзии Бродского в
стихотворении 1961 г. «Я, как Улисс»: «…гони меня, несчастье, по земле, / хотя бы вспять, гони меня по жизни. // …гони меня, как новый
Ганимед / хлебну зимой изгнаннической чаши / и не пойму, откуда и куда / я двигаюсь, как много я теряю / во времени, в дороге повторяя:/ ох,
Боже мой, какая ерунда. /… Мелькай, мелькай, по сторонам, народ, / я двигаюсь, и, кажется, отрадно, / что, как Улисс, гоню себя вперед, /но
двигаюсь по-прежнему обратно» [1,136][171].
Примечательно, что в этом стихотворении, так же, как в стихах Мандельштама тяга к странствию и грозное предвкушение изгнания
выражены глаголами будущего времени в повелительном наклонении, а само движение – в настоящем, что создает эффект движения в обратном
направлении (либо по кругу). В контексте поздней поэзии Бродского и его судьбы это раннее стихотворение звучит грозным пророчеством.
Своеобразным продолжением мотива странствия-плавания является большое стихотворение 1964 г. «Письмо в бутылке» [II, 68–75],
написанное в ссылке в Норенской. Это стихотворение предвосхищает и новую поэтику Бродского: пятистопный ямб стихотворения 1961 г.
сменяется четырехиктным дольником с мужскими рифмами, придающими стиху упругое мужественное звучание, навеянное, как подметила
Зубова, знаменитой «Балладой о Востоке и Западе» Киплинга «О, Запад есть Запад, Восток есть восток, и с мест они не сойдут», которая в
переводе Е. Полонской была весьма популярна в кругу Бродского и его друзей[172]:
То, куда вытянут нос и рот,
прочий, куда обращен фасад,
то, вероятно, и есть «вперед»,
все остальное считай «назад».
Небезынтересно и то, что здесь впервые Бродский вводит прием послания, так же, как в переводе-переложении «Письма» У Сабы [IV-250],
как способ «остранения» мифа. Миф об Улиссе полностью трансформирован и даже транспонирован в иное время и пространство: курс корабля
на Норд, «а если поплыть под прямым углом, /то в Швецию словно, упрешься в страсть», что указывает, во-первых, метафизический, так сказать,
курс корабля, а во-вторых, то, что он находится в гораздо более северных широтах, нежели в тех, по которым плавал герой Гомера, а Финский
залив еще точнее помещает корабль в пространстве. Да и сам Улисс похож скорее на киплинговского героя:
Сирены не прячут прекрасных лиц
И громко со скал поют в унисон,
Когда весельчак-капитан Улисс
Чистит на палубе Смит-вессон.
В таком пародийном, карнавальном, если воспользоваться термином Бахтина, стихотворении (заметим, что в то же время был написан «Eine
Alten Architekten in Rom» [II, 81–84], а годом позже «Два часа в резервуаре» [II, 137–140]) уже не вызывает удивления смешение мифологий,
появление двуликого Януса, Ундины, льющей слезы под бушпритом «из глаз, насчитавших мильярды волн», и самого лирического героя-витязя,
«который горд / коня сохранить, а живот сложить». Так как «Письмо» было написано в ссылке, то и конь, стало быть, – Пегас, то есть из иронии
вырастает уже вовсе не шуточная мысль о служении поэзии «до полной гибели всерьез». Разумеется, корабль, потерпевший крушение среди
льдов, – отнюдь не «Титаник», а водная стихия: «Время – волна, а Пространство – кит», – метафора времени и пространства, неразрывно
слитых с творчеством, речью:
Так вспоминайте меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов,
в беге строк, в нуденье слов…
Море, мадам, это чья-то речь…
Я слух и желудок не смог сберечь:
Я нахлебался и речью полн.
Хотя «как пиво, пространство бежит по усам», «пропорот бок и залив глубок», лирический герой полон смирения, ибо
Никто не виновен: наш лоцман Бог.