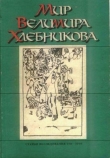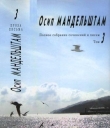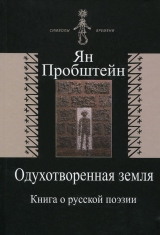
Текст книги "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии"
Автор книги: Ян Пробштейн
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
«разрыва книжной аорты», то есть, «остраняя» О. Мандельштама, Драгомощенко не перестает рефлексировать, возвращаясь к языку как к
инструменту этого исследования, тающего, но таящего, тем не менее, опасность. Узнавание у Драгомощенко всегда таит в себе угрозу забывания
или – не-узнавания:
Никогда не знай. Откуда известно, что это весна,
а не известь?
Почему тебе нужна не победа,
а старый трамвайный билет?
Сопрягая не только «далековатые», по выражению Ломоносова, но и на первый взгляд вовсе несопоставимые понятия, поэт тем не менее
очерчивает некий ареал, противопоставляя два образа жизни, два видения – заземленную обыденность, условно говоря «реализм», и
«метареализм» – то, что нащупывает язык за этими реалиями. Он заговаривает бытие, потому что повтор – сродни заклинанию (хотя сам
Драгомощенко в «Описании» заметил, что от повторения слово стирается, как бы вовсе лишаясь значения):
Видеть этот камень, не испытывая нерешительности,
видеть эти камни и не отводить взгляда,
видеть эти камни и постигать каменность камня,
видеть эти каменные камни на рассвете и на закате,
но не думать о стенах, равно как о пыли
или бессмертии,
видеть эти камни ночью и думать
о грезах осей в растворах,
принимая, как должное, то, что при мысли о них, камни
не добавляют своему существу ни тени, ни отсвета,
ни поражения.
Подобное стирание граней (в том числе стирание пространственно-временных границ) может быть и не столь явным – на уровне цитат,
аллюзий, эпиграфов, как в стихотворении «Реки Вавилона» (аллюзия на Псалом 136: «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда
вспоминали о Сионе») с эпиграфом-названием романа канадской поэтессы и писательницы Элизабет Смарт «At Grand Central Station I Sat Down
and Wept» (На вокзале Гранд Сен-трал я сидела и плакала), что сплетает мотив несчастной любви с мотивом изгнания (изгойства?) и
вавилонского пленения, при этом мысль не столько о взаимоотношении пространства и времени, которое сведено «в точку еще не разбившей
числа материи», и не столько о всесильности пространства, где «чайка – лишь влажная ссадина/ и мысль проста, как приветствие, – подпись
под ним/ блаженно стерта, под стать расстоянию, а само / увядает в воздухе, ничего не меняя в окрестностях», сколько о невесомости
преходящего бытия, которое предстает как «жало листа, несомого тысячелетием. / И даже смерть здесь только слуха горсть, вот почему —
парение». Парение – средство преодоления смерти, то есть бессловесности. Несмотря на абстрагированность, отстраненность и
антиромантичность, Драгомощенко по сути своей – поэт элегический, хотя жанр элегии «остранен» (как впрочем и оды, например, «Оды лову
мнимого соловья», где эпиграф из Барретта Уоттона, еще одного представителя американской языковой школы, не отменяет, а быть может, даже
усиливает тему «Оды соловью» Джона Китса – преодоление смерти и забвения в творчестве, в тексте). Такой постмодернистской элегией
является и сам текст «На берегах исключенной реки», набранный как проза, но и по образности, и по ритмике, и по тесноте образно-смыслового
ряда, это – стихи элегические в самом прямом смысле этого слова: размышление о бренности человеческого бытия, о преодолении забвения, о
спасении, причем эпиграф из французского философа и писателя Алена Бадью лишь усиливает основную тему: «Текст говорит вполне
определенно: смерть как таковая ничуть не нужна в деле спасения». В этом тексте, как «в линзе клеточного отражения», вся поэтика и
проблематика книги, включая парадоксальное сопряжение «далековатых» идей и образов, обнаженность метафор, инверсивность и
фрагментарность, аллюзии (начиная с музыки Джезуальдо ди Веноза, гениально-безумного композитора позднего Возрождения, и заканчивая
фильмом Вернера Херцога о нем). Через Джезуальдо – связь с Лин Хеджинян, которая написала книгу о Джезуальдо – гениальном композиторе,
изящно-обходительном принце, убийце, ревнивце, безумце, который довел себя самоистязанием до смерти. Думается мне, что главное для
Аркадия Драгомощенко и для Хеджинян было не убийство из ревности (в конце концов, были Франческа и Паоло, воспетые Данте), а непионятость
гения, на четыре века опередившего свое время. Но и эта мысль дана лишь в аллюзиях, а вопрос, не менее важный для поэта, сформулирован,
хотя и прямо, но со своего рода семантической инверсией: «Где я буду, когда я умру?» и «Где я не буду, когда умру?». О том же поэт писал и в
«Описании» (еще одной характерной чертой творчества Драгомощенко является цельность и последовательность, когда все написанное
складывается в один текст):
Смерть отнюдь не событие,
но от-слоение-от: прошлое – эллипсис,
узел полдня.
Пятно изъятое солнца,
дно которого на поверхность выносит
комариный ветер вещей,
щепу предметов, тщетно впившихся
в описание – зрение – или закон построения
двухмерного изображения в многомерное,
оптика (или же аллегория).
Меркнет в желтых пористых льдах
страниц, процветающих в пальцах сухих,
бег. Дым черен. Лазури визг.
Исследуя бытие, поэт неизбежно выходит за его пределы – к изнанке бытия, к небытию, «поскольку мириады наречий // Текущих за
пределы мгновения, уносят и нас, /Вместе с нами и с ними, не в след и не сразу / в топографическом тлении мест возвращения, к первому слогу,
к растущему шуму». (Почти непроизвольно продолжаешь: «К слову, которое было в начале».) Мысль о смерти часто скрыта в подтексте, но
нередко выражена и открыто:
К пальцам легли рта мышцы, число, отречение, —
видишь все-таки? Почему жизни длим?
В описание меры, смеха, себя, кто сложно,
кто доступно вполне, смерть используя вволю, как
аргумент прозрачный вполне сюжетного построения.
Ямпольский заметил, что Аркадий Драгомощенко относится к бытию, как к тексту. Даже мысль о смерти у него – «аргумент прозрачный
вполне сюжетного построения». Однако дело не только в некоей «легкости», в «поэтике касания» и даже не в отстраненности и «остраненности»,
но в том, что Аркадий Драгомощенко – поэт экзистенциальный, что выражается не только в стремлении исследовать бытие («Язык, как заметил,
Хайдеггер, – это – дом бытия»), но и в необходимости заглянуть за грань бытия в метафизической жажде ответов на последние вопросы,
поэтому Нева неизбежно впадает в Лету, как в последнем тексте книги, давшем название книге.
Неразменное небо
О метафизичности мета-метафористов, о стихах А. Еременко, А. Парщикова, К. Кедрова,
Ивана Жданова и не только о них
Всю поэзию, в том числе и современную, я бы условно разделил не на традиционную, модернистскую и постмодернистскую, а на поэзию
имиджа («Поза лица» по выражению Д. А. Пригова из давнишней статьи «Нельзя не впасть в ересь», опубликованной в журнале «Континент»
№ 61, 1991), поэзию жеста и поэзию духовного усилия. Только после этого я бы стал говорить о направлениях и школах, то есть о форме. Форма
не является содержанием, как полагали формалисты, но сама по себе форма – содержательна; причем содержательность и содержание, как
заметил Липкин, – вещи разные. Если содержательность делает неповторимым любое литературное произведение, то содержание подчеркивает
либо самобытность, либо беспомощность, а то и вовсе пустоту формы.
Если понимать термин «мета-метафора» в том же смысле, как мы понимаем слово «метафизика», то есть учение о недоступных опыту
принципах бытия, выход за пределы бытия, чисто физического мира, то тогда окажется, что термин не совсем верен, поскольку, у поэтов,
которых обычно относят к этой группе – Алексея Парщикова, Ивана Жданова. Александра Еременко и Ильи Кутика, – не просто метафоры, а
развернутые метафоры, часто катахрезы, то есть метафоры, доведенные до предела и изощренные, пышные метафоры (conceits), сродни тем,
которые были у английских метафизических поэтов. В главе о поэзии С. В. Петрова я писал о том, что термин «метафизическая поэзия» ввел в
обиход Сэмюэл Джонсон, объединяя как светскую, так и духовную поэзию XVII века и предшественника метафизических поэтов Джона Донна тем,
что он назвал «гармонией дисгармонии» («concordant discord»), что по его мнению выражалось в объединении противоположных образов и идей.
Джонсон рассматривает два типа пышных или запредельных метафор: развернутую и телескопическую. Многие из упомянутых свойств можно
проследить и в поэзии мета-метафористов. Возьмем стихотворение Александра Еременко:
В перспективу уходит указка
сквозь рубашку игольчатых карт,
сквозь дождя фехтовальную маску,
и подпрыгнувший в небо асфальт.
Эти жесты, толченные в ступе,
метроном на чугунной плите,
чернозем, обнаглевший под лупой,
и, сильней, чем резьба на шурупе, —
голубая резьба
на
винте.
В перспективу втыкается штекер,
напрягается кровь домино.
Под дождем пробегающий сеттер
на краю звукового кино.
«Дождя фехтовальную маску», «подпрыгнувший в небо асфальт», «жесты, толченные в ступе» являются именно катахрезами, «гармонией
дисгармонии» («concordant discord»), по определению Сэмюэла Джонсона. Однако это скорее «объективистское» нежели метафизическое
стихотворение, поскольку присутствует только картина, подразумевающая передачу чувств при полном отказе от рефлексии. Тем не менее, в
этом и во всех приводящихся ниже стихах прослеживается сила, решительность, мужественность и прямота выражения.
В стихотворениях Константина Кедрова, поэта и теоретика, введшего в употребление термин «мета-метафора» и основавшего мета-
метафорическое направление в поэзии, постоянно встречаются развернутые метафоры: «Отраженьем дышит луна // вдыхая себя и меня»
(«Селена»). Стихотворение «Свирель» изобилует не только традиционными метафорами, но и телескопическими метафорами, сверхметафорами,
катахрезами:
За мной крадется вор с тупой свирелью
в ней все заполнено очами
слепой свирелью стал туманный посох
врастающий в туман
гремит туманом
свирельная ночная мгла
зрачки перебирая
окутанный свирелью горизонт
встает из праха
мертвый как младенец
спеленутый свирелью голубой
слепые роды
голубой свирели
1981
Зрячая свирель – образ хлебниковский, сродни сеятелю очей. Свирельная мгла, свирельный посох, мир, окутанный свирелью – мир
неизреченного слова. Роды голубой свирели – это рождение слова в музыке в мир и перерождение этого мира благодаря слову, и все это —
развернутая метафора-катахреза. Поток метаметафор Кедрова из «Компьютера любви» – это нередко зеркальный палиндром, как бы метафора,
которая смотрит на себя в зеркало:
Человек – это изнанка неба
Небо – это изнанка человека.
В стихотворениях Алексея Парщикова по-иному сочетаются все названные выше метафоры, создавая единый и неповторимый образ-
картину:
Тот город фиговый – лишь флёр над преисподней.
Мы оба не обещаны ему.
Мертвы – вчера, оживлены – сегодня,
я сам не понимаю, почему.
Дрожит гитара под рукой, как кролик,
цветёт гитара, как иранский коврик.
Она напоминает мне вчера.
И там – дыра, и здесь – дыра.
Ещё саднит внутри степная зона —
удар, открывший горло для трезвона,
и степь качнулась чёрная, как люк,
и детский вдруг развеялся испуг.
Все стихотворение, включающее в себя и сравнения, и катахрезы, является развернутой метафорой творчества, потому и «Дрожит гитара
под рукой, как кролик», и «саднит внутри степная зона», «город фиговый» – обещает лишь поверхностное бытование, а не жизнь
(примечательно, что первая строка – единственная шестистопная строчка в стихотворении, написанным пятистопным ямбом). Так же, как и
следующее стихотворение, это стихотворение – не только цельный образ, картина, но и прямой, мужественный взгляд как действительности, так
и небытию в лицо – преодоление страха. В этом стихотворении наряду с передачей образов и чувств присутствует также и рефлексия («я сам не
понимаю, почему», «Она напоминает мне вчера. // И там – дыра, и здесь – дыра», «и детский вдруг развеялся испуг»). Мысль о том, что
прошлое превратилось в дыру, приобретает зримый, а не только умозрительный характер. В следующем стихотворении преобладает гармония
дисгармонии: «гобой, замурованный в сизые печи», который к тому же «печется» в «ветке маньчжурской красы», «зрачок твой шатровый казался
ветвист» и, конечно, две последних метафоры, речь о которых ниже:
В подземельях стальных, где позируют снам мертвецы,
провоцируя гибель, боясь разминуться при встрече,
я купил у цветочницы ветку маньчжурской красы —
в ней печётся гобой, замурованный в сизые печи.
В воскресенье зрачок твой шатровый казался ветвист,
и багульник благой на сознание сыпал квасцами.
Как увечная гайка, соскальзывал свод с Близнецами,
и бежал василиск от зеркал и являлся на свист.
Выдержанное в пятистопном дактиле, стихотворение это поражает необузданностью метафор и фантасмагорическими картинами сродни
Босху. Однако в стихотворении есть и своя скрытая логика. Мифологический василиск, в существование которого верили в Средние века и
который по преданию может убивать взглядом, должен по идее бояться зеркал, так как это может грозить гибелью ему самому. Но не является ли
василиск, являющийся на свист, метафорой бытия, если не самой поэзии для А. Парщикова, особенно, когда рушатся миры, во всяком случае,
небесный свод с созвездием Близнецов, соскальзывает, как увечная гайка со сбитой резьбой? Происходит деконструкция мифа. Миф
«демифологизирован», по выражению Топорова, и транспонирован в иную реальность. Путь, стало быть, ведет за метафору, за реальность
(метареальность по М. Эпштейну) – к метафизике, соединяя зеркальный мир с Зазеркальем, но на метафизическом уровне, то есть, «мета»
становится метаморфозой, если перефразировать Мандельштама.
Многие стихотворения Ивана Жданова, как например, «Неразменное небо» из одноименной книги, опубликованной в 1990 году
издательством «Современник», изобилуют и традиционными сравнениями, и метафорами, и гиперболами в манере Маяковского, и сверх-
метафорами, и многими другими приемами, которые в литературоведении называются тропами:
Раздвигая созвездья, как воду над Рыбой ночной,
ты глядишь на меня,
как охотник с игрушкой стальной,
направляющей шашки в бессвязной забаве ребенка —
будто все мирозданье – всего лишь черта горизонта,
за которым известно, что было и будет со мной.
На обочине неба, где нету ни пяди земли,
где немыслим и свод, потому что его развели
со своим горизонтом, – вокруг только дно шаровое,
только всхлип бесконечный,
как будто число даровое
набрело на себя и его удержать не смогли.
И я понял, как небо в себе пропадает – почти
как синяк, как песок
заповедный в последней горсти,
если нет и намека земли под твоими ногами,
если сердце, смещенное дважды, кривясь, между нами
вырастает стеной и ее невозможно пройти.
На обочине неба, где твой затаен Козерог
в одиночной кошаре, как пленом объятый зверек,
где Медведицы воз укатился в другие просторы,
заплетая созвездья распляской в чужие узоры,
мы стоим на пороге, не зная, что это порог.
Коготь Льва, осеняющий чашу разбитых Весов,
разлучает враждой
достоверных, как ген, Близнецов —
разве что угадаешь в таком мукомольном угаре?
Это час после часа, поймавший себя на ударе
по стеклянной твердыне запекшихся в хор голосов.
И тогда мы поймем, соберемся и свяжемся в круг,
горизонт вызывая из мрака сплетением рук,
и растянем на нем полотно или горб черепах,
долгополой рекой укрепим и доверие к птахе,
и слонов тяготенья наймем для разгона разлук.
И по мере того, как земля, расширяясь у ног,
будет снова цвести пересверками быстрых дорог,
мы увидим, что небо начнет проявляться и длиться,
как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы, —
мы увидим его и поймем, что и это порог.
Все стихотворение является развернутой метафорой. Разворачивая метафору, Жданов наделяет свойствами живых существ небесные
созвездия, когда-то названные людьми по аналогии (что полностью совпадает с Аристотелевым определением метафоры): небо «раздвигает
созвездья, как воду над Рыбой ночной», Козерог «затаен… в одиночной кошаре», «Медведицы воз укатился в другие просторы» – тем самым поэт
как бы продолжает дело древних безымянных поэтов и обживает, очеловечивает небесные просторы, хотя при этом мужественно признает
бренность человека и ограниченность его, неспособного переступить через порог тверди, вечности. Это самобытное стихотворение, выбранное в
качестве примера еще и потому, что оно дало название всей книге стихов, не является исключением в поэзии Ивана Жданова. Так в
стихотворении «На новый год», открывающем книгу, есть и узнаваемые аллюзии, как «Вооруженный четверней сезонов, // сияющих, как ярусы
ковчега» (на память невольно приходит «Вооруженный зреньем узких ос» Мандельштама), и оригинальные сверх-метафоры: «Будильник заведен
на воскресенье, // чтоб ледяное солнце сокрушить» – подтверждения метафоричности поэзии Жданова встречаются едва ли не в каждом его
стихотворении. Метафора становится метаморфозой, что соответствует формуле Мандельштама, когда «узел пространства» превращается в
«узилище свету» («Холмы»), Однако наличие или отсутствие метафоры, как и любого другого тропа, само по себе еще не может служить
доказательством наличия или отсутствия поэзии. Поэзия это – видение, запечатленное в слове, это то, что, как сказал Мандельштам, не
поддается прозаическому пересказу, и, забегая вперед, к тому о чем говорится в конце, – музыка, наполненная биеньем времени. Такое видение
у Жданова безусловно есть, но выявляет он свое видение света через затемненность, преодолевая мрак, в котором загустевают метафоры и
тяжелеет ритм, в общем-то основанный на традиционных метрах[343] с предпочтением либо ямбу, особенно шестисложному с сильной цезурой
посередине («До слова», «Крещение», «Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий…», «Когда неясен грех, дороже нет вины…», «Прозрачных
городов трехмерная тюрьма…» «Пророки (Древний псевдопророк)»), либо разностопным трёхсложникам, в особенности анапесту, иногда с
пропусками безударных слогов («Неразменное небо», «Холмы», «Ниша и Столп», «В пустоту наугад обоюдоогромный…», «Двери настежь»,
«Арестованный мир», «Пророки (Современный антипророк)» «Ты, как силой прилива, из мертвых глубин…», «Преображение»). Путь к свету
усложнен и затемнен для того, чтоб «край небес со сломанной печатью / меня пронзал, как вспышка, как укор» и чтобы внимательный читатель,
преодолев затверженность стиха, вышел вослед за поэтом к новому свету и новому смыслу. Возможно, И. Жданов – едва ли не единственный и
естественный продолжатель поэтики позднего Мандельштама эпохи «Грифельной оды», «1 января 1924» и более поздних стихов не только по
метафоричности, но и по разрыву мостиков-ассоциаций между метафорами. Так, строка «и некуда бежать как от вины» немедленно
ассоциируется с мандельштамовской «И некуда бежать от своего порога» не только на вербальном, но и на экзистенциальном уровне: Жданов —
один из немногих современных поэтов, пишущих при свете совести. Именно поэтому он пишет так трудно и медленно, так как поэт, по
собственному его признанью, «речью пойман своей, помещен в карантин, / совместивший паренье и дыбу». Жданов беспощаден не только к
эпохе, в которой «чучело речи в развалинах телеканала, /или шкаф с барахлом, как симметрия с выбитым глазом,/ или кафельный храм, или
купол густого вокзала, / или масть, или честь, оснащённая противогазом» («Ниша и столп»), но и, что весьма существенно, поэт беспощаден и к
себе и судит себя едва ли не более строгим судом, как в стихотворении «Арестованный мир», в котором он выводит на свет совести
«запрещённые страхи» из подполья «мемуарного подвала». Однако именно в силу этой беспощадности возникает доверие к слову и вере поэта в
«то, что снаружи крест, то изнутри окно». Верует Жданов сокровенно: «Сад сокровенный, далекий, незримый, всевышний», как бы
проговариваясь и выговариваясь: «Я не пою, а бреду по дну нестерпимого воя» и договаривается до афоризмов: «Встреча во времени недалека
от разлуки», «Клятва – ведь это залог, и подобна повязке / той слепоты, что иного прозренья не хуже». Кто же тот, второй, «неравный себе»? —
Второе я – Alter ego? Всевышний? Но прописных букв поэт избегает – вера его сокровенна. Именно это – не утяжеленный метафорой стих, что
является следствием видения и воззрения на мир – мировоззрения – и отличает Жданова от других поэтов.
«Джинн, выпущенный из бутылки»: о модернистах и постмодернистах в современной
русской поэзии
жетрепетень! жепениё!
жопенневый шопенжё!
Сергей Сигей. ЖЭПЭТЭЖ
В эпиграф вынесены строки из стихотворения «ЖЭПЭТЭЖ» довольно известного современного транс-поэта конструктивистского направления
Сергея Сигея. Погодим пока делать наспех выводы о том, что автором руководило только желание дать «пощечину общественному вкусу», как
было сказано в манифесте первых русских авангардистов – футуристов. И футуристы, представлявшие хотя и едва ли не самое известное, но
только одно из многочисленных направлений русского авангарда начала XX века, и представители диаметрально противоположного направления,
акмеисты, восстали против абстрактных понятий, против возвышенных и затасканных слов, против традиционного мышления и эпигонского
стихосложения, против затасканных рифм и размеров. Аналогичные явления происходили в американской и западноевропейской литературе.
Отмежевываясь от символизма, Паунд писал, что «имажизм – это не символизм. Символисты были озабочены „ассоциациями“, иначе говоря,
чем-то вроде аллюзии, почти аллегории. Они низвели символ до статуса слова. Они превратили его в одну из форм метрономии. Можно быть
чрезвычайно „символическим“, используя слово „крест“ для обозначения „испытания“. Символы символиста имеют твердо установленное
значение, как числа в арифметике, как 1, 2 и 7. Образы имажиста обладают переменным смыслом, как алгебраические знаки a, b и х.
Более того, никто не желает зваться символистом, потому что символизм обычно ассоциируется со слащаво-сентиментальной техникой стиха.
С другой стороны, имажизм – это не импрессионизм, хотя многое из импрессионистского метода подачи заимствуется или могло бы
заимствоваться. Но это лишь определение путем отрицания. Если же от меня требуется дать психологическое или философское определение
„изнутри“, я могу сделать это лишь с опорой на мою биографию. Точная формулировка подобного вопроса должна основываться на личном
опыте»[344].
Знаменательно, что О. Мандельштам почти в то же время пишет о преодолении символизма в статье «Утро акмеизма» (датированной между
1912 и 1913 г.), причем так же, как и Паунд, прибегает к математическим сравнениям: «А=А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм
томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного a realibus
realiora»[345] (Мандельштам 1990, 144). В статье же «О природе слова» Мандельштам дает сходную характеристику символизму и намечает опять-
таки сходные пути его преодоления, в частности, предлагая «рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим устраняется
вопрос о форме и содержании, буде фонетика – форма, все остальное – содержание» (Мандельштам 1990, 183). Примечательно, что оба поэта,
занятые обновлением языка и поэзии, отрицали путь, избранный футуристами как ограничивающий возможности, тяготея к мировой культуре, к
эллинизму, Средневековью (причем оба ориентиром избрали 1200 г. и среди прочего – поэзию южной Франции – провансальских трубадуров),
Данте, Вийону, которым оба посвятили и стихи, и статьи, приветствуя пир идей и цитат – вспомним мандельштамовское «цитата есть цикада» из
«Разговора о Данте», а Паунд избрал впоследствии своим методом глоссолалию – диалогизм многоязычных цитат. Не случайно поэтому среди
всех течений авангарда и модернизма американская исследовательница творчества Мандельштама Клара Каванах особенно отметила родство
исканий Паунда, Элиота и Мандельштама[346].
Аналогичный перелом во всех областях русского искусства и литературы (и не только русского) начался в 1970–80 гг., а фактически еще
раньше – в шестидесятые годы. Именно в это время на западе получили известность «Битлзы», Элвис Пресли, художник Джексон Поллак, поэты
Аллен Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти, прозаик Джек Керуак.
В последние десятилетия, начиная приблизительно со времен перестройки и продолжаясь в нынешний, так называемый «постсоветский»
период из подполья («андерграунда») на страницы независимых изданий хлынул поток произведений или, как это теперь принято называть,
текстов. Начерно, торопясь выговориться, говорили те, кому зажимали рты. Явление это, как остроумно заметил Сергей Бирюков, было сродни
«джинну, выпущенному из бутылки».
На переднем крае авангарда – то, что было до слова: слог, звук, вакуумная поэзия, наскальный рисунок, жестовая поэзия. Слова утратили
вес, доверие – вспоминается известное: «слова, слова, слова». Метры и ритмы стерлись. Примета времени – аритмия, ломка ритма, выход к
вакуумной поэзии. Бывает молчание, когда нечего сказать, и молчание от избытка мыслей, образов, чувств. И есть молчание души, созерцающей
бездну. Однако сомнительно, чтобы в последних двух случаях художник систематически прибегал к вакуумной поэзии – уж слишком много в ней
игры, жеманства, эпатажа. Эпатировать можно людей, не бездну.
Дмитрий Булатов из Кенигсберга пытался дать теоретическое (лингвистическое) обоснование исканиям современной нео-авангардной
поэзии. «Лингвистическая проблематика предстает в экспериментальной поэзии в достаточно парадоксальных формах», – пишет он в
двуязычном русско-украинском издании «Мова», опубликованном в Днепропетровске (1996). «Экспериментальные тексты, в виде которых
реализуются многие работы конкрет– и визуальных поэтов, служат для них прежде всего средством определения границ языка и попыткой
ограничения претензий на его гегемонию. Поэтому наряду с умозрительным и аналитическим началом для экспериментальной поэзии
существенное значение имеет установка на те формы восприятия, которые не поддаются языковому выражению и не могут быть названы. Эта
проблема формулируется в экспериментальной поэзии в виде парадокса: может ли поэзия освободиться от языкового способа существования, тем
не менее оставаясь в пределах языковой формы?» Претензий на гегемонию нет ни у языка, ни у поэзии – таковые проявляются лишь у носителей
(или у «разносчиков») того или иного языка. В конце концов, можно и вовсе отказаться от языка – изъясняться на языке жестов, танца, рисунка,
живописи, музыки. Но тогда придется эти языки изучать…
Жить в языке, только в языке, подчас невыносимо – пытка, каторга. Образы улетучиваются, как пыль, как время. Остро чувствуют
некоторые авторы неуютность культуры, отягощенной знанием – «во многом знании многая печаль».
Творчество так же, как и сама жизнь, требует мужества и достоинства. Это не только привилегия, но и обязанность: дар Божий не дается
даром. Едва ли не главной обязанностью не только художника, но и любого мыслящего человека, homo sapiens является осмысление бытия и
времени. Вновь хочется повторить уже приводившуюся цитату из Хайдеггера, что «язык это – дом бытия». Поэт – хранитель языка, хранимый
им. Как только мы перестаем хранить язык, он перестает хранить нас. Стоит разрушить этот дом – и разрушивший его оказывается в пустоте.
Многие современные поэты (а также прозаики, драматурги, художники) рефлексируют, анализируют, теоретизируют (хотя впрочем, во
многих случаях трудно отделить одно от другого, а другое от третьего в творчестве одного и того же автора – не случайно ведь – смешанная
техника – многоЯкость и многоликость).
Андре Жид говорил, что «…гениальные художники никогда не начинали с предвзятой теории искусства. Они приходили к искусству
собственным актом творчества, не желая и не зная этого. Вот почему их искусство… было новым». В наши дни появилось немало поэтов,
писателей и художников, которые своими теориями опережают собственную практику. Рефлексия, ведя, казалось бы, вперед, уводит многих и
многих назад, к тому, что было до них – к «искусству как приему», обнажению швов, к некоему авангардистскому сальеризму. Если мета-
метафористы искали то, что лежит за метафорой и, очевидно, за метонимией, синекдохой и другими тропами, то нео-авангардисты идут другими
тропами. Они стремятся использовать все возможности, пробуя все, осваивая формы, известные со времен античности (палиндром, центон),
наследие русского авангарда начала века, искания современного европейского и американского авангарда, словотворя, неологизируя,
агонизируя. Хочется повторить мысль Лиотара о том, что если у модернистов начала века еще была надежда на выход из отчаяния, на спасение,
то у постмодернистов, по его мнению, такой надежды нет.
Как считает современный исследователь культуры Михаил Эпштейн, «модернизм можно определить, как такую революцию, которая
стремится упразднить культурную условность и относительность знаков и утвердить стоящую за ними бытийную безусловность… Постмодернизм,
как известно, критикует модернизм именно за эту иллюзию „последней истины“, „абсолютного языка“, „нового стиля“, которые якобы открывают
путь к „чистой реальности“. Само название показывает, что „постмодернизм“ сформировался как новая культурная парадигма именно в процессе
отталкивания от модернизма, как опыт закрывания, сворачивания знаковых систем, их погружения в самих себя». Затем определяя понятие
«гипер» как «чрез-мерность – такой избыток качества, когда, переступая свою меру, оно переходит в собственную противоположность»,
М. Эпштейн говорит о двух ипостасях или стадиях данного явления: стремление к «супер» как к некоему абсолюту и высшей реальности, на деле
приводит к «псевдо» – тому, чем оборачивается «супер» в действительности. «Модернизм – это „супер“, поиск абсолютной и чистой
реальности». Постмодернизм – это «„псевдо“, осознание условного, знакового, симулятивного характера этой реальности». Возникает, однако,
вопрос: способен ли постмодернизм создать или хотя бы выдвинуть некую новую идею – художественную, философскую, нравственную – или он
обречен на отрицание и, исчерпав запас «обманутых иллюзий», вынужден будет погрузиться в безмолвие сродни вакуумной поэзии?[347]
Во многом не соглашаясь с М. Эпштейном, С. Зенкин не оспаривает предположение первого, что вся современная культура (и не только
культура, но и политика, философия, социология и т. д.) предпочитает осмысливать самое себя с помощью префиксов: «соцреализм» и «соцарт»,
«гиперреализм», «постмодернизм», «постструктурализм», «деконструктивизм», «неоромантизм», «нео-авангард» (аналогично – пост-, нео-,
антикоммунизм, неофашизм и т. д.). Очевидно, что все подобные префиксы говорят о той или иной мере преодоления, развития или отталкивания