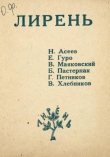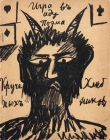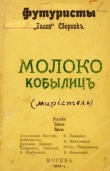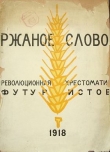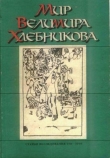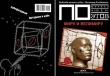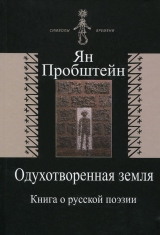
Текст книги "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии"
Автор книги: Ян Пробштейн
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
жизни – как хорошо, что он дожил до девяностых – к нему зачастили литераторы из столицы, начали печатать в «толстых» журналах, были
опубликованы три его книги – две в Минске и одна в Москве.
Как Тютчев, он в высоком смысле риторичен, и как Тютчев, он избрал форму отрывка, фрагмента, как писал Тынянов. Поэтому не случайны у
Блаженного аллюзии на Тютчева: «Он простирал куда-то руки, / И ширил плечи, как крыла. / И клокотали в горле звуки, / Как у Зевесова орла».
Блаженный негодует, отрицает и вопрошает: «Я так и не пойму, что значит быть известным./ Известны ль облака? Известна ли гроза?». Однако
поэт не только отрицает, но через отрицание приходит и к утверждению: «Не беда, что я где-то в дороге забыл свое имя,/ мне подскажут его
суетящиеся мураши», «Нет, это воля Бога и судеб / И это не грешно и не нелепо…», «Только Богу известны звериные тайны», «А этот старый дед
– он Богом был когда-то», «А я вам говорю, что все это было вчера – / И Пушкин убитый, и Лермонтов, сосланный, в бурке». Он отрицает смерть
и переживает гонения поэтов от Пушкина до Есенина, Клюева и Павла Васильева, своих предтеч-мучеников, как свою личную трагедию.
Цветаевой же поэт посвятил едва ли не самые проникновенные и горестные свои стихи:
Моя заботушка, Марина,
Я обниму тебя за гробом,
Из петли мученицу выну,
Почту усердием особым…
………………………………
Маринушка, рубец на шее —
Он не дает прорваться вздоху,
А вздох – он молит о прощенье:
«Прости, Господь, свою дуреху…
Прости, Господь, меня, горюху,
Ожесточилась – не стерпела,
Петлей накинула разлуку
На душу грешную, на тело…»
Маринушка, стоим мы оба
И бьем в порог господний лбами…
Похорошели мы у гроба,
В кровавой выкупались бане.
Это – плач в голос; так рыдали и кликушествовали бабы в деревнях. Только блаженные и могут так жалеть – до самозабвения. В эту скорбь
веришь: это истинное горе и плач по умершей, в отличие, скажем, от Пастернака, также посвятившего стихи «Памяти Марины Цветаевой», при
этом ни на минуту – ни на строку – не забывая о собственном величии:
Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.
Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.
Так и тянет добавить: «задумывал в прошлом году», да более важные дела отвлекли. Потому-то и не удалось знаменитому поэту перенести
прах той, которая, быть может, ему одному и верила, и вестей ждала от него – там, в Елабуге. Ведь Реквием – это не только поминовение
усопших, но стихи о вечной жизни, в которую верит Блаженный, но не верит Пастернак, переполненный более жалостью к себе, чем к Цветаевой
(нормальные люди всегда жалеют себя, когда пишут о смерти других), потому и – «труд не такой уж ахти». У блаженных не бывает более
важных дел, и труд «Сопровождать воскресших и впервые / Приветствовать умерших – их призванье» (О. Мандельштам).
К самоубийству у Блаженного ветхозаветное отношение: он не только не судит самоубийц, понимая, что есть пределы отчаяния и пределы
терпения, но и жалеет их – не только Цветаеву, но и своего брата, способного литератора и журналиста, которого после убийства Кирова
затравили «двуногие», числившиеся в друзьях. Оглядываясь на собственный путь с высоты прожитых лет, которые он исчисляет сотнями лет, он
обличает окружающий мир:
Я стар не потому, что много лет назад
Родился я на свет в надежде и печали,
А потому, что я сошел однажды в ад,
Где все, кого я знал, – все были палачами.
В этих стихах – и величие неназванного Данте, и гнев ветхозаветного пророка. Отвергая этот мир, Блаженный принимает родство —
сумасшедших, бездомных кошек и собак, птиц и зверей, понимая, как св. Франциск, птичий язык лучше, чем язык нормальных людей:
Когда у поэта поехала крыша,
Он вспомнил зачем-то минувшее лето,
Когда он гулял по лазури с Всевышним,
И тот признавался, что любит поэта.
И это признанье услышала птица
И вся отдалась неземному порыву,
Ей тоже хотелось поэтом гордиться,
Поскольку и птица чирикает в рифму.
Он и сам – птица небесная: всю жизнь, как сказано в Писании, прожил, как птица, и мечтал лишь о легкости и о крыльях:
Я всегда удивлялся полету пернатых
И хотел быть бродягой легчайшего веса,
И хотел из скитаний своих бесноватых
Смастерить два крыла для небесного рейса.
И еще мне хотелось – по праву пичуги —
Позабыв о подачках подножного хлеба,
Замереть в поднебесье в сладчайшем испуге —
И клевать, и клевать своим клювиком небо.
Подобно тому, как он изменяет понимание безумия, показывая мир «нормальных людей», он сдвигает и само понятие одичания – для него
это просто означает быть ближе к малым сим («И пусть они мое простят мне одичанье/ Когда я задеру пушистый хвост трубой»), у которых тоже
есть душа и у каждого – свой кошачий или собачий Бог, и «только Богу известны звериные тайны», где «у каждого зверя в небесном лукошке/
Есть свое заповедное тихое место». Мудрец и поэт, он видел возвышенное в приземленном, отрицал бескрылое человечье знанье, предпочитая
учиться у безумцев и зверей:
Меня учила мышь мышиному веселью,
И правилам своей монашеской игры,
Когда я навещал ее сырую келью,
Где свалены в углу умершие миры.
Меня учила мышь неслышному согласью
С ничтожною своей мышиною судьбой,
А также немоте – такому полногласью,
Когда лишь не дыша становишься собой.
Прислушайся к себе – и вдруг ты станешь мышью,
И станешь мурашом, и станешь трын-травой.
Меня учила мышь загробному затишью,
Когда уже душе не страшно быть живой.
Строгая форма 6-стопного александрийского ямба с анафорическими повторами-заклинаниями соответствует строгой иерархии земной и
загробной жизни. Микромир Блаженного сродни его макромиру: он способен не только увидеть космос бытия в мышиной норе, но и заглянуть в
Ничто, страшась при этом не смерти, а жизни. В мышином веселье и согласье с судьбой – и смирение, и мудрость, и принятие жизни, и принятие
смерти. Умению увидеть умершие миры, сваленные в мышиной норке, научиться нельзя. Он знает своим блаженным ведением, что и он,
безгрешный, грешен, и признается бумаге:
Но я был вперемежку: и с радостью детской и с горем
Старика-страстотерпца, и был на своем я веку
Всяким образом Божьим, и было порой что-то бесье,
Что-то бесье во мне. Но мечтал я о вольном крыле,
И я все-таки птица, когда я гляжу в поднебесье
И когда забываю, как долго я жил на земле.
Противоречие между возвышенным и земным обыгрывается дважды в этих, казалось бы, бесхитростных стихах. Рифма у Блаженного имеет
едва ли не большее значение, чем стихотворный размер, подчеркивая и сходство, и различие миров: «поднебесье» отвергает бесье, а птичья
легкорылость отрицает приземленность и людские страдания. Он прожил трудную, полную лишений жизнь. Родившийся в 1921 г. в маленьком
белорусском местечке Копысь, он пережил войну, прожил большую часть жизни в Минске, где его считали сумасшедшим, до войны учился на
историческом факультете пединститута и, будучи в эвакуации, учительствовал в сельской школе в Горьковской области, но преподавать историю
после войны ему, разумеется, не разрешили, так как он не был членом партии, да и вообще был не от мира сего. Так он и пробавлялся всю
жизнь, проработав 23 года в инвалидной артели, откуда его время от времени заботливо отправляли в психушку. За все эти дары поэт благодарен
своей судьбе:
Какой огромный мир я получил в подарок
От нищего отца: и посох, и суму,
И праведной свечи копеечный огарок,
И на исходе лет – узилище-тюрьму.
Обыгрывая и русскую пословицу, и стихи Пушкина, который готов был принять все, кроме безумства, Блаженный принимает и это, а кроме
того, и горе, и скитания Вечного Жида:
Как будто он, отец, владел землей и морем,
Как будто он дарил кому-то города,
Ну а меня решил порадовать он горем —
Наследство – хоть куда…
Какой огромный мир я получил. Как щедро
Меня поила даль скитальческих тревог,
Когда я на ветру шел грудью против ветра,
И за меня в пути рукой держался Бог.
Он тоже мне отцом завещан был в наследство,
Скиталец, вечный Жид, не нужный никому.
Тот, на кого мое посматривало детство,
Как смотрят на чуму…
Усеченные строки в этом 6-стопном александрийском ямбе, обрывают молитву-заклинание, царапают ухо и притягивают внимание.
Подаренные города – это не из книги путешествий, а города украденные, символизирующие скитания Вечного Жида. Наследство настолько
щедрое, что и сам Бог, удивляясь подобному безумству, но не покидающий своего ребенка-изгоя, вынужден искать в нем опору – «держаться за
него». Поэт же, принявший отцово наследство, идет по миру, превозмогая ропот, который звучит отголосками-эхо в рифмах: «подарок – огарок»,
«суму-тюрьму», «морем-горем», «щедро-ветра», «наследство-детство», «никому-чуму». Он убежден, что его хранила и сама Смерть, пораженная
его мужеством:
И Смерть меня от смерти берегла,
Дивясь моей безропотной отваге,
И незаметно птичьих два крыла
Приделывала вечному бродяге…
К наследству отца добавляется наследство матери – наследство утрат. Мать его потеряла двоих сыновей – один умер в детстве, а другой,
затравленный рационально мыслящими двуногими, повесился. Эти утраты заставили и мать искать успокоения в Боге, а сын утешал чем мог и
делал странные подарки:
Голубую звезду я начистил до блеска слезами,
А потом я пустил в это дело и кровь, и плевки,
Чтобы сделать подарок моей исстрадавшейся маме,
Чтобы мама моя не исчахла от слез и тоски.
Постепенно они сравнялись в возрасте, и сын стал старше и умудреннее своих родителей, но в мудрости своей не растерял детскости, любви
и веры. Основным же – краеугольным камнем его веры было то, что смерти нет, и что даже наперекор собственной воле предстоят бесчисленные
превращения:
Я не ушел, не умер, не погиб —
Ушел, но лишь затем, чтобы вернуться…
О воскресении он говорит без патетики, как бы даже примиряясь с неизбежностью:
Пускай негаданно я умер,
Но ведь придет и воскрешение,
И я скажу, что я безумен
Себе и Богу в утешение.
Не отрицая смерть, он противопоставляет вечности местное земное время «Песочных часов», как озаглавлено одно из стихотворений, и готов
заговорить даже смерть:
Помилосердствуй, смерть: давай с тобою выйдем,
Как дети на лужок, на звездную межу
И никого в пути безгрешном не обидим,
И за предел земной тебя я провожу…
Его «Песочные часы» и «Мельница» сродни Державинской «Реке времен» с тою лишь разницей, что мельница у Блаженного – и чертова, и
Богова:
Мельница вертится – Богова, чертова.
Имя мое – не мое, а бессчетное.
Я на земле поселил свои области.
Я на земле поселил свои горести.
Царство стихов основал самозванное…
…Люди, простите меня, окаянного.
Мельница эта – еще и мельница мамина, и мельница брата («вертится брат мой в петле веревочной»), она перемалывает не только жизни,
но и смерти. Даже отплытие в смерть у него не античное – в ладье Харона, но в грубой лодке, «сколоченной наспех и грубо», отплытие в
одиночество – к Богу, который окликнет одинокую душу:
Отрешись, мой дружок, от загробной печали
И вдохни милосердное, вечное, синее.
Нищий безумец, святой грешник, Вениамин Блаженный-Айзенштадт наполнил нас роскошно-скупым и весело-скорбным стихом, напомнив о
тех временах, когда поэты были пророками, а пророки – поэтами.
«Песен звонкая тщета»:
Роальд Мандельштам, поэт из легенды, или Как он растоптал желток О. Мандельштама
и проехался в трамвае Гумилева
О Роальде Мандельштаме существует немало уже опубликованных легенд: отец-американец, блокадное детство, уничтоженный архив и т. д.,
даже даты рождения и смерти перевраны, поэтому следует начать с Судьбы и слова потому, что в слове и через слово биография становится
судьбой (со слов сводной сестры Елены Дмитриевны Петровой, в девичестве Томиной-Мандельштам).
Судьба и слово
Роальд Чарльсович (так написано в свидетельствах о рождении и смерти) Мандельштам (16 сентября 1932–26 января 1961), которого
близкие звали Аликом, прожил 28 лет, с 4-х лет болел астмой, с 16 – туберкулезом, к которому впоследствии добавился костный туберкулез. Он
нигде не работал, поэтому не получал пенсию и потому жил в страшной нищете, проютившись всю жизнь в советских коммуналках, оставил после
себя около 400 стихотворений и несколько поэм, не напечатав при жизни ни одного. Отец его, Чарльз Яковлевич Горович, родился в Нью-Йорке:
его родители происходили из весьма обеспеченной семьи, и бабушка поэта ездила рожать в Нью-Йорк, где врачи получше. Отец не вырос в
Америке, не был революционером и, соответственно, не возвращался в СССР в тридцатые годы «помогать строить социализм», как о том пишет
Л. Гуревич[266]. Инженер по профессии, он был разносторонне образованным человеком, обладал феноменальной памятью, обожал поэзию, и, по
свидетельству матери Роальда, часами наизусть читал как классическую поэзию, так и стихи поэтов Серебряного века, Пастернака, Цветаеву,
Ахматову, Осипа Мандельштама, Гумилева, чем и подкупил ее сердце. Мать, Елена Иосифовна Мандельштам (Томина по второму, но первому
официально зарегистрированному браку), закончила Технологический институт в Ленинграде, химик по профессии, хорошо рисовала и писала
маслом, в юности сама писала недурные стихи. Мама любила Северянина, и в ее стихах есть немало посвящений и подражаний этому поэту. Я
видел ее фотографию тех лет. Она была необычайно красива – не удивительно, что не было отбоя от поклонников, которым она неизменно
отказывала – роковая девушка Серебряного века. Она родилась 6 июня 1906 г. Ее отец, Иосиф Владимирович, был известным в Петербурге
адвокатом, а его брат Яков Владимирович был не менее известным адвокатом в Москве. В Петербурге достаточно было сказать извозчику: «К
адвокату Мандельштаму», и тот вёз, не спросив адреса. Некоторые из процессов Иосифа Владимировича описаны у Кони. Как пишет и
рассказывает сестра Елена, обладающая также литературным даром и хорошим стилем, «дедушка был необычайно талантливый и образованный
человек. Он блестяще защитил диссертацию по биологии на тему „Работа левого желудочка сердца амфибии“, но вдруг неожиданно для всех
молниеносно сдал экзамены экстерном на факультете права, и, повесив на одном из красных кирпичных домов на Крюковом канале табличку
„Частное податное бюро“, начал блистательную, как потом оказалось, адвокатскую карьеру. Он был в высшей степени оригинальный и
эксцентричный человек. По своим привычкам и поведению это был тип „рассеянного профессора“. Он любил обдумывать процессы, лежа на
диване с трубкой. В той же позиции он принимал своих клиентов, которые были вынуждены находить его по голосу из-за плотной дымовой
завесы. А если уж дедушка не лежал на диване с трубкой, то обязательно бегал по комнате с такой скоростью, что никто не был в состоянии его
догнать. Даже его жене Вере Ионовне с трудом удавалось его поймать, чтобы нацепить ему на шею галстук перед его уходом в Дворянское
Собрание (он был заслуженный дворянин) или снять с него лишний, который он мог надеть по рассеянности. В дворянском же собрании, вынув
массивные золотые часы, чтобы узнать время, он частенько клал их мимо кармана, и домой, конечно, приезжал без часов. Все эти чудачества не
помешали, однако, ему вести дела столь блистательно, что за всю свою адвокатскую практику он не проиграл ни одного дела. Знаменательно, что
все три его сына и дочь (моя мать) писали стихи, но поэтом стал только мой брат Алик» (Из воспоминаний Елены Мандельштам). Однако после
революции все изменилось. Родители Роальда жили в гражданском браке и вскоре разошлись, а впоследствии отец Алика был репрессирован за
то, что как-то в компании сказал, что Троцкий все-таки был неглупый человек. За этот комплимент он получил 15 лет лагерей и пожизненное
поселение в Казахстане, но продолжал присылать по 25 рублей сыну всю жизнь, однако эти деньги Роальд «жалел» тратить на жизнь и покупал
исключительно книги, но также, как говорит младшая сводная сестра, у него всегда было семь накрахмаленных рубашек на каждый день, и
каждый день он надевал ослепительно белую рубашку даже тогда, когда жил впроголодь (стиль денди-стиляг того времени как знак
свободомыслия и вызов, о чем писала Л. Гуревич). Во время войны Роальд жил в эвакуации с отцом и бабушкой Верой Ионовной, которых через
некоторое время отправили из Казахстана еще дальше – в Сибирь. Пишут, что Роальд мальчиком пережил блокаду, а после войны разыскал
мать, находившуюся в Краснодарском крае, тогда как на самом деле все было не так. Из-за болезни сестры Елены, той самой, которой посвящена
«Колыбельная» и которая была на 8 лет младше, он уехал с бабушкой Верой Ионовной и с семьей двоюродного брата Иосифа Борисовича
Горькова (в первую очередь – как ребенок, больной астмой), а мать с мужем Дмитрием Николаевичем Томиным, инженером-конструктором,
весьма интеллигентным и образованным человеком, тоже, кстати, любившим поэзию, остались с годовалой дочерью, которая находилась при
смерти. Когда кризис миновал, выехать было нельзя, их вывезли только за 90 дней до окончания блокады, в марте (видимо) 1944 г. – под
пулями по Ладожскому озеру, а потом в теплушках для скота в станицу Абинская Краснодарского края, где они угодили на линию фронта и чудом
остались живы (когда пришли немцы в избу, где они прятались, мать закричала по-немецки: «Не входить! Черная оспа!» – со слов Елены). Отец
поехал в 1944 г. на заработки в Тифлис и, очевидно, где-то не в меру разоткровенничался, так как был не очень осторожен и несдержан на язык.
Матери в 1952 г. выдали справку, что ее муж, Дмитрий Николаевич Томин, умер в тюрьме Фрунзенского района г. Ленинграда от паралича сердца
в возрасте 46 лет. По окончании войны они жили в Сталиногорске под Москвой, где мать работала химиком, а в 1947 году решили вернуться в
Ленинград. Так они вновь встретились с Аликом. Сначала они все вместе жили в семье двоюродного брата И. Б. Горькова, а когда мать получила
работу и ей дали комнату 12 кв. м. на ул. Садовой 107, кв. 19, к ним присоединились и Алик с бабушкой. Как говорит сестра, Алик в 16 лет уже
был совершенно зрелым и весьма эрудированным и образованным человеком – видимо, сказалось общение с отцом во время эвакуации. Он
вобрал в себя всю русскую культуру и литературу – от Державина до Хлебникова и Маяковского, включая малоизвестных в то время Гумилева и
О. Мандельштама, которых он цитирует в стихах, в том числе и «Век-волкодав», а некоторые аллюзии указывают на то, что, возможно, он знал и
стихи воронежского периода. Знал он и западную историю и культуру – от столь любимой им «золотой, как факел, Эллады», римской истории и
литературы, трубадуров, Данте, Сервантеса до Лорки, которого он переводил и в письмах писал об этом даже Арефьеву в зону (где эти
переводы? – есть лишь один перевод «Арест Дона Антонио…» и «следы» – «Альбы», излюбленные Лоркой и Р. Мандельштамом, и стихотворение
с названием, позаимствованным у Лорки «Романс о луне, луне», но это даже не вариация на тему, а собственное стихотворение). Это тем более
важно, что во времена, когда его младшие современники, даже И. Бродский, жаловались на то, что преемственность культуры была прервана, и
им все пришлось начинать и открывать для себя заново, Р. Мандельштам впитал эту культуру с раннего детства от родителей и бабушки – в
прямом смысле с молоком матери.
Вскоре мать арестовали, и, предъявив обвинение в том, что она сестра врага народа поэта Осипа Мандельштама (!), продержали 4 месяца в
«Крестах». В архиве КГБ оказалась довоенная открытка, года 1927-го, от бывшего отвергнутого поклонника матери Горчакова, также
репрессированного. Видимо из мести, вместо обратного адреса он написал: «Осип Мандельштам» и свой адрес. Эта открытка хранилась 20 лет, а
потом ей был дан ход. Были опрошены около 300 сотрудников института, и все они (!!) подтвердили, что Елена Иосифовна морально устойчива,
большая труженица, патриот и прекрасной души человек. Произошло чудо – ее выпустили. Один из вертухаев так и сказал: «Это чудо. На моей
памяти отсюда живыми не выходили». Таким образом спасли и Елену, так как ее сразу же поместили во временный детский дом в то время, как
Алик (Роальд) жил в это время с бабушкой в семье Иосифа. В день освобождения матери Елену должны были отправить в постоянный детский
дом, но в этот момент за ней пришла мама. На этом мытарства не закончились, так как Елена вскоре заразилась туберкулезом от брата, у
которого была открытая форма и каверны в легких, и для того, чтобы ее как-то спасти, мать сняла комнату неподалеку от Сенного рынка, а потом
получила комнату на Заозерной. Когда Елена выросла, она поступила на биологический факультет ЛГУ, затем в аспирантуру; до поступления в
университет работала лаборанткой, а потом младшим научным сотрудником и получала повышенную стипендию 55 руб., на эти деньги, кажется,
83 рубля (в лучшие годы), они и жили, так как мать перенесла один за другим 5 инфарктов, став в конце концов лежачей больной. Отец Алика
продолжал присылать деньги, рублей по 25 в месяц, но эти деньги Алик тратил на книги. Отец приезжал в Ленинград в 1960 г., чтобы повидаться
с сыном и Еленой Иосифовной (и говорил ей, что она разбила его сердце и жизнь). Так она и жила – ухаживая то за матерью, то за братом, при
этом училась и работала. Говорит, что никогда не приносила с работы домой спирт, который до сих пор вспоминает Волохонский. При этом в
конце 1950-х, когда Алику становилось все хуже, она не только ухаживала за ним, но и записывала его новые стихи и помнит их наизусть до сих
пор. Он был блестяще образован, писал для друзей курсовые работы и сдавал экзамены по любому предмету, даже мог за несколько дней
подготовиться к экзамену по медицине (Арефьев учился во 2-м Мединституте). Сам же учиться не мог, так как из-за приступов астмы не мог
посещать занятия. Он поступил в Политехнический, потом на Восточное отделение факультета иностранных языков университета (изучал
китайский), но курса не закончил, однако полюбил китайскую и японскую поэзию и искусство, и это наложило неизгладимый восточный
отпечаток на его стихи. Была Елена поверенной и некоторых личных тайн Алика. Был он влюблен в некую девушку Аню, которая не понимала его
стихи и отвергла его:
Ей стих размеренный приятен,
Певуч, изыскан и остёр,
Но точно так же непонятен,
Как мне – языческий костёр.
Ей посвящены многие стихотворения, исполненные любви и светлой грусти:
Я не знал, отчего проснулся,
И печаль о тебе легка,
Как над миром стеклянных улиц —
Розоватые облака.
Мысли кружатся, тают, тонут, —
Так прозрачны и так умны, —
Как узорная тень балкона
От летящей в окне луны.
И не надо мне лучшей жизни,
Сказки лучшей – не надо мне:
В переулке моём – булыжник,
Будто маки в полях Монэ.
После этих строк излишне говорить о том, как неправ был Кирилл Медведев, написавший в рецензии на
книгу Стихотворений, опубликованную издательством Чернышева[267], что его стихи «подчеркнуто антилиричны, в них почти нет природы и
совсем нет человека…»[268]. Однако у Роальда Мандельштама были и стихи, полные экспрессии, гипертрофированных образов, которые на
образно-лексическом уровне передают обиду и даже гнев отвергнутого:
И навстречу – стеклянный, старый —
С треском лопнул дверной пузырь:
Золотым обшлагом швейцара
Предлагает швейцарский сыр.
Обнажив голубую плесень,
Молча падают этажи,
Спирохеты холодных лестниц,
Окон пёстрые витражи.
Майоликие встали звери, —
Я бросаю в дубовый сон
За железную челюсть двери
Электрический иней – звон.
Неожиданна эта встреча!
Никому не смогли помочь
Меловые осколки речи
И чугунная тумба-ночь.
Невозможной мечте о счастье
Умереть на пороге дня:
– Да! – Она как солнце прекрасна!
– Нет! – Она не любит меня!
«Визит к любимой в ночь листопада»
Примечательно, как смена настроения и отношения неизбежно приводит к смене образов – на смену элегичности приходят экспрессивно-
гипертрофированные метафоры: «С треском лопнул дверной пузырь», «Спирохеты холодных лестниц», «За железную челюсть двери /
Электрический иней – звон», «чугунная тумба-ночь». Образы синкретичны, как заметил В. Крейд в одной из первых и до сих пор одной из
лучших статей о поэзии Р. Мандельштама, опубликованной в 1984 г. в «Стрельце». Звук сливается с образом: «С треском лопнул дверной
пузырь»; даже такое простое дело, как звонок в дверь переживается как событие, но не в психологически-описательном плане, а в образно-
звуковом. Для Р. Мандельштама это органично, так как у него это способ видения, если шире – восприятия, а не передачи, поэтому стихи
Мандельштама «изобразительны, а не описательны»[269].
Интересна и система рифмовки: нечетные строки, за редким исключением, – консонансные неточные рифмы с опорой на согласные в
ключевых словах (проснулся-улиц, тонут-балкона, старый-швейцара, плесень-лестниц), в то время как в четных строках, как правило, точные
рифмы, как бы оттеняющие и консонансы, и метафоры-катахрезы, то есть доведенные до предела, или, как писал Кузьминский, «гипертрофию
образа»[270], замыкают строфу (этажи-витражи, сон-звон, помочь-ночь).
Можно говорить о том, что размер, которым написаны 2 последних стихотворения, 3-стопный анапест (однако звучащий по-разному не
только из-за разной системы рифмовки) – второй по распространенности в русской поэзии после 3-стопного амфибрахия, как о том пишет
М. Л. Гаспаров[271], и восходит к знаменитому стихотворению Фета «На заре ты ее не буди» (1842). Этим размером написаны «Колодники»
А. К. Толстого, им пользовались и Некрасов, и символисты, в частности, Белый и Блок, а также акмеисты и, прежде всего, Гумилев. Очевидно,
строка «Невозможной мечте о счастье, /Умереть на пороге дня» ассоциируется с Блоком, однако образно-семантический ряд, метафоры-
катахрезы, говорят о неповторимом видении художника. Увлечение Рикой Аронзон оставило нам еще несколько образцов светлой любовной
лирики:
Я молчаливо зябну на мосту,
Целуя золотистые ладони…
Роняет клён чеканную звезду —
Деревья губит медь осенних броней.
Какие клады ветру разметать!
(В них твой резец, как шпага, Бенвенуто.)
Их даже дворник, выйдя подметать,
Своей метлой обходит почему-то.
Холодный лист, похожий на звезду
И говорящий цветом о лимоне, —
В моих руках:
Я зябну на мосту,
Целуя золотистые ладони.
Цвет, образ, пластика (а нередко и включение всех пяти чувств) говорят о синкретическом восприятии художника. Благодаря неповторимому
видению, поэт не подражает, а продолжает пушкинский стих «Роняет лес багряный свой убор»: метрический размер тот же – пятистопный ямб,
зрительно-экспрессивный – иной, не случайно в изящно зарифмованном продолжении упомянут Бенвенуто Челлини, ибо Р. Мандельштам к тому
же необыкновенно пластичен:
Так не крадутся воры —
Звонкий ступает конь —
Это расправил город
Каменную ладонь.
Или:
Звонко вычеканив звёзды
Шагом чёрных лошадей,
Ночь проходит грациозно
По тарелкам площадей.
(вариант: maestoso включает
музыкально-звуковой ряд)
В стихах Р. Мандельштама – не просто аллитерация, звукопись, но восприятие: подслушанное и увиденное действо, записанное
впоследствии на бумаге. Причем работал он так же, как и его великий однофамилец, с голоса, а работа его заключалась «всего лишь» в том,
чтобы адекватно передать в словах то, что кроме него не видел и не слышал никто. Вот для передачи-то и нужна работа, мастерство. У
Р. Мандельштама, словно у античного поэта, как подметил еще Крейд, нет разделения между живой и неживой природой: город расправляет
ладонь, ночь чеканит звезды и проходит шагом черных лошадей и грациозно, и maestoso (хочется добавить – allegro, как в «Концертной
симфонии» или «Ночной серенаде» Моцарта) – по тарелкам площадей. Об этом в упомянутой статье писал Крейд: «Четкого деления на мир
внутренний и внешний в его стихах нет. Мир в целом переживается как поле действия сил, а не как пространство, вмещающее многообразие
форм. Такие явления, как вечер, ночь, осень, не только персонифицируются, но действуют, как автономные силы» [272]. Подобная
одухотворенность природы и антропоморфность несомненно роднит его с Тютчевым, вся поэзия которого – «живая колесница мирозданья». По
синкретичности и одушевленности образов и видению Р. Мандельштаму ближе всего О. Мандельштам: «Я изучил науку расставанья /в
простоволосых жалобах ночных», «обряд петушиной ночи», «Бежит весна топтать луга Эллады», «Нам остаются только поцелуи, /Мохнатые, как
маленькие пчёлы, /Что умирают, вылетев из улья», «Дикой кошкой горбится столица», «Нынче день какой-то желторотый» – у обоих поэтов
природное синкретическое видение, этому научиться нельзя, о подражании не может быть и речи, но у О. Э. Мандельштама – умение передать
это одним-единственным эпитетом: «ассирийские крылья стрекоз». Примечательно и это стихотворение, существующее в нескольких вариантах:
Когда сквозь пики колоколен
Горячей тенью рвётся ночь,
Никто в предчувствиях не волен.
Ничем друг другу не помочь.
– О, ритмы древних изречений!
– О, песен звонкая тщета!
Опять на улицах вечерних
Прохожих душит темнота.
Раздвинув тихие кварталы,
Фонарь над площадью возник;
Луна лелеет кафедралы,
Как кости мамонтов – ледник.
– Кто б ни была ты – будь со мною!
Я больше всех тебя люблю,
Пока оливковой луною
Облиты тени на полу.
Пока не встанет у порога,
Зарю венчая, новый день —
Я – сын и внук распявших Бога —
Твоя бессмысленная тень.
Неожиданный образ – кости мамонтов – придает сравнению и всему стихотворению в целом глубину: стало быть, это стихи о вымершей, как
мамонты, культуре, о неразделенной любви и отвергнутых стихах, потому и «песен звонкая тщета». Это монолог о неразделенной любви,
обращённый к возлюбленной, однако в последней строфе чувство отверженности, изгойства и столь редкий у поэта агонизм вырастают до
вселенских масштабов. «Оливковая луна», очевидно, перешла из перевода стихотворения Ф. Г. Лорки «Арест Дона Антонио Эль Камборьо на
Севильской дороге», выполненного Р. Мандельштамом в те же годы (очевидно до 1954 г.). Вновь та же одушевленность и одухотворенность: ночь
рвется, темнота душит, фонарь раздвигает кварталы, луна лелеет кафедралы, причем движение и звукопись – язык стихий, движение ночи,
овеществленное в звуке, иное, нежели ласка луны. Р. Мандельштам, как заметил Крейд, «ориентирован на эссенцию явлений, а не на
экзистенцию. Непосредственный интерес к сущности, а не к существованию… Его увлекает сила природных феноменов, и в красоте он обычно
находит динамику, а не статику. Такое понимание красоты предполагает интенсивный, а не экстенсивный поэтический темперамент»[273].