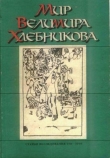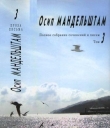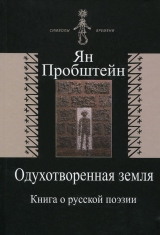
Текст книги "Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии"
Автор книги: Ян Пробштейн
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
что услышал.
II. Offertorio
Ты будешь стоять – нет
не в сонмище страждущих душ —
до этого будешь стоять на миру
на вселенском ветру
нет не уповай
что песчинкой станешь невидной
или – в прах превратившись
смешаешься с пылью и глиной
песчинка ты будешь видна
на самой далекой планете
песчинка ты будешь одна
в беспощаднейшем свете
и шквал пескоструйный
очистит твои побужденья
III. Liber Scriptus
и сольются все звуки в один и все ощущенья
в одно непонятное чувство сольются и те
кого ждешь ты до боли в глазах до седин
на горизонте в точку тоски
в ожидания точку сойдутся
и обстанет тебя безмолвно-беззвездная ночь
и мрака от света не отличая
с глазу на глаз
останешься ты
один на один
с притихшей вселенной
и с безмерной как ночь пустотой
и в провал пустоты устремив
свой единственный глаз
в пустоту окунешься
или это сама пустота
снизойдет на тебя
или в краткое это мгновенье земное
ты в себя лишь глядел и глядишь?
но поведать об этом
ты никогда никому не сумеешь
Текст я почти не правил – только разбил на главки, которых сначала было 9, а три рифмованные части – 5,10 и 12 – я дописал
впоследствии. После того, как я разбил на главки и прочел написанное, мне показалось, что это поминальная молитва, не знаю, почему я дал ей
название «Реквием», а не «Каддиш» – очевидно действительно потому, что «Реквием» Моцарта – одно из самых любимых моих произведений, а
название всей вещи повлекло за собой и названия отдельных главок в соответствии с каноном. Быть может, в этом есть элемент искусственности
и следовало все оставить, как было впервые услышано – вообще без названия. Кстати говоря, тогда не возникло бы и ассоциации с поэмой Анны
Андреевны: между этими двумя вещами нет ни музыкально-смысловой, ни событийной близости. В «Реквиеме» Ахматовой в личном горе, как в
капле слезы, отобразилась трагедия всего народа и наоборот – трагедия народа, страны вобрала в себя трагедию каждого. Это потрясающий
документ эпохи. В моей поэме мистерия жизни и смерти дана во вневременной, если можно выразиться, космической перспективе: драма бытия,
жизни и смерти, греха и искупления принимает космический размах, потому-то я и ввел впоследствии три упомянутые главки. Однако когда я
писал, точнее, как я уже сказал, записывал эту вещь, я еще не был способен проанализировать написанное. Должно было пройти время. Потому-
то под стихотворением, две трети которого были записаны в один день, стоят даты: 1984–85. Важно другое: через некоторое время после того,
как я написал это и несколько других стихотворений, вошедших в эту книгу, в частности, цикл «Страх», я почувствовал, что пришел, наконец, в
себя:
Когда утрата слишком велика,
когда в душе осталась лишь утрата,
ты в мир пустой глядишь издалека,
и нет ни сына, ни отца, ни брата…
Любовь, и боль, и жалость, и тоска
похожи, точно стороны квадрата,
а ты внутри, ты сдавлен, как в тисках,
и мечешься с утра и до
утра ты…
и падаешь, и разбиваешь лоб
о стены одиночества глухие,
и вскакиваешь среди ночи, чтоб
отдаться страху, как родной стихии…
Но лишь поняв, что некому помочь,
однажды пересилишь страх и ночь.
10. Н.К.: Кьеркегор писал: «Никто не возвращается из царства мертвых… никто не является на свет без слез… никто не спрашивает, когда
хочет явиться… никто не справляется, когда желаешь уйти…» Мне кажется, что у философа дана квинтэссенция вашей книги «Реквием».
Предпочитаете ли вы экзистенциальность и абсолютную свободу выбора более, чем, скажем, жизнеутверждающее начало Ивана Карамазова?
Я.П.: Мое приближение к экзистенциализму началось не с Кьеркегора и даже не с популярных в дни моей юности и молодости Сартра и
Камю, а с Тютчева.
В стихотворении Федора Ивановича Тютчева «Два голоса» – эллинское отношение к бытию. Как писал Блок, у Тютчева «эллинское до-
Христово чувства Рока, трагическое». Первый урок экзистенциальной философии я получил от Тютчева. Вообще, Тютчев оказал на меня очень
большое влияние и как поэт, и как философ. Уже потом я обратился к Сартру и Камю, после них – к Кьеркегору, а в последние годы к немецкому
философу Хайдеггеру. У нас нет абсолютной свободы, наше бытие от рождения до смерти определено в значительной мере факторами, от нас не
зависящими: временем и местом рождения, средой, воспитанием, образованием, нашей бренностью, наконец. На житейском уровне наша свобода
ограничена ответственностью перед другими – семьей, детьми, близкими. Однако в этих рамках у человека безусловно есть выбор поступать так,
а не иначе. Наше мужество и достоинство измеряются тем, насколько прилежно мы боремся. Я не считаю, что у человека есть абсолютная
свобода выбора, но у него есть свобода выйти из экзистенции к событию, как сказал Хайдеггер, то есть из существования к осмыслению бытия,
что требует, конечно, немалого мужества, а к тому же неизбежно приводит к столкновению с обществом, человеческими предрассудками и
суевериями. Еще большего мужества требует попытка заглянуть за пределы сущего, в Ничто, как это делал Тютчев:
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Что же до карамазовского «жизнь полюбить больше, чем смысл ее», такое мироощущение, как это ни соблазнительно, мне не присуще.
11. Н.К.: Контрапункт вашего творчества – дихотомия, два мира, две бездны, два пространства…
Я.П. : Две бездны для меня – это отчаяние и самовлюбленность, безверие и фанатизм, жизнь и смерть. Две бездны, если вновь обратиться к
Тютчеву, это когда
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и оне.
Кроме того, существует и чисто языковое раздвоение: я пишу по-русски здесь, а читатель – за океаном, в России, ведь ни для кого не
секрет, что интересы большей части русской эмигрантской общины лежат, в основном, в иной сфере, нежели литература, поэзия. Да и язык,
который слышишь ежедневно, иной – помните, у Бродского: «Птица уже не влетает в форточку»?
12. Н.К.: В одной из ваших поэм есть такие строки:
Покидая общину и общество,
край, где ты вырос,
Уходя, как изгой, ты почувствуешь бремя свободы…
Что в вашей жизни способствовало формированию такого взгляда? Что для вас свобода – бремя или другая мера ответственности?
Я.П.: Это строки из довольно ранней моей поэмы. Взгляды мои с тех пор несколько изменились, однако я по-прежнему считаю, что свобода
– это всегда испытание, часто – бремя, помните, в «Легенде о Великом инквизиторе» тот говорит Христу, что люди готовы отдать свободу за
хлеб, за то, что кто-то возьмет на себя ответственность за их поступки, за авторитет? В бывшем СССР нужно было бороться даже за «тайную
свободу», если воспользоваться выражением Пушкина, в то время как большинство обличало инакомыслящих. Здесь же многие с радостью
отдают свою свободу за хлеб или потому, что привыкли поклоняться авторитетам.
13. Н.К.: Вы часто обращаетесь к теме одиночества, изгойства. Повлияла ли эмиграция на формирование таких взглядов или вы всегда были
«внутренним эмигрантом»?
Я.П.: В нашем бывшем отечестве, СССР, любой думающий честный человек как бы неизбежно становился внутренним эмигрантом.
Собственное творчество, знакомство с мировой литературой в то время, когда переводы произведений Милоша или Борхеса печатать было
запрещено, лишь ускорили этот процесс. Творчество вообще диктует свои правила, изменяет жизнь, требует особого психического состояния,
духовной концентрации, неизбежно приводит к одиночеству:
Творишь не только ты, но и тебя
твое творенье исподволь творит…
14. Н.К.: Что Вы думаете о проблеме «поэт и свобода» в эмиграции?
Я.П.: С одной стороны, в эмиграции поэт свободен от злободневности, от событий, часто незначительных, но в повседневной жизни
играющих немалую роль и часто отвлекающих от сути, я имею ввиду такие, как различные приемы, тусовки или, скажем, всевозможные
перемещения в правительстве, разумеется, я не отношу к таким событиям штурм Белого Дома в 1993 г. или войну в Чечне. С другой стороны, в
эмиграции появляется другая злободневность, приходится жить по законам того общества, в котором оказался: выживать, оплачивать счета,
заполнять бездну бумаг, заниматься бухгалтерией. Америка придает всему этому очень большое значение. Но самое главное – в эмиграции поэт,
писатель предоставлен самому себе, аудитория, интересующаяся поэзией, сравнительно невелика, поэт становится равен самому себе и своей
поэзии, лишен какой бы то ни было общественной значимости, о чем писал Бродский в эссе «Состояние, которое мы называем „изгнанием“». Но
несмотря на все это, невозможно отказаться от долга и от бремени, хотя занятие это с точки зрения практических людей, которых в Америке
большинство, дело бесполезное:
Слово молвите или замолвите
за стоящих у врат —
ни чужих грехов не замолите,
ни тех, что вам предстоят.
И привратник поймет превратно,
если что-нибудь в этом поймет…
Улетают слова безвозвратно,
словно тают за годом год.
Вряд ли ангелы бессловесные
благодатью меня осенят…
Только дело мое бесполезное
кто здесь сделает за меня?
15. Н.К.: Ваше стихотворение «Подпольный человек», мне кажется, не только дань Достоевскому, но и, увы, печальное определение души
человеческой, скованной и заклейменной подпольным сознанием?
Я.П: Верно. Название – лишь отправная точка, символ или, как бы сказали представители семиотической школы, знак, указывающий на
связь с определенным культурно-историческом контекстом. Подполье – очень широкое понятие, но для меня главное, что люди скрывают свое
подполье в милой светской беседе, в умных рассуждениях или в научных трудах и лекциях и – все иссушают, сеют вокруг себя неверие,
безлюбье, цинизм, смерть:
Подпольный человек
Что лежишь, лежебока, на лежбище лжи?
Субпродуктом субстанции впрямь ли доволен?
Знал бы ты, что в недремлющих недрах дрожит
вещий клад вещества, но пока ты подполен,
ни любви любомудрия, ни лепетанья
лепестков – лепоты нерасцветших цветов,
ни миров, что рождаются втуне и в тайне,
не видать и не ведать во веки веков.
В подземельях ума – в сих глухих погребах
что увидишь, отыщешь ты, пасынок правды?
Лишь змеится на пагубных синих губах
ложь-всезнайка, которой все, кажется, рады.
Так и будешь уже до конца стервенеть,
голодая, глодать свое бедное сердце,
чтоб принять с торжеством правоты свою смерть
в подтвержденье теории тлена и смерти.
Очень трудно объяснять свои стихи. Йейтс справедливо полагал, что, объясняя свои стихи, поэт как бы заранее предопределяет
интерпретацию читателя, тем самым сужая ее. Приняв во внимание вышесказанное, могу условно и схематично добавить, что в этом
стихотворении говорится о подполье бездействия, пустого, иссушающего душу умствования, цинизма, о подполье безлюбья, наконец. Знание без
любви – ложь, ум бессилен, талант бесплоден, а жизнь подобна смерти. Но кроме этого, в стихотворении «Подпольный человек» много других
ассоциаций, образов и мыслей.
16. Н.К.: В вашем творчестве, на мой взгляд, больше философской, чем любовной лирики. А как вы понимаете слова Ап. Павла из 1
послания «К Коринфянам»: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал
звучащий»? Какое место в своем творчестве ты отводишь любви?
Я.П.: Полагаю, что апостол Павел говорил о любви к Богу, к ближнему, к людям, не только и не столько о любви к женщине. Более того,
первые христиане серьезно обсуждали вопрос, следует ли истинно верующему вступать в брак. В том же послании Павел высказывает, как он сам
говорит, «позволение, а не повеление» вступать в брак, «чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» и далее добавляет: «Безбрачным
же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я». И в «Подпольном человеке», и в «Реквиеме», и в «Жемчужине» и даже в «Элегиях» я говорю
о любви в широком значении этого слова. Как я уже сказал, любовь и вера в то, что ушедшие остаются со мной, пока их хранит моя память,
позволили мне выжить в буквальном смысле этого слова. Что же до любви в более узком смысле этого слова, отвечу стихами:
Губительный изгиб,
излом бровей, излука —
из тетивы бровей, из лука
лучится свет или лукавство;
…За взгляд один отдать полцарства.
И гнев излит,
и злит излет
души на кромке
миров, где звонкий
ты встретишь день
или – потемки?
17. Н.К.: В чем вы видите разницу между поэзией умозрительной и так называемой поэзией сердца? Существует ли вообще это различие или
оно внушено графоманами в свое оправдание?
Я.П.: Я не вижу разницы между поэзией, как вы выразились, умозрительной, а я бы сказал глубокой, не боящейся того, что «ученость»
выхолостит чувства, не стыдящейся показать, что она – неотъемлемая часть многовекового культурного наследия человечества, и поэзией,
которую принято называть «поэзией сердца». Люди малообразованные или малоодаренные страстно ухватились за так называемую «поэзию
сердца или чувства», а иные «как в ересь, впали в неслыханную простоту», не умея вдуматься, о чем говорил Пастернак, и взяв на вооружение
эту цитату. Я читал немало статей о том, что, мол, Мандельштам переусложнил свою поэзию, «как бы остановился у края пропасти, дошел до
критической точки, в которой хаос невозможно организовать гармонией». Критики Мандельштама сетуют на то, что его поэзия «требует
кропотливого интеллектуального усилия», которое даже если и вознаграждается, то «…не происходит цельного поэтического восприятия, той, по
его же, Мандельштама, выражению, „радости узнаванья“, которая отличает пушкинскую поэтику („поэзия должна быть глуповата“)». Некоторые
«писаревцы наизнанку», если воспользоваться выражением Ходасевича из его пушкинской речи «Колеблемый треножник», оказывают медвежью
услугу Пушкину, постоянно цитируя: «Поэзия должна быть глуповата», забывая при этом добавить: «Прости Господи», ведь у Пушкина так:
«Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» согласитесь, что в полном виде цитата значительно отличается от усеченного варианта.
Поэзия, повторю вослед за Мандельштамом, «совсем никому не должна, кредиторы у нее все фальшивые». И у Державина, и у Пушкина, и у
Тютчева, и у Фета, и У Мандельштама есть тончайшая лирика, а есть глубочайшие откровения, стихи, которые нужно перечитывать и
перечитывать, чтобы понять. В годы царствования серости и усредненности русскую поэзию пытались отучить думать, стремились привить ей
некий усредненный стиль, нечто щипачевско-исаковское. Придумано это было не графоманами, а идеологами. Люди же необразованные и
малоодаренные, а иногда и просто элементарно безграмотные воспользовались идеологией, чтобы на время занять место изгнанных из печати
(хорошо, если бы только из печати!) истинных поэтов. Но поэзия не карьера, а судьба. Судьбу не переломаешь. Можно незаслуженно занимать
какую-нибудь должность и уйти с почетом на пенсию. В искусстве, в поэзии это невозможно. Так называемые произведения этих людей умерли
задолго до физической смерти своих создателей. А мы только теперь открываем поэтов, которые, слова Богу, в этот стиль не вписались, но и в
этом случае обеднел читатель, а не поэзия. Время все ставит на свои места.
18. Н.К.: С Ломоносова и Державина началось философское направление в русской поэзии. Мне кажется, вы тоже принадлежите к этому
направлению в поэзии. Особенно ярко, на мой взгляд, это выражено в вашей последней книге «Элегии». Это еще одна ступень вашего творчества
или завершение некоего этапа?
Я.П.: Философичность вообще свойственна поэзии. Например, в английской поэзии XVII века было целое направление метафизических
поэтов: Джон Донн, Джордж Герберт, Ричард Крэшо, Андрю Марвелл, Генри Воэн, Томас Трэхерн. Но и в поэзии английских романтиков, Шелли и
Китса, не только поэзия чувства, но и глубокая философия. Английский поэт Сэмюэль Кольридж писал в «Литературной биографии», что «никто
еще не становился великим поэтом, не будучи в то же время глубоким философом». Почти все выдающиеся русские поэты были глубокими
мыслителями – не только Ломоносов, Державин, Пушкин, Боратынский, Лермонтов, Тютчев, Фет, но и Некрасов в элегиях, лучшие стихотворения
Бенедиктова по-настоящему глубоки. Не прервалась эта традиция и в 20 веке. Элиот, Бенн, Борхес, Милош создали выдающиеся образцы
философской лирики. В русской поэзии глубокими мыслителями были Хлебников и Мандельштам, Максимилиан Волошин, философична поэзия
позднего Пастернака, Заболоцкого, Штейнберга. Бродский сразу же заявил о себе, как поэт философского направления: достаточно назвать
такие стихи, как «Большая элегия Джону Донну», «На смерть T. С. Элиота». Даже в такой вещи, как «Речь о пролитом молоке», философичность
«остранена» игрой, а начиная с книги «Конец прекрасной эпохи» поэзия его становится все более и более медитативной. Во многих стихах он
обращается к философии непосредственно, названия говорят сами за себя: «Развивая Платона», «Из Парменида»… Среди наших современников,
на мой взгляд, в этом отношении выделяется поэзия Владимира Микушевича, Ивана Жданова, Ольги Седаковой.
В книге «Элегии», состоящей из двух частей, одна из которых написана в России в 80-е гг., а другая в эмиграции, я попытался выразить свое
отношение ко времени-пространству, бытию, а для поэта все это неизбежно связано с проблемой языка и творчества. Слово, творчество —
словотворчество – может разбудить «призраков рой», художник, впервые осознавший свою силу, человек играющий, преодолевая препятствия
пространства, испытания времени, превращается в человека страдающего. Художник, подобно древним мореходам, должен провести свой
корабль между Сциллой самозабвения и Харибдой безучастности. На создавшем лежит ответственность за созданное им, поэтому нельзя
полностью отдаваться воле волн, течению воображения – «дар Божий не дается даром». Странствия в пространстве сродни странствиям духа.
Испытания духа – и безотзывностью, и соблазнами – сродни тем испытаниям, которые пришлось испытать Одиссею – ему не случайно
посвящена одна из элегий II части «Не зря он плакал о своей Итаке…», как не случайна и следующая за ней:
Чужие мальчишки кричат за окном на чужом языке,
чужие пожарники едут чужие пожары тушить,
и радость чужая сегодня чужой переступит порог,
и даже беда на себя не похожа в пределах чужих.
У мира – богатства, соблазны, у мира чудес закрома,
а странник проходит по миру пришельцем в аду и в раю,
да, нищие духом не ищут сокровищ на этой земле,
но стынут озябшие корни, дрожа на весу.
Только пройдя через «огонь агоний» и поняв, что «пережитое принадлежит нам не больше, //чем книга, снятая с полки, или фильм, снятый
не нами» можно понять, что «существенно не место пребыванья – // существованья нашего уместность, //то, призваны к чему, должны
исполнить: //исполниться заботой бытия». Подобное утверждение вполне в духе Хайдеггера, считавшего, что человек проявляет себя лишь в
бытии, вернее «когда вступает в просвет бытия». Главная же задача поэта, одного из хранителей языка, хранимых им, – исцелять от забвения
время, которое «под неизбывным гнетом злобы дня// дробится, распадаясь на осколки», – исцелять его «настоем памяти, на разнотравье//
целебном языка, его корнях// настоянном…» И только выдержав испытание, можно надеяться на то, что «исцелит и время и тебя// целительная
цельность языка». Однако преодоление препятствий – не самоцель, но лишь возможность увидеть новые перспективы, стремясь
…к началу постиженья в то,
что начинает лишь осуществляться:
не вещь, но образ, облик, лик любви
мерцает в озере – зерцале созерцанья,
где облако догадок, словно дым,
вуалью обволакивает тайну.
С тех пор, как в 1995 году книга «Элегии» была опубликована, я написал немало новых элегий, появился как бы новый цикл, который я
условно назвал «Новые элегии». Так что я обращаюсь к этому жанру на протяжении всей своей жизни и, даст Бог, продолжение еще последует.
19. НК: Как вы определяете связь пространства и времени и каково влияние Хайдеггера на ваше творчество?
Я.П.: Меня давно волнует этот вопрос, я написал несколько работ, посвященных тому, какое значение имеет время-пространство для
творчества отдельных поэтов – Хлебникова, Мандельштама, Элиота, Бродского, Борхеса и других, а также рассматриваю поэзию в целом с этой
точки зрения. Вначале я шел в своих критических работах от Бахтина, от его хронотопа. Бахтин ведь разработал эту идею только на материале
прозы, говорил о романном времени, в то время, как в поэзии время еще более емкое, сжатое: в уже упоминавшемся мной стихотворении
Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —/ Летят за днями дни, и каждый час уносит/ Частичку бытия…» – вся человеческая жизнь,
«точка пересечения времени с вечностью», если воспользоваться выражением Элиота, – наше земное дробящееся время на фоне времени
неделимого. Если определять поэзию с точки зрения времени-пространства, то в узком смысле слова я бы сказал, что на «пластическом
пространстве стиха», как любил говаривать Аркадий Акимович Штейнберг, разыгрывается драма бытия, время очищается от злободневности,
становится цельным, исцеляется, а язык обретает новую жизнь. В широком же смысле, в этом вопросе теперь я более следую за Хайдеггером,
нежели за Бахтиным, в особенности же за его мыслью, высказанной в работе «Что такое метафизика»: «Если время каким-то еще потаенным
образом принадлежит к истине бытия, то всякое понимание бытия, бросающее себя в открытость истины бытия, должно заглядывать во время как
возможный горизонт понимания бытия» и – «интерпретация времени как возможного горизонта всякого понимания бытия есть вообще его
предварительная цель». Я пытаюсь показать, что поэзия так же, как и философия, стремится постигнуть истину бытия, заглянуть в потаенное, в
Ничто, яркие тому примеры – державинская «Река времен», тютчевская бездна, искания Хлебникова, «Восьмистишия» Мандельштама, его же
удивительно емкие стихи:
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
А стихотворение Хлебникова 1915 года, начинающееся с высокой державинской ноты, завершается поразительным прозрением:
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы.
Быть современным поэтом – это, на мой взгляд, суметь выразить современную эпоху, сопоставив ее масштаб с величием неделимого
времени, то есть вечности. Искусство так же, как история, является формой времени и пространства, то есть это все формы бытия. Вечность
нейтральна, абстрактна, ее можно определить такими же словами или категориями, которыми мы выражаем наше отношение к Богу:
«безначальный, бесконечный, присносущий». В искусстве и в жизни вечность воплощается в конкретном времени и пространстве, приобретает
конкретность или можно сказать по-другому: искусство и жизнь есть воплощения конкретного времени и пространства. Там, где пересекаются эти
воплощения, возникает реальность, но это разные реальности по той простой причине, что в искусстве и в жизни по разному проявляются и
время и пространство.
Близко мне также и отношение Хайдеггера к языку вообще и к поэзии в частности, он один из немногих философов, умеющих тонко
чувствовать и не менее тонко интерпретировать поэзию, посвятил поэзии и языку немало работ. Полностью разделяю мнение философа о том, что
поэт не только и не столько творит язык, сколько является творением языка, ибо, как сказал Хайдеггер, «…мы приняты в некую исключительную
область, в ту, где мы, требующиеся для того, чтобы дать слово языку, обитаем в качестве смертных». Далее в докладе «Путь к языку» Хайдеггер
говорит: «Всякий язык человека сбывается в сказе и как таковой он в строгом смысле слова, хотя в разной мере близости к событию, есть
собственно язык. Всякий коренящийся в событии язык, поскольку показан, послан человеку через проделывание пути сказа, постольку
судьбоносен».
20. Н.К.: В чем заключается самодостаточность поэта в наше время?
Я.П.: В наше время, как и в любые другие времена, самодостаточность поэта можно выразить двумя пушкинскими формулами: «Ты царь —
живи один», и – «Никому… Отчета не давать…» Сказано на все времена.
Список сокращений
М – Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2-х т. // Сост. П. Нерлер. Подг. текста и комм. А. Д. Михайлова и П. Нерлера. Вступ. статья
С. С. Аверинцева. М., 1990. T. 1. 638 с., т. 2. 464 с.
СС – Мандельштам О. Э. Собрание сочинений. // Сост. П. Нерлер и А. Никитаев. – Т. 1–4. – М., 1993–1997. T. 1 – 368 с.; т. 2 – 704 с.; т. 3
– 528 с.; т. 4. – 608 с.
Т – Хлебников Велимир. Творения // Ред. и вступ. статья М. Я. Полякова. Составление, подготовка текста и комментарии В. П. Григорьева и
А. Е. Парниса. М.: Советский писатель, 1986. 736 с.
МПСС – Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13 т.// Под ред. В. А. Катаняна. М., 1955. T. 1 – 440 с.
Библиография
Источники
Арион. Журнал поэзии. М., 1995–2014.
Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы // Подг. изд. Л. Г. Фризман. М.: Наука, 1983. 720 с.
Бенедиктов В. «Как слово наше отзовется». М.: Правда, 1986. 322–436.
Блаженный Вениамин (Айзенштадт). Скитальцы духа. // Составители С. А. Аксенова-Штейнгруд, Э. З. Басин. Минск, 2000.
Блаженный Вениамин (Айзенштадт). Сораспятье. Минск, 1995.
Блок А. Собрание сочинений в 8 томах. // Подг. и прим. Вл. Орлова. М.-Л: Художественная литература, 1960.
Борхес X. Л. Коллекция: Рассказы. Эссе. Стихотворения. СПб., 1992. – 520 с.
Борхес, X. Л. Заир (перевод Л. Синянской) // Проза разных лет. Мастера зарубежной прозы. М., 1984. 480 с.
Борхес, X. Л. Сочинения в 3 томах. // Сост., пред, и комментарии Б. Дубина. Рига: Поларис, 1994.
Бродский И. Заметка о Соловьеве // Russian Literature Triquaterly. Fall, 1972. Vol. 4. P. 373–375.
Бродский И. Послесловие // Платонов А. Котлован. Ann Arbor: Ardis, 1973. С. 162–164.
Бродский И. Урания. Ann Arbor: Ardis, 1984. 200 с.
Бродский И. Письмо Брежневу // Гордин Я. Дело Бродского / Нева № 2. СПб., 1989. С. 165–166.
Бродский И. Неотправленное письмо // Иосиф Бродский размером подлинника. Л-д-Таллинн, 1990. С. 5–7.
Бродский И. Азиатские максимы (Из записной книжки 1970 г.) // Иосиф Бродский размером подлинника. Л-д-Таллинн, 1990. С. 8–9.
Бродский И. Примечания папоротника // Сост. Б. Янгфельд. Bromma, Sweden: Hylaea, 1990. 56 с.
И. Бродский. Форма Времени. Стихотворения, эссе, пьесы в 2-х т. Минск: Эридан, 1992. 1 т. – 480 с., 2 т. – 480 с.
Бродский И. Набережная неисцелимых. Тринадцать эссе. // Сост. В. П. Голышев. М.: Слово, 1992. 320 с.
Бродский Иосиф. Бог сохраняет все. // Сост. В. Куллэ. М.,1992. 304 с.
Бродский И. Меньше единицы. М.: Изд-во Независимая газета, 1999. 472 с.
Сочинения Иосифа Бродского в 7 т. //Под. ред. Г. Ф. Комарова. СПб.: Пушкинский фонд, 1997–2001. т. I. – 1997. 304 с. т. II. – 1997. 440 с.
т. III. – 1997. 312 с. т. IV. – 1998. 432 с. T.V. – 1999. 376 с. т. VI – 2000. 456 с. т. VII —2001.344 с.
Бродский И. Сын века. // Пер. Л. Штерн. / Новый американец. Нью-Йорк, 1980. 9-14 октября. С. 7.
Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского // Жуковский. Сочинения в 2-х т. М., 1998. – T. II. 448 с.
Гумилев Н. С. Сочинения в 3 т. // Сост. и прим. Н. А. Богомолова. М.: Художественная литература, 1991.
Державин Г. Р. Стихотворения. // Вступ., ред. Д. Д. Благого. Л-д: Сов. пис. (Библиотека поэта), 1947. 288 с.
Драгомощенко Аркадий. Описания. // Предисловие А. Барзаха. Послесловие М. Ямпольского. СПб.: Издат. центр «Гуманитарная Академия»,
2000. – 384 с.
Драгомощенко Аркадий. На берегах исключенной реки. М.: О. Г. И., 2005.
Еременко Александр. Горизонтальная страна. СПб.: Пушкинский фонд, 1999.
Есенин С. Собрание сочинений в 5 томах. Москва: Художественная литература, 1967.
Жданов Иван. Фоторобот запретного мира. СПб.: Пушкинский фонд, 1998.
Искренко Нина. Знаки Внимания. Арго-риск-Kolonna, Тверь, 2002.
Кедров К. Компьютер любви. М., 1990.
Кедров К., Хвостенко А., Лён С., Сапгир Г. Чёрный квадрат. Книга стихов с переводами на французский Кристины Зуйтулян-Белоус. Париж:
Ассоциация русских художников, 1991.
Кедров К. Поэтический лицей Константина Кедрова. М.: Лиа «ДОК», 1993.
Кедров К. Вруцелёт или Одежда Жанны. М.: Лиа «ДОК», 1993.
Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4-х томах, М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1961.
Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987.
Мандельштам О. Разговор о Данте // Слово и культура. М., 1987. С. 115–148.
Мандельштам О. Девятнадцатый век. // Слово и культура. М., 1987. С. 80.
Мандельштам О. Э. Собрание сочинений // Сост. П. Нерлер и А. Никитаев. – Т. 1–4. – М., 1993–1997. T. 1 – 368 с.; т. 2 – 704 с.; т. 3 – 528
с.; т. 4. – 608 с.
Мандельштам Роальд. Собрание стихотворений. // Сост. Е. Томина-Мандельштам и Б. Рогинский. СПб: изд-во Ивана Лимбаха, 2006.
Мандельштам Роальд. Избранное. // Сост. А. Волохонский. Иерусалим, 1982.
Мандельштам Роальд. Алый Трамвай. // Сост. и авт. предисловия Ю. Новиков. СПб: Борей-Арт, 1994.
Мандельштам Роальд. Стихотворения. //Сост. А. Крестовиковский, О. Бараш. Предисловие О. Бараш. Томск: Водолей, 1997.
Мандельштам Роальд. Стихотворения. //Сост. Р. Васми, О. Котельников. Рисунки: Р. Васми, В. Громов, Ш. Шварца, А. Арефьева. Предисл.
О. В. Покровский. Вместо послесловия – Борис Рогинский. Санкт-Петербург: Изд-во Чернышева, 1997.
Мандельштам Роальд. Поэты Северной столицы. Роальд Мандельштам. С. 107–113. // Предисловия Вл. Петрова и Мих. Шемякина, с. 108. /
Аполлонъ-77. Сост. Владимир Петров и Михаил Шемякин. Гл. ред. Мих. Шемякин. Париж, 1977.
Мандельштам Роальд. Антология новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны. // Сост. Кузьминский К. К. и Григорий Ковалев. Newtonvill,
Mass: Oriental Research Partners, 1980. T. 1, c. 119–137,2-A, c. 288–291.
Мандельштам Роальд. Ленинградский андеграунд. Начало Л., 1990. С. 61–78.
Мандельштам Роальд. Антология Гнозиса. Санкт-Петербург, 1994. т.2. С. 200–203.
Мандельштам Роальд. Поздние петербуржцы. Санкт-Петербург, 1995.113–122.
Мандельштам Роальд. Самиздат Ленинграда 1950-е – 1980-е: Литературная энциклопедия. // Сост. и ред. Д. Северюхин, В. Долинин,
Б. Иванов и Б. Останин. М.: НЛО, 2003.
Мандельштам Роальд. Часы № 2 (1976).
Мандельштам Роальд. Часы № 6 (1977).
Мандельштам Роальд. Дневник. // Часы № 22 (1979).
Микушевич Вл. Б. Крестница зари. М.: Современник, 1989.
Микушевич Вл. Б. Сонеты Пречистой Деве. М., Ключ, 1997; Таллинн: Александрия, 1999.
Микушевич Вл. Б. Бусенец. М., 2003.
Микушевич Вл. Б. Тропы Петрополя. Стихи. // Петрополь (№ 1). / Ред-сост. Николай Якимчук. Л-д.: Васильевский остров, 1990. С. 28–40.
Микушевич Вл. Б. Стихи.// Петрополь (№ 3). / Ред-сост. Николай Якимчук. Л-д.: Васильевский остров, 1991. С. 99–103.