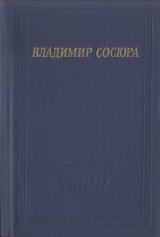
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Владимир Сосюра
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
АВТОБИОГРАФИЯ
Родился я на Донбассе, в городе Дебальцево, Луганской области, в 1898 году, 6 января.
Детство и юность в основном прошли в селе Верхнее, или Третьей Роте, той же области.
Отец мой, Николай Владимирович, вышел из крестьян, имел незаконченное штейгерское образование. Основная его специальность – чертежник. Мать, Антонина Дмитриевна, – из работниц г. Луганска. В юности она работала на Луганском патронном заводе.
Мы часто переезжали из рудника на рудник, так как отец, из-за своего непостоянного характера, не мог долго работать на одном месте. Он говорил: «Не люблю покоряться» или: «Попы обманывают народ» – и не ходил в церковь. И, кроме многих донецких рудников, мы исколесили много сел, где отец учительствовал, получая с каждого ученика по полтиннику и буханке хлеба (палянице).
Вообще отец переменил не одну специальность – от чертежника, учителя, сельского адвоката до шахтера, потому что он пил «горькую» и я редко видел его трезвым. Но характер у него был мягкий, и в трезвом состоянии он был прекрасным человеком. Я очень любил его.
Все же в основном до 20 лет моя жизнь прошла в селе Верхнем.
С 11 лет я начал работать учеником бондарного цеха на Донецком содовом заводе около нашего села.
Зимой я учился в двухклассном министерском училище, а летом трудился то у подрядчика содового завода, то у родственников на сельскохозяйственных работах, косил и обмолачивал хлеб.
Начал я учиться с третьего отделения, куда отец меня подготовил.
За право учения надо было платить 75 копеек, я летом работал у родственников на току – обмолачивал снопы катком на лошади. Получил за это пуд муки, продал на базаре за 75 копеек и купил билет на право учения.
Учился я на пятерки. Но сначала мне тяжело давалась арифметика. Как-то я решал задачи и ничего у меня не выходило. Отец как раз был трезвый, и я попросил его:
– Тятя! Помоги мне решить эту задачу!
А он так ласково склонился ко мне, посмотрел в задачник и сказал:
– А мы этих задач и не решали.
И я подумал: «Мой отец, идеал мой, и не решал этих задач?! И я буду добиваться и все-таки решу задачу сам».
Потом мама как-то сказала мне:
– Ты думаешь, он не умеет решать этих задач? Он и алгебру знает. Он хотел, чтобы ты сам решал задачи.
В семье нас было десять человек: отец, мать, три мальчика и пять девочек.
Община позволила нам жить в одной хворостянке, которую построили одинокой старухе, бабушке Цыбульчихе, за ее землю. Старуха умерла, и мы стали жить в хворостянке, построенной для нее одной, все десять душ. Когда мне было 13 лет, я доставал рукой до потолка. Спал я на печи, а ноги свисали на лежанку.
Нам было тесно, и отец разломал печку и выбросил перегородки в сени, так что зимой во время морозов двери открывались прямо в хату. В хворостянке было два маленьких окошка. Дети повыбивали стекла, а до половины окна были закрыты кирпичом и подушками, так что в комнате была вечерняя полутьма.
Я очень любил читать книжки. Они уносили меня в мир забвения от тяжелой и темной жизни, – в сияющий, сказочный мир, в котором смелые и сильные люди побеждали жизнь, идя сквозь море испытаний и лишений.
Особенно я любил читать о «сыщиках».
Конечно, у нас никакой библиотеки не было, и я, в маминой кофте и отцовских сапогах, от горшка три вершка, встречая более-менее хорошо одетого человека, спрашивал его: «Дядя! Нет ли у вас чего-нибудь о сыщиках?»
Одни ничего не отвечали, другие смеялись, а то и ругались и прогоняли меня.
Но были и такие, что давали мне читать книжки о «сыщиках» и другие интересные книги. Как-то я обратился с моим вечным вопросом «Дядя! Нет ли у вас о сыщиках?» к заведующему заводской библиотекой, учителю Сергею Лукичу Зубову, и он позволил мне брать бесплатно (плата там была 5 коп. в месяц) книги для чтения в заводской библиотеке для рабочих и служащих. Так я вошел в сияющий свет человеческой мысли и фантазии.
В столовой для рабочих открылся «иллюзион», где за 20 копеек показывали «живые картины». А где мне, маленькому, взять такие деньги? И нас, мальчиков, сторож всегда прогонял, когда начинался сеанс.
«Иллюзион», вернее помещение для него, арендовала жена начальника нашей станции Переездная, маленькая, худенькая, с бледным интеллигентным лицом.
Часто она проходила мимо нас, мальчиков, которые, как стайка воробьев, сбивались возле заветных дверей, и, наверно, прочитала в моих глазах такую отчаянную мольбу, такое безграничное желание, что спросила меня:
– Мальчик! Хочешь смотреть картины?
– Хочу, тетя! – радостно ответил я.
И она позволила мне бесплатно посещать «иллюзион», где душа моя то обретала золотые крылья осуществленных надежд, то плакала над разбитыми надеждами любимых героев.
Когда кончался сеанс, мне было грустно и тяжело возвращаться в свою убогую и беспросветную жизнь, идти в темную дождливую ночь, где одиноким глазом в чужой и равнодушный мир мерцал ночник в окне нашей хворостянки…
Так прошло мое детство.
После окончания двухклассного министерского училища (5 отделений) я поступил в ремесленное училище на слесарное отделение, но потому, что больше железной пыли я любил природу, я сдал конкурсный экзамен в низшее трехлетнее сельскохозяйственное училище, которое открылось у нас возле станции Яма.
Во время моего перехода во 2-й класс мой отец умер (ему было 37 лет) от истощения. Я вынужден был оставить учебу и стал работать в шахте, чтобы помочь матери.
Проработав год в шахте, я увидел, что ничем не могу помочь матери. Шла война, все дорожало с каждым днем, и моей зарплаты не хватало даже на хлеб.
И я опять начал учиться в сельскохозяйственном училище. Тут я по-настоящему познакомился с классиками русской литературы, которые стали для меня учителями жизни.
Стихи я начал писать с 14 лет. Писал потому, что стихи писали мой дед и отец, по-русски и по-украински.
Как-то, уставившись в стенку, я замечтался, слагая первое в своей жизни стихотворение – что-то про змею, которую рифмовал «я ее убью»… Проходила мимо меня бабушка. Видно, ее поразило мое лицо, и она сказала мне:
– Брось писать стихи, а то сойдешь с ума.
Я испугался и долго не делал новых попыток. Но когда началась первая империалистическая война, волна патриотизма охватила мою душу, и я снова начал писать стихи, начал и уже никогда не бросал.
«Пусть я лишусь ума, но все же буду поэтом», – подумал я.
И я стал поэтом.
Но для этого пришлось мне еще много испытать в жизни, пройти сквозь огонь гражданской войны и вынести оттуда сердце, наполненное отзвуками отгремевших битв за царство свободы…
Крылатые багряные кони революции принесли меня, как и тысячи таких, как я, на таинственные вершины, к которым сквозь огонь и дым невиданных битв на земле жадно стремились наши души.
В Одессе, где стояла наша дивизия, с мая 1920 года я стал коммунистом. Будучи курсантом военно-политических курсов при 41-й стрелковой дивизии, я познакомился с Юрием Олешей, с поэтами Шенгели и Багрицким, которые в светлые и добрые руки взяли мое сердце и показали ему дорогу в голубое небо поэзии. Когда в кружке поэтов я в первый раз читал свои стихи, в которых были такие слова, как «хлопці», «дівчата», «половники», я спросил:
– Я поэт?
Юноша с орлиными глазами и соколиным профилем отозвался с подоконника:
– Да, поэт, украинский поэт.
Это был Эдуард Багрицкий.
Я стал украинским поэтом. Потом, после гражданской войны, в Харькове я познакомился с поэтами Куликом, Блакитным и другими, но встречи с Шенгели, Багрицким и Олешей навсегда остались в моем сердце. Багрицкий говорил: «Нужно развивать свой художественный вкус», а лозунгом Юрия Олеши было: «Слово должно светиться».
Багрицкий первый познакомил меня со стихами Василя Чумака. До него я, конечно, уже читал и безгранично любил стихи великих поэтов – Шевченко, Франко, Леси Украинки, Олеся. Я еще маленьким переводил на русский язык «Кавказ» Шевченко.
В Харькове мою судьбу в украинской поэзии определил Иван Юлианович Кулик, который обратил на меня внимание как на молодого поэта и через ЦК КП (б) У отозвал меня из армии.
Руками Кулика партия дала мне путевку в поэтическую жизнь, и ей одной я благодарен своим поэтическим существованием. В тяжелые минуты сомнений и колебаний ее могучая рука поддерживала меня, не давала мне упасть, помогала идти по правильной дороге. Как же не любить ее и не петь о ней! Не петь о людях, которым гений партии дал крылья для полета в озаренное будущее!
Во время Великой Отечественной войны я работал в штабе украинского партизанского движения, был военным корреспондентом фронтовой газеты «За честь Родины».
С 1944 года живу в Киеве и продолжаю литературную работу.
Награжден орденами «Знак Почета» (1939), Красного Знамени (1943, 1958), Ленина (1948).
За сборник стихов «Чтоб сады шумели» я получил Государственную премию первой степени.
Книги мои переведены на русский язык и на много других языков народов Советского Союза, на языки братских народов социалистического лагеря, а также на другие языки мира.
Всего вышло в свет около сорока сборников моих стихов и поэм.
5 октября 1953 г.,
Киев
СТИХОТВОРЕНИЯ
1920–1933
1. О, HE НАПРАСНО!© Перевод Н. Ушаков
2. К НАМ
О, не напрасно, нет, гремели пушки в поле,
и наша кровь лилась, и шли мы умирать.
О, не напрасно, нет, сама, по доброй воле,
иконки и кресты с детей снимала мать!..
Гул на шоссе шагов… машины перебои…
С трибун приветствуют задымленных бойцов…
Всё – как чудесный сон, возникший предо мною
в забое, в полутьме, под песню обушков…
И девушки идут, и жены выступают,
и детвора бежит, – восторг в глазах горит…
И ночь скрипит, скрипит, промозглая, слепая,
и поднят мрак ее на лезвиях зари…
О, не напрасно, нет, гремели пушки в поле,
и наша кровь лилась, и шли мы умирать.
О, не напрасно, нет, сама, по доброй воле,
иконки и кресты с детей снимала мать!..
1921
© Перевод Б. Турганов
3. РАСПЛАТА
Идите к нам в ряды все, кто живет борьбою,
кто солнце полюбил и на вершины гор
спешит – встречать его, душою молодою
провидя сквозь века зари багряный взор!
Гремят осколки скал под нашими шагами…
В былое горе бей нещадно, коммунар!
На смену мы идем, вступаем в бой рядами,—
урочный близок час… решающий удар…
Трепещет черный враг, на сполох бьет трусливо,—
но замолкает звон… редеет ночи муть…
Мы – дети звездных снов, мы – новых сил приливы,
нам златотканый май устлал цветами путь…
Серп Революции…
Знамена Первомая…
Лишь власть Советов нас к вершинам приведет.
Прочь отступает боль докучная, былая.
Настал урочный час… Бойцы идут вперед!
1921
© Перевод Н. Полякова
4. РАЗДУЛИ МЫ ГОРН
Мы в солнечной тоске веками вам служили,
из крови и костей вам строили дворцы,
с издевкой, с хохотом из нас тянули жилы
вы, паралитики и мертвецы!
Мы злато с серебром из-под земли долбали
для вас во мгле сырой, во мгле глухой для вас,
с культурностью своей вы нам такое дали,—
не пожелаю я врагу в недобрый час.
Красоткам вашим мы брильянты добывали,
а сестры шили им наряды для балов,
а после по ночам под окнами стояли,
где в танце плыли вы по зеркалу полов.
Вас с детства, как цветы, лелеяли, любили,
привыкли вы от жизни всё без боя брать,
за наши деньги вас панами быть учили —
златые кандалы душе своей ковать.
Мы матом в рудниках учились крыть неволю
и водкой свою грусть в получку заливать,
искать свою по свету долю,
а сестры – тело продавать.
И поп с крестом в руке ножи совал нам в руки,
и за объедки с панского стола
на брата брата слал он под молитвы звуки,
морями наша кровь в слепой борьбе текла.
А бог на небе спал. Темнели, молча, дали.
И падали века в бездонность, как свинец…
Мы на крестах своих пророков распинали,
плели пиявкам мы в болотных снах венец…
Но вот настали дни! Сошла с очей полуда,
и увидали мы, где враг, а где наш брат.
Возмездия огонь исторгли наши груди
в дни долгожданных красных дат…
Лакеи зла и тьмы! Уже Коммуны звоны,
как реквием для вас, гудят, гудят, гудят,
и падают, как дождь, дворцы, короны, троны,
в проклятиях борьбы тревоги бьет набат.
Покрыли небосвод всемирные пожары,
и там, где мы пройдем, лишь прах прошелестит…
На головы врагов обрушим мы удары,—
ваш мозг среди руин, как студень, заблестит…
Отплатим вам за всё – за слезы, кровь, за муки,
где бедный люд века тернистой шел тропой…
за это душим вас, ломаем ноги, руки
и топим мы в крови наш вечный гнев святой.
А в поле – солнце, май… Гудят Коммуны звоны,
в полях и городах последний бой идет…
И падают, как дождь, дворцы, короны, троны…
То мы идем… Расплата ждет!
1920. 1957 Одесса
© Перевод М. Комиссарова
5. «Ласточки на солнце, ласточки на солнце…»
Вчера потухший горн сегодня вновь раздули,
и наковальни звон людей к труду зовет,
и гибнет старый мир, где осени разгулье
на золотых челнах к закату дней плывет.
Завод, родной отец! Твоим заблудшим сыном
вернулся я к тебе с мольбою на устах.
К теплицам не пойдет под небом вечно синим
мечтатель молодой, что славит рожь в полях.
Где с черным золотом уходят эшелоны —
звучат веселые шахтерские шаги,
чалдоны-грузчики столпились у вагона,
полями стелется тревожный дух тайги.
В потухший горн ветра вновь силу нагоняют,
и наковальни звон людей к труду зовет,
и гибнет старый мир, чья осень отлетает,
на золотых челнах к закату дней плывет.
1921, 1957
© Перевод В. Звягинцева
6. «Так никто не любил… Раз лишь в тысячу лет…»
Ласточки на солнце, ласточки на солнце,
словно взгляд летучий, быстрый, невзначай…
Зацвели ромашки – будто вешний сон твой,
пахнут поцелуи, как китайский чай…
Я твою одежду целовал до боли,
я к твоим коленям припадал, любя,
к ласковым и нежным, как березки в поле,
что растут далеко, там, где нет тебя…
Вижу за морями дальнюю дорогу,
где к степи склонился синий небосвод…
У тебя ж, подруга, светлая тревога
на щеках холодных трепетно цветет…
В городе вечернем плакали трамваи,
слезы на высоких сохли проводах.
Для тебя сегодня ландыши срывал я, —
белые бубенчики чуть бренчат в руках…
Ласточки на солнце, ласточки на солнце,
словно взгляд летучий, быстрый, невзначай…
Зацвели ромашки – будто вешний сон твой,
пахнут поцелуи, как китайский чай…
1922
© Перевод В. Звягинцева
7. «Куда я ни пойду, мне снова травы снятся…»
Так никто не любил… Раз лишь в тысячу лет
мир такая любовь посещает,—
и тогда на земле распускается цвет,
тот, что людям весну предвещает…
Тихо дышит земля. К синим звездам она
простирает горячие руки, —
и тогда на земле расцветает весна
и дрожит от блаженства и муки…
От счастливых твоих, от сияющих глаз
сердце полнится сладкой тоскою…
Кровь по жилам моим, как река, разлилась,
будто пахнет кругом лебедою…
Звезды, звезды вверху… Месяц ласковый мой…
Чья любовь больше этой, о ночи?..
Я сорву для нее Орион золотой,
я, поэт Украины рабочей.
Так никто не любил… Раз лишь в тысячу лет
мир такая любовь посещает,—
и тогда на земле распускается цвет,
тот, что людям весну предвещает.
Тихо дышит земля. К синим звездам она
простирает горячие руки,—
и тогда на земле наступает весна
и дрожит от блаженства и муки…
1922
© Перевод М. Светлов
8. «Не возле стенки я, и кровь моя не льется…»
Куда я ни пойду, мне снова травы снятся,
деревьев стройный шум рыдает за Донцом;
где улицы пьянит, дурманит дух акаций,
лицо заплаканное вижу за окном.
И темные глаза мне снятся, не мигая,
что вянут и молчат, отцветшие давно,
и ветер щеки вновь мои ласкает,
и запах чебреца несет в мое окно.
Ну, как теперь живет Горошиха-вдовица,
чей Федька – сын ее – застрелен был в ночи?
Мы с ним не раз вдвоем ходили по кислицы,
где шелестел бурьян и плакали сычи…
О Холоденко, друг! Тебя уже давно нет,
далекий, милый брат, зарубленный в бою,
и мать твоя несчастная не склонит
на срубленном плече головушку свою.
Куда я ни пойду, мне снова травы снятся,
деревьев стройный шум рыдает за Донцом;
где улицы пьянит, дурманит дух акаций,
лицо заплаканное вижу за окном…
1922
© Перевод М. Светлов
9. «Заря идет, золоторога…»
Не возле стенки я, и кровь моя не льется,
и ветер грозовой не рвет мою шинель, —
под громом и дождем бригада не сдается,
и бьют броневики, и падает шрапнель.
Гремят броневики!.. И рвет сердца железо…
Горячим звоном бьет… и пыль и кровь в упор…
С разбитым боком смерть по рельсам тяжко лезет.
И кровью алою исходит семафор…
И мнится вновь: далекий полустанок,
и от снаряда дым над спелой рожью лег…
Так кто ж сказал, что мы в бою устанем
и не настал еще свободу нашей срок?!
Где пыль легла в бурьян, под небом Перекопа
от крови, как зарей, зарделся небосклон…
Я слышу, как гудит в дыму земли утроба,
где падали бойцы под орудийный стон…
Куда я ни пойду – далекий полустанок,
и от снаряда дым над спелой рожью лег…
Так кто ж сказал, что мы в бою устанем
и не настал еще свободы нашей срок?!
1922
© Перевод А. Прокофьев
10. ГОРОД
Заря идет, золоторога,
там, где полынью зацвело,
и вновь на огненных дорогах
ее широкое крыло.
Не облака над лебедями
и не цветы под синей мглой,
лишь бездна в самой звонкой яви
раскинулась над всей землей.
И снова осень сыплет в нивы
свое червонное литье…
Вдали коней железных гривы
и трав холодное житье…
1922
© Перевод Н. Полякова
11. «Часовой. Белый мрамор колонны…»
От трамваев город синий-синий,
золотится снег от фонарей.
Кто же гениальный четкость линий
положил вдоль улиц, площадей?
Кто наметил эти повороты,
проводом пронзил небесный плат,
чтобы плыл трамвай до Третьей Роты
и потом, грустя, пошел назад?
Город взял и в ромбы, и в квадраты
все порывы и мечты мои.
Для чего же плакать виновато
мне в его заснеженной груди?..
Для чего же мне ребенком малым
промышлять в асфальтовых котлах
да об стены головой усталой
биться, чтоб разбить печаль и страх?
На сугробах в парке тени веток,
там проводят ночи пацаны.
Только ветер знает их секреты,
ветер и простуженные сны…
Я не знаю, кто кого морочит,
но, сдается, что-то здесь не то,
я стрелял бы в нэпманские очи,
в нэпманские шляпки и манто…
Только – нет! Иначе с ними надо.
Синий снег метели намели.
Город взял и в ромбы, и в квадраты
все порывы и мечты мои.
<1923>
© Перевод И. Поступальский
12. «Томящий сладкий олеандр…»
Часовой. Белый мрамор колонны.
Вышли призраки башен на смотр.
А вверху золотым медальоном
теплый месяц над морем плывет.
Положила любовно ладони
мне на смуглый, обветренный лоб.
Мир в малиновом мареве тонет,
льется сладкое в жилы тепло.
Теплый ветер целует колено
и украдкой щекочет плечо.
Вал у берега кроется пеной
и назад одиноко течет.
Но и крики и залпы тревожней,
и в зеленых потьмах – корабли…
Кто там крикнул: «О боже мой, боже!..» —
и склонился бессильно в пыли?
Мчится бешено конница снова,
только сухо копыта звенят…
Тяжело повернулся дредноут,
и скала захлебнулась в огнях…
Рядом ты. Белый мрамор колонны,
и спокойный «максим» – пулемет.
А вверху золотым медальоном
теплый месяц над морем плывет.
<1923>
© Перевод М. Шехтер
13. «Грезятся мне эшелоны, дороги…»
Томящий сладкий олеандр,
магнолии лимонный запах…
Гранаты огненные в небе,
и мысли звездами цветут…
О, моря гул! О, моря гул!..
И шорох волн морских на пляже…
А там асфальт еще в снегу,
дыхание мороза даже.
Мы волны любим. Мы ведь сами
когда-то родились из них.
Прижмись вишневыми губами,
коснись волос моих густых!
Минуты бой, минуты бой…
Я слышу, как бегут секунды,
как звезды вижу пред собой
в твоих глазах – зарницы бунта.
Томящий сладкий олеандр,
магнолии лимонный запах…
Гранаты огненные в небе,
и мысли звездами цветут…
1923
© Перевод И. Поступальский
14. «Рвал я шиповник осенний…»
Грезятся мне эшелоны, дороги,
грозы похода…
А ветры крылят…
То не сердце пламенеет и безумствует в тревоге,—
над вселенской бездной мчится огнеликая Земля…
Мы замкнули грозу в телефоне,
светит миру огонь наших звезд.
Ночью возглас:
«По коням! По коням! По коням!..» —
и над шахтою знамя взвилось.
Красных крыльев полет непреклонней,
и незримый кричит паровоз…
Пусть ведут провода к небосклону, —
там, за далями, радиодни!
Мы замкнем, как грозу в телефоны,
в сеть районов стихию стихий…
Грезятся мне эшелоны, дороги,
грозы похода…
А ветры крылят…
То не сердце пламенеет и безумствует в тревоге, —
над вселенской бездной мчится огнеликая Земля.
1923
© Перевод А. Прокофьев
15. «Такой я нежный, такой тревожный…»
Рвал я шиповник осенний,
карие очи любил.
Вечер упал на колени,
руки твои озарил…
Черные шахты, заводы,
смены ночной голоса…
Месяц полями проходит,
в травы упала роса.
Тонкие нежные руки,
шорох осенних дождей…
Помню я холод разлуки,
горечь измены твоей.
Вот и пошел я полями;
там эшелоны вдали,
гром орудийный над нами,
зори у самой земли.
Вот и пошел я полями
в снежной колючей пыли —
там, где, гонимы ветрами,
мчат эшелоны вдали.
Где тот шиповник осенний,
очи, что я разлюбил?
Вечер упал на колени,
руки твои озарил…
1923
© Перевод Б. Турганов
Такой я нежный, такой тревожный,
моя осенняя земля!
Взмывает ветер над бездорожьем,
летит в поля…
И волны моря бьют неумолчно
в земную грудь…
Там стелет солнце свой путь урочный,
кровавый путь…
Кровавясь, пальцы дрожат… О вечер,
остановись!
Но море грозно шумит далече,
затмилась высь…
Такой я нежный, такой тревожный,
моя осенняя земля!
Взмывает ветер над бездорожьем,
летит в поля…
1923








