Стихотворения и поэмы
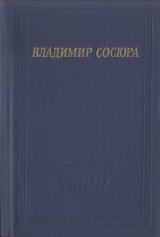
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Владимир Сосюра
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
466. ТАРАС ТРЯСИЛО
Роман
© Перевод П. Жур
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ1
«А чтоб чума вас покосила,
пускай бы вы подохли все!» —
кричит, бежит пастух Трясило
по перламутровой росе.
Он и ободранный, убогий,
он и разгневанный такой.
Ему стерня не колет ноги
с их пяткой черной и тугой.
Разбитые колени ноют,
и кровь в виски натужно бьет…
С Мариною, его сестрою,
в селе отец седой живет.
И что там деется с Мариной?
Но думать некогда о том,
когда болтается холстинный
мешок с харчами за плечом.
Марина где-то тенью жалкой,
там, где орел степной парит.
В руке – замашистая палка,
в мешке – лишь лук да сухари.
Бежит с проклятьями и смехом.
Лохмотья, пыльных трав рядно —
вот это вся его утеха,
его имущество одно.
Шумят ему дубы и клены
и ясеня листвой блестят,
где гарцевал он исступленно,
под звездами любил девчат.
Там, далеко, где неба грани,
есть край счастливый, дорогой,—
а тут и голод, и стенанья
от свиста панских батогов.
И думы стаями – за грани,
где Хортицы мятежный гам,
где казаки в хмельном дерзанье
по вольным рыскают степям.
Как часто грезили с Иваном
они бежать к сечевикам!
От слов Тараса гнев багряно
горел в зеницах гайдука…
Себе героями казались,
бежав на Сечь в мечтах своих…
За сабли мысленно хватались,
но сабель не было у них.
Коптилки пламя скупо, вяло
дрожит, шатается, течет.
И Настя голову склоняла
Ивану тихо на плечо.
Ой, раздвигали стены думы
недавно, может, иль давно…
О, вечера в избе угрюмой
и песни, слезы за окном…
А дни и вялы, и нескоры,
не знаю, как бы их назвал…
Тарасу улыбались зори
и грезы ветер навевал…
Жизнь, разнолика и безгранна,
течет, волнуется кругом…
К нему во сне приходит панна
в уборе пышном, дорогом…
К ней сердце потянулось живо,
как нить, что вечно золота…
У ней – волос волниста грива,
свежи и радостны уста…
Под ноги словно розы стелет
и пьет глаза его до дна…
Она – не сон, она Ягелла
и дочь магната Рудзяна.
Объятья утро раскрывает,
светло туманится, цветет
над полем, над далеким гаем,
где свеж и молод небосвод.
Покорно собрались коровы,
хрустят зеленою травой.
Пастух меж них уселся снова
и сладко грезит, сам не свой…
Монисто звезд по небу вьется,
как будто думы чабана…
Ему не естся и не пьется,
мечта владеет им одна…
К себе зовет младую панну
и, жмурясь, ловит он ворон.
И перед образом туманным
застыл, коленопреклонен…
К нему всё ближе, ближе брови
и губы, губы с их огнем…
Ах, то не панна, то корова
его лизнула языком.
«Эгей! Куда? А, чтоб ты сдохла!..» —
и непечатные слова.
Трещит под ним подсолнух сохлый
и желто клонится трава.
Припомнил он: младая панна
его цветы не приняла,
и глаз мутит слеза, нежданна,
усмешка губы зло свела.
Она рабом его назвала,
ответила, как наглецу…
Взглянула гордо и сказала:
«Вот погоди, скажу отцу».
2
В злате парк осенний тонет,
неба синь – в разливе дум.
Сосны клонятся и стонут,
их вершин тревожен шум.
Может, здесь я не впервые?
Не вернешь тех дней назад…
В сини листья неживые
сонно кружатся, летят.
В парке панна молодая
бродит с книжкою в руках,
золото в прическе тает,
разливается в глазах.
Нежно тонет в желтых листьях,
бродит тихою стопой.
Очи сини и лучисты,
черевичек – золотой.
В небе солнце разлилося,
в ливне струн-лучей трава…
Черевичек тот курносый,
знать, во сне я целовал.
Жжет светило без пощады…
Меж густых ветвистых крон —
мраморные колоннады
и в сплошных цветах балкон.
На балконе – люди, люди,
музыки настал черед.
Рвет она тоскою груди,
властно за сердце берет…
Далее веди, о муза,
без тебя ведь трудно мне.
А магнат поводит усом,
мочит пышный ус в вине.
Кровью то вино стекает,
весь в багряных пятнах стол.
Глазом черным пан играет,
грозен взгляд его и зол…
Хмурые седые брови грозно
выгнулись дугой…
Сколько горя, сколько крови
на парче его рудой!..
Он орет, как очумелый,
пол ножищами долбит…
Перед ним оторопелый
молодой гайдук стоит.
Как то пану ни обрыдло,
он расквасит морду в кровь…
«Рассчитаться с хлопьим быдлом,
на конюшне запороть!
Ни питья ему, ни пищи,
на соломе пусть гниет!
Будет знать безумец нищий,
где его, а где мое!»
«Пся крев! Быдло!» – возбужденно
голосов гудят шмели.
Гайдуку магнат взъяренный
пастуха найти велит.
3
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
День увял золотолистый,
запад медленно потух.
За межою парка – свисты:
гонит стадо там пастух.
Ничего еще не знает,
батогов еще не ждет…
На сопелке он играет,
словно панночку зовет.
Пусть у хлопца ноги босы,
между пальцев грязь и кровь,—
пану станет он угрозой
за народное добро!
Будет кровь с огнем расплаты,
проклянет он сад густой,
мраморные колоннады,
черевичек золотой.
………………………
Гайдук бежит, коня седлает
и про запас берет коня.
Он за ворота вылетает,
как привиденье из огня.
«Эй, берегись!» – и кони мчатся,
за ним собаки с детворой.
Глядит в окно на парня Настя,
и взгляд туманится слезой…
«Прощай, прощай!» – за волю друга
гайдук Иван на всё готов.
Лишь бы не лопнули подпруги
и не расшибли кони в кровь…
Уж вечер потянул прохладой,
зари последний луч погас.
Гайдук встречается со стадом,
за стадом тем идет Тарас.
Видать ее хотя б минутку…
Ой, панна смотрит сверху вниз!
Сыграй последний раз на дудке
и на коня скорей садись!
Кричит Иван: «Веленье пана —
тебя в конюшне запороть,
за то, что оскорбил ты панну,
за то, что ты – мужичья плоть!
Бежим на Сечь, Тарас мой милый,
квитаться с паном – наш удел!»
У пастуха набухли жилы,
и он зубами заскрипел:
«Постой! Расправиться с тобою,
проклятый пан, мне хватит сил!»
И он могучею рукою
коня за повод ухватил…
4
Поникли тихо вербы ветви,
лоза раскинула кусты,
по ржи тепло струится ветер,
подсолнух, как во сне, застыл.
Он всё грустит. А рядом – тенью
покрыто травное рядно,
и птицы выклевали семя
уж из подсолнуха давно.
Он, как и дед, что здесь, на круче,
глаз не отводит от руин.
Лицо нахмурено гнетуще,
печально так. Один, один…
Села уж нет. Его татары
железом и огнем смели.
Он видит… волны злых пожаров
людей раздетых унесли…
Шумит огонь… и от угара
в крови всё кажется, во мгле…
А там – арканами татары
людей волочат по земле…
Дед опустился на колени,
не в силах превозмочь тоску:
Марину, дочь его, в селенье
схватил татарин на скаку.
И конь летел, как ветер гая…
Доныне в сердце боль живет!
И дед упал, и дед рыдает,
и волоса седые рвет…
И вдруг: «Уйми, отец, мученья!» —
гарцует в солнечном огне
над ним крылатым привиденьем
казак на белом скакуне.
Летел сюда он издалече,
чтоб на родимый дом взглянуть,
посланцем гетмана от Сечи
преодолев нелегкий путь.
С коня – скорей: «А где Марина?»
– «Татары захватили в плен».
Рыдает дед, целует сына,
встает со старческих колен.
Стоят среди руины дикой,
в развалинах, отец и сын.
Как солнца взблеск на юном лике,
на камень пали две слезы.
Тут сын повел сурово бровью,
взглянул испуганно старик.
«Ну что ж. Пойдешь на Сечь со мною,
там кашу будешь нам варить».
Блестят слезинки рос на травах
в вечернем зареве огней,
и мчится полем и дубравой
с отцом Тарас на скакуне.
Горит, играет на жупане,
блестит оружье седока…
Ох, не одной вздохнуть Оксане,
когда припомнит казака…
5
Так ныло у Марины тело
и так кружилась голова.
Вокруг неистово галдела
и задавалась татарва.
Кричали люди, кони ржали,
не уставало солнце греть:
оно глядело и не знало
кого палить, кого жалеть…
Скажите мне, о сон-забвенье
и ты, мой ветер-янычар,
зачем горчат полынным зельем
глаза и губы у татар?..
Ты погляди на Ятагана,
читатель милый, дорогой,
как даль пронзает он глазами,
как строен стан его тугой…
Он близко подошел к Марине,
в глаза ей нежно посмотрев:
глаза ее, как небо, сини,
а в них горят любовь и гнев…
Мне скажут: по-иному выстрой
сюжет – любовь не так остра.
Но кровь в степи бежит так быстро,
и так в степи любовь быстра…
Марина уж на всё готова —
так люб и так желанен ей
татарин этот чернобровый
с зеленым отблеском очей…
И в час ночной, покуда станом
не завладела тишина,
о, как любила Ятагана
в степи под месяцем она!..
Лежит, раскинувшись, Марина,
забыла всё… огни блестят…
Лучи луны, на травы хлынув,
в истоме тело золотят…
И замирает, жмурит очи,
жгут поцелуи и слова…
Кто это шепчет среди ночи,
кто ей сорочку разорвал?..
«Мой Ятаган, мой сон и чудо,
тебе лишь сердце отдано.
Отца и мать своих забуду
за слово нежное одно».
«О люни ней, моя отрада!
ты небо звездное мое…
Мои шатры, садов прохлада,
и меч, и сердце – всё твое».
А в небе сон, а в небе зовы…
И кто-то над землей идет…
И ей на грудь в истоме снова
свою он голову кладет…
……………………………
Шумит аул. Возле мечети
в войну играет детвора.
О, сколько Ятаган Охметти
с казатчины привез добра!
Прекрасны жены, что калина,
в их жилах – пламенная кровь.
Но краше всех ему Марина,
его первейшая любовь.
Все величают Ятагана.
Их сабли – как блескучий миг!
А в небе – тучек караваны,
а море Черное шумит…
Летят стрелою дни за днями,
они – друг друга веселей!
Она гуляет на Байраме,
как будто в Пасху на селе.
О птицы Времени! Хранимо
всё тенью вашего крыла!
Она, забыв свой край родимый,
ислама веру приняла.
Ну что ж – пускай. Кому то мило?
Ведь были многие слепы,
всех без конца в обман вводили
ксендзы, и муллы, и попы.
Люблю я не за то Марину,
и не за то ее мне жаль…
А больно мне, что Украину
она забыла – вот печаль…
Гей, на море солнышко —
батожком.
Там ходила девушка
бережком.
Ожидала милого
тут она.
По-татарски девушка
убрана…
Девушка не девушка —
жёнка молода.
Не цветет калиною
лебеда.
У ней очи синие
с золотом сквозным.
Вот была дивчиною,
а теперь – ханым.
6
Прошло два года. Наш Трясило
был избран Сечью в вожаки.
О, сколько крови нацедили
Днепру пистоли и клинки.
……………………………
На Сечи шум, на Сечи песни,
смеются, рады шинкари,
над ними солнце в поднебесье
смеется, золотом горит.
Его немытый лик червонный
глядится в зеркало реки.
А церковь кличет древним звоном,
идут, идут сечевики…
Ужель мне Сечь так ясно снится?
В багряном пламени зари
горят обветренные лица,
наряд пистолями горит…
Тут и поляки и татары,
и молодежь и старики,
Тут женщин нет. А на базаре
уже открыты кабаки.
Кабак и церковь… Вот так воля.
Да разве справедливо так —
одной босой, немытой голи
платиться жизнью за пятак?!
Другие ж сыты и пузаты,
живут всегда с тугой мошной…
Какая воля тут, когда ты
придавлен вечно старшиной.
Слышь, голытьба шумит на сходе —
не будет спуску никому,
она звенит, как на работе
рои сегодняшних коммун…
Вот-вот затопят атамана,
вперед-назад, прибой-отбой…
«Рядится в пышные жупаны
и думает, он царь и бог!»
«На турка нас он посылает,
а на Украйну не пора?»
– «Ведь там в неволе мать страдает,
ведь там в неволе стонет брат!..»
Но атаман кричит: «Рядами
постройтесь живо, казаки!»
И вот пришли попы с крестами,
и стали в строй сечевики.
«Кто на Украйну – стань налево,
на турка – вправо перейди!»
И слышно, как, объята гневом,
вся Сечь волнуется, гудит.
Листком спадающим багрятся
то ус, то трубка, то жупан…
Вскричал один: «Не верьте, братцы,
нас вводит старшина в обман!
За мной пошли! Вперед за волю!
Гей, сотник, не теряй штанов!..»
Его ударил из пистоля
в лицо пузатый куренной…
Упал казак… Беднее стала
голь сердцем смелым, молодым.
На трупе – листьев покрывало,
над трупом – от кадила дым.
«Должны мы туркам и татарам
отпор за все налеты дать!
Ну, а тогда и пан от кары
не убежит!» – «Всё – ерунда!
И всё – брехня!» И голь немыта
сверкает саблями, шумит.
А куренной со ртом открытым
расставил ноги и молчит.
«Кто это?» Из толпы выходит
казак – детина средних лет,
он по рядам глазами бродит,
гудит казацкий их комбед…
«Товарищи!» – А сам как небо…
Слова – не молния, а нож:
«Сначала есть одна потреба —
своих порезать нам панов!
Вот здесь они – стоят с крестами,
а рядом – та же старшина!
Кто на Украйну?!» В шуме, в гаме
чубы взлетают, как волна.
А солнце клонится устало
и на жупаны цедит кровь…
«Пан атаман, дозволь нахала
нам батогами запороть!»
«Связать его!» – и кляп вбивают
в рот казаку… О, гнев, о, срам!
И голь всё это одобряет
слепой покорности богам?
Зачем не в силах им сказать я
и ложь проклятую разбить?..
А поп с крыльца: «Должны мы, братья,
всем сердцем бога возлюбить!»
Всё – зря: и голытьба стихает,
и верх опять – у старшины.
А в сейме руки потирают
и кубками звенят паны.
Сквозь даль столетий сердце чует,
и дума знает: так всё шло.
«Пускай пся крев за нас воюет,
а мы… угомоним село…»
Слова поповы – как сопелка.
А куренной тут не дремал:
«На турка кто, тому – горелка,
пей хоть залейся! Я сказал».
На сабли солнце блеск наводит.
«Гей, на челны! Пора, пора!»
И голь чубатая уходит,
наивна, словно детвора.
Винище смуту погасило…
Развеялся кадильный дым…
И кровь засохла… А Трясило
не верит всё глазам своим.
Он труп ощупал… «Так, Иван мой,
клянусь над прахом я твоим,
когда я стану атаманом,
развею этот клятый дым…»
Он другу руку сжал, суровый
в сознанье горьком: «Не пора…
Своей прольем немало крови
на глине своего двора…
Еще прольем. Село я знаю.
Но день восстанья – впереди».
А Сечь знаменами пылает,
а Сечь горелкою гудит…
………………………………
Что за наплыв казацких бурок?
Спешат, спешат, как на пожар…
Один отряд идет на турок,
другой… другой – тот на татар.
7
Кони и травы,
люди, мечи.
Звездная лава
гаснет в ночи.
Дали открыты…
А кони летят.
Только копыта
ритмично гудят.
Им лишь по нраву
дуван да Коран.
И эту ораву
ведет Ятаган.
В дали очами —
и так он, и так…
Лишь за плечами
звенит сагайдак…
Где чем поживиться,
зырит всё он.
Дома томится
дюжина жен.
Вдали исчезает
и море, и Крым.
Оружье бряцает,
как песня ханым…
8
Ханым, о-ла-люли,
Ханым, о-ла-ной…
В темном ауле
уснули давно.
«Ужели он сгинет?..
Скорее за ним!..»
Рыдает Марина,
теперь – ханым.
Любви не изводит
печалью ни дня —
под звезды выходит,
седлает коня.
О, край ты мой сизый,
о, милого взгляд!..
Шумят кипарисы,
и сосны шумят,
и ветви всё тянут
сквозь сумрачный дым,
летит неустанно
меж ними ханым…
Летит сквозь туманы
всё дальше, быстрей.
Наряд Ятагана
сверкает на ней.
Яснеет над бором,
и росы горят.
Навстречу ей – горы,
навстречу – заря.
9
Ветер подувает,
ясен небосвод.
Нынче выступают
казаки в поход.
В них бушует сила,
песня – что гроза,
их ведет Трясило,
молодой казак.
Он сестру всё ищет —
года два искал.
Ветер в поле свищет,
прошумел, пропал.
Веет над равниной,
в нем и грусть, и гнев…
Улетел, Марине
что-то прошумев.
И Марина – слышит,
всё быстрей летит,
щеки жаром пышут,
вся она дрожит.
Вспомнит – вянут силы,
тают от огня…
«Ятаган мой милый,
подожди меня!..»
10
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
Столкнулись казаки с Ордою
там, где курганы над Днепром…
Поникла туча пред бедою
над ними огненным челом.
Привычно тырсу ветер гладит
и шелестит в густой траве.
Поодаль стали два отряда,
как перед громом тучи две…
И наконец вот выезжает
перед отрядом Ятаган,
и казаков он выкликает
попробовать от сабли ран.
Но выходить никто не хочет,
все засмотрелись и молчат…
Сверкают Ятагана очи,
а в вышине орлы кричат…
О, где же ты, казачья сила?
Ужель зазубрены мечи?!.
Но вот уже Тарас Трясило
навстречу Ятагану мчит.
Сошлись… А там летит Марина,
чтоб Ятагану пособить.
«Не может быть, чтоб милый сгинул,
кого же мне тогда любить?..»
А там: удары за удары…
«О Ятаган, любимый мой!..»
И расступились вдруг татары,
Марина бурею – на бой…
Вдруг дико вскрикнула в тревоге,
от страха помутился взгляд:
на смертной топчутся дороге
и Ятаган и кровный брат…
Тараса усталью шатает,
в истоме не поднять руки…
На саблях солнца луч играет,
звенят, сшибаются клинки.
Кому тут белый свет затмило?
Кого отвлек тревожный крик?
Кого последним через силу
в висок ударил сечевик?
Глаза ханым во мгле тумана,
в тот миг она и не жила…
Увяло тело Ятагана
и тихо свесилось с седла…
Махнул последний раз рукою,
в ковыль свалился мертвецом…
Лишь кровь горячею росою
Трясиле брызнула в лицо.
«Алла, алла!..» Но Украине
лелеять трусов не дано!
Трясило не узнал Марину,
Марине это всё равно.
Ужель?.. Ужель Трясило сгинет?
«И ты туда? За ним?.. Эва!..»
Блеснула сабля у Марины,
и покатилась голова…
Чья голова? Лежит Марина…
(Уж пронеслась давно гроза…)
А перед нею, шапку скинув,
брат на коленях, весь в слезах…
Узнал… узнал… Но в страшной яви
вдруг растерял он все слова…
К плечам ей голову приставил,
но отвалилась голова…
Сечевики окаменело
вокруг стояли, хмуря лбы,
стыл пот на лицах загорелых,
и ветер шевелил чубы…
……………………………
Кричат орлы… Лежат татары…
Прощально травы шелестят.
Над плесами Днепра пожары
багровым заревом блестят.
Не чуял он, как ныли раны,
лишь видел сквозь наплыв тоски —
его сестру и Ятагана
зарыли в землю казаки.
О солнце, милое светило,
ты своего мне дай огня!..
Воткнул копье в траву Трясило,
на север повернул коня.
«Теперь пора… На Украину
народ из рабства вызволять!
Пусть люди разгибают спины
и вольная цветет земля!..»
И все за ним, сквозь дым пожара,
и богачи лишь отстают…
«Прощай, сестра, и вы, татары,
напрасно павшие в бою…»
……………………………
Где тучи движутся лавиной
и где закат огнем горит,
над сном татарина с Мариной
курган с ветрами говорит.
11
Вновь зовет меня он жаркой речью,
властно раздвигая мрак ночной.
…Месяц загрустил над старой Сечью,
на порогах Днепр шумит волной.
Звезды в небе светят исступленно
и целуют в губы казака,
и горят в глазах его бессонных,
перстнями сверкают на руках…
Знаю я, как трудно бесконечно
бедняков поднять, вести на бой…
Но, мечтой ведомый к правде вечной,
я надел папаху со звездой.
Не споткнись, мой конь неугомонный,
не сходи с дороги столбовой.
Вдруг и я залью тебя червонным
и склонюсь на гриву головой.
И Тарас глядит во тьму в тревоге,
поднимается на стременах…
В небе ходит месяц круторогий,
рдеет голубая глубина.
Думу одинокую глубоко затаил
Трясило ото всех…
В ковыле потонет шаг широкий,
захрипит, зальется кровью смех…
Не один на стенах Сечи встанет,
отражая приступы вражья,
и не одному в лицо заглянет
дуло смертоносное ружья…
Золото огней уже из мрака
выплывает, зыблется, горит…
И молчат, задумавшись, казаки,
только Днепр порогами шумит…
12
Сечь справляет праздник. Площадь стоголосо
песни запевает, танцами гремит…
Атаман за чарой льет хмельные слезы,
нос его, как перец, у огня блестит.
«Я гуляю, – пей, гуляй,
всяк не шитый лыком!»
Площадью – из края в край —
танцы да музыка…
«У меня жена – строга,
кочергой дерется…
Отдирает гопака,
аж земля смеется…»
Ветер рвется на куски,
атамана мает,
выступают казаки,
голос поднимают…
«У меня жена строга —
мужа ожидает…
Гой да го и о-ха-ха,
плачет да вздыхает…
Я не знаю, что мелю,
путает лукавый.
Буйну голову склоню,
топну каблуками.
Грусть-печаль перенесу.
Я не дам оплошки
и любимой привезу
красные сапожки».
Ветер рвется на куски.
Атаману спится.
Выступают казаки,
чтобы в круг сплотиться.
На жупанах и на лицах
отблеск пламени горит…
В бурной пляске голь ярится,
круг вращается, звенит…
А меж тучами гарцует
ясный месяц – тож казак;
с ними вместе он танцует,
скоком, боком, так и так…
Что ж тут приняло всё унылый вид
и на миг застыло, занемело?..
То Тарас идет, аж земля гудит
и поля дрожат оторопело…
Гей, проснись, пробудись, атаман, – ведь шальная
смерть твоя идет, смерть твоя бежит!..
Но лежит, лежит старшина хмельная,
вповалку лежит…
Гей, казаки, казаки, просыпайтесь, поскорее вставайте,
вяжите старшину, оружье доставайте,
ворота открывайте, братьев родных встречайте,
руки кверху вздымайте!..
И казаки из хат-куреней выбегали,
старшину вязали, оружье доставали,
ворота открывали, родных братьев встречали,
руки кверху вздымали…
Ой, скажи да поведай, Трясило,
да что у тебя за власть,
да что у тебя за сила,
что так полонишь сердце казацкое, сердце молодое…
Месяц из тучи выглянул внезапно…
И молчит Тарас…
Только ветер воет…
…Только двери: хлоп…
Вышел поп,
глянул поп,
тихо скрылся поп.
Двери снова: хлоп…
Искоса Трясило наблюдает,
он увидел, он поднялся… Гей!
Не сбежишь ни полем и ни гаем,
поп проклятый, от моих очей.
Чует поп, что наступает кара,
под кровать он лезет поскорей…
Думает: «Проклятье янычару,
чтоб ему в аду, в смоле сгореть».
Кто там двери тихо открывает?
Поп со страху вдруг мочой пропах…
А Тарас кровать отодвигает,
тянет лихо за ногу попа…
Поп хрипит: «Тарасик ты мой милый,
пощади, не сироти причет…»
Что-то вдруг штаны попу смочило,
по полу от шлепанцев течет…
Обошел Тарас домишки божьи
и связал монахов и попов.
На дворе и тихо и тревожно,
словно бы в сердцах сечевиков…
Булаву несет он и клейноды
к берегу, где высится стена,
и швыряет их оттуда в воду,
и стена от казаков черна!..
Все глядят… Не вынырнут клейноды,
булаву не вынесет волна…
И казаки пляшут в хороводах,
и стена от них черным-черна!..
А над ними небо розовеет,
горизонты ширятся кругом…
Только – взблеск! И солнце там алеет,
выплывает огненным челом…
«Гляньте, хлопцы! Солнце наше встало!..»
Саблями вдруг поле зацвело…
Солнце над волнами заблистало,
через Днепр им руку подало…
«Скорее в путь, чтоб не узнали,
не догадались казаки,
что у меня попы попали,
надежно связаны, в мешки…»
Блестит и цокает железо…
Тарас, пытай свою судьбу!..
Он улыбнулся и прорезал
каленым голосом толпу:
«Товарищи! Скорее в море!
Вернем заблудших казаков!
За мною все!» Тарасу вторит
громовый гнев сечевиков…
И казаки, как волны гая,
все дружно к берегу идут,
они челны на Днепр спускают
и в даль туманную плывут…
13
О, дней далеких перегоны!..
Не видно Хортицы давно…
Ой, не один казак утонет,
расплещет черное вино…
Вино иль кровь?.. В морском просторе
Тарас ведет своих людей…
Десятый раз ныряет в море
залитый кровью день…
В воде и в небе звезды светят,
и тут и там ясны они.
Как под ножом кровавым дети,
взвывают волки на огни.
Они от голода взвывают,
глаза их бешено горят…
А берега плывут и тают,
меняют облик и наряд…
Тревожно думалось Трясиле —
как тучи по лицу прошли…
Ему подобных не носили
ладони матери-земли!..
О дней далеких перегоны,
всё представляетесь вы мне,
в вас мысль и сердце дивно тонут,
как в проруби или на дне.
Чего, не знаю, сердце хочет.
Ах, то не звезды – фонари,
то светят трубками сквозь ночи
мои герои-бунтари…
Кузнечики выводят гаммы
над темным зеркалом реки…
И веслами, как бы ногами,
перебирают байдаки…
А ночь упала на колени,
им к морю проложив маршрут…
И капли в лунном озаренье
на веслах жемчугом цветут…
Там, в тумане, башни вековые
крепости Очакова стоят,
а на стенах турки-часовые
меж собою тихо говорят.
Что за плеск?.. Из ночи из туманной
дружно выплывают байдаки…
Берегись, Тарас, беды нежданной!
Наклоняйтесь ниже, казаки!
Гулом орудийного удара
тяжко берега потрясены…
А Тарас и радостно и яро
гонит морем грозные челны…
И челны – мушкетами на стену,
часовые – в воду головой…
Выплывают, падают мгновенно
снова лезут оголтело в бой…
И челны идут, туман прорезав,
аж от ядер весь кипит лиман,
мечет в лица волны и железо…
Берегись, проклятый басурман!
Тьма горит… И на челне Трясило
огненным видением стоит…
Мой казак лихой и сердцу милый,
ясно вижу помыслы твои.
Я к тебе тянусь, в тебя я верю,
ты мне жизнь, как солнце, осветил.
Тьма горит… И кто-то, в ней растерян,
в ужасе свой челн поворотил.
Но не удалось спасаться сзади…
В борт ядро ударило ему…
От челна лишь огненные пряди
протянулись, канули во тьму…
14
В море волны-горы расходились,
а меж ними – маком байдаки.
Уж забыли, что вчера случилось…
Дружно запевают казаки.
Уж забыли, что вчера случилось…
А Тарас всё смотрит зорко вдаль,
в синеву, что дымкой замутилась,
не блеснет ли парусом байдак…
………………………
Пенится, бушует сине море,
но вперед просторы их зовут,
и навстречу им сквозь волны-горы
казаки из Турции плывут.
Ой, немало злата в Цареграде!
Каждый там немало покутил…
Бравый куренной себе в награду
юную турчанку захватил.
Вся она – как робкая мимоза,
шаль у ней – как заревой туман…
Черные глаза глядят сквозь слезы,
их губами ловит атаман…
Потерялись, потонули в море
минаретов стройных купола,
муэдзин уж не встречает зори,
юный хан любовью отпылал.
Юный хан, зарубленный в гареме,
он приходит только лишь в ночи,
только снится юный хан Зареме,
и она вздыхает и молчит…
Атаман, не зарься на турчанку,
ведь не для тебя ее слова,
тихая девчонка-полонянка
не тебя хотела б целовать.
Лишь один казак тут не ест, не пьет,
только загляделся на турчанку…
Жарким глазом бьет: сердце ты мое!..
Он забыл, забыл свою Оксанку…
И казак встает, к пленнице идет
и к ее губам лицо склоняет…
«Берегись, казак, не целуют так!..»
Куренной пистоль свой вынимает…
Казаки молчат… Лишь вода шумит…
Но внезапно в небо и рвануло…
И казак упал… и казак лежит…
Только шапку кверху и взметнуло…
Атаман, тебе не видать добра —
ведь в себя стрелял ты из пистоля…
А у казака не лицо – дыра,
и над ним Зарема стынет стоя,
словно глыба льда… И по шее кровь,
по сорочке медленно стекает…
Молча атаман кубок свой берет
и вино спокойно выпивает…
«Пей, ватага, пей!» Пьют сечевики…
Лишь иные с глаз слезу смахнули.
Чайки лишь кричат, да вода звенит
о челны в своем извечном гуле…
……………………………
Атаман хмельной не отрывает
от турчанки взгляд угрюмый свой,
синие штаны вином пятнает,
в воду мечет каждый штоф пустой.
Казаки давно грозою стонут,
в них от злости на глазах туман…
Ведь забыл казацкие законы
и влюбился в бабу атаман.
Только-что там тонет, выплывает?..
Там под солнцем вспыхнуло весло…
Перед ним, как от калины в гае,
байдаками море зацвело.
И турчанку оттолкнул Барило,
он поднялся, хмель с себя стряхнул…
«Опоздал я», – думает Трясило
и рукою казакам махнул.
Только почему глядит Зарема
и бледнеет с шеи до руки?
Что это? Ужель его в гареме
чудом не убили казаки?!
«О юный хан мой, о коран мой…»
В глазах его огонь забил…
Нет, не его гяур поганый
тогда в гареме зарубил…
Но почему он с длинным чубом
и чуб гадюкою бежит?..
Зарема вдруг разжала губы,
но поперхнулась и молчит.
Она обиды все забыла
и тонет, тает, словно даль…
Что загляделась на Трясила,
сама красива, молода!
…………………………
А море Черное играет,
как конь анархии в бою…
И на челне тут начинает
Тарас впервые речь свою.
Под ним не челн, а небо мчало,
что в сердце и вверху горит…
«Свяжите старшину сначала,
тогда я буду говорить».
И враз клинками заискрило
и закипело всё кругом…
И враз сгорел, упал Барило
на труп изрубленным лицом…
Не море Черное взбесилось —
оковы рвет на нем казак…
Так поступили, как Трясило
громовым голосом сказал.
«Гей, казаки! Вас на чужбину
всех старшина вела на смерть,
и за панов там каждый гинул —
то ясно каждому теперь!
Шли мстить вы туркам и татарам,
а там, где край родной – село,
Украйна вся гудит пожаром,
Украйну кровью залило!..
Довольно быть нам в услуженье
у гетманов и старшины!
Огонь борьбы за вызволенье
в народе мы разжечь должны,
должны у воли встать на страже
и всех панов рубить подряд…
Мы раздробим те пушки вражьи,
что братьям головы дробят!..
Они к нам руки простирают,
они встают… их грозен гнев!..»
И шапки казаки снимают,
и от клинков челны – как снег!..
«Веди нас! Слава атаману!»
– «Час избавленья наступил!»
– «Поганой старшине и пану
мы зададим кровавый пир!»
Гляди, Тарас: играет море,
как конь анархии в бою…
оно встречает синим хором
тепло речь первую твою.
Стоит и слушает Зарема,
пьянеет, словно от вина…
Ах, не таким его в гареме
так часто видела она…
О люни ней, моя отрада,
тебя не сможет он любить,
тебе любить его не надо —
он старшину уходит бить.
А он – как ветер в непокое,
он первой звездочкой блестит…
Турчанка слушает с тоскою,
как море Черное шумит…








