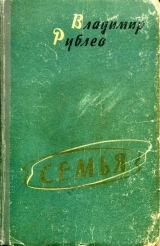
Текст книги "Семья"
Автор книги: Владимир Рублев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
13
Воскресная поездка Тачинского в Шахтинск, к Худореву, была не случайной. Связана она была с предполагаемым переходом на работу в Шахтинск. Хотя Марк Александрович и решил, что он должен уехать из Ельного, но посоветоваться с Худоревым было не лишним.
А когда под окном загудела машина, ему вдруг пришла в голову дерзкая, но заманчивая мысль.
Что, если пригласить с собой в город Тамару? Отбросить в сторону все мелочи, доказать ей, что для них открывается чудесное будущее!
...И вот поселок далеко позади. По обе стороны шоссе быстро проплывает заснеженный дремучий лес. А Тамара все еще не может забыть удивленного взгляда Аркадия. В первый момент этот взгляд принес торжествующее чувство, но чем дальше от поселка уносилась машина, тем беспокойнее становилось на душе.
– О чем задумалась? – наклонился к ней, сияя улыбкой, Марк Александрович. Ей стало противно это довольное, красивое лицо.
– Так... Ни о чем... – отчужденно ответила Тамара, раздражаясь от мысли, что сейчас он попытается завести нужный ему разговор.
Тачинский рассмеялся.
– Значит, не хочешь по душам поговорить? А напрасно. Уезжаю я скоро из Ельного, Тамара.
– Ну так что же?
Марк Александрович близко, так что коснулся губами ее уха, прошептал:
– А ты?
– Что я? – отодвигаясь, хмуро спросила она, хотя знала, о чем идет речь.
– Ты поедешь со мной?
И, не ожидая ответа, горячо продолжал:
– Я получу работу, конечно, в Шахтинске, кое-кто поможет мне в этом. Мечты, как видишь, сбылись, я возвращаюсь туда, куда и ты недавно рвалась всей душой. Знаю, что ты и сейчас не против вырваться отсюда. Да разве только ты? Всякий уважающий себя человек не проживет здесь более двух месяцев...
– Но вы же прожили здесь раз в тридцать дольше? – насмешливо скосила на него глаза Тамара.
– Да... Но... впрочем, зачем тебе это объяснять, ты все прекрасно знаешь и понимаешь.
– А как же Татьяна Константиновна?
– Тамара, зачем об этом говорить? Ведь это же не особенно интересует ни тебя, ни меня, – с ласковой укоризной произнес Марк Александрович. Чувство отвращения заставило Тамару передернуться: так неприятно подействовали на нее нежные нотки в голосе Марка Александровича. «Идиот! – подумала она. – Как он противен!»
– Я не рискую упустить такую возможность, как сегодня, – продолжал Тачинский, радостно и нежно глядя на нее. – Нам нужно решительно обо всем договориться. Если ты меня не понимаешь в чем-нибудь, говори, я все, все тебе расскажу. И только, прошу тебя, не настраивай себя против, не фантазируй и не выдумывай ничего. Подумай о моем предложении не как двенадцатилетняя девчонка, а как женщина, разумная и дальновидная. Ты поймешь, Тамара, что я прав. Я тебе в жизни более нужен, чем кто-либо другой... Подумай...
– Я уже думала о многом. И прошу вас, Марк Александрович, не говорить со мной на эту неприятную тему.
– Неприятную?!
– Да. Вы, может быть, ждали других слов, но... у меня их нет.
– Ну что ж, пусть будет по-твоему, – сказал он, усмехнувшись, и больше за всю дорогу не проронил ни слова.
В Шахтинске Тамара попросила Тачинского высадить ее у дома, где жила Лиля. Он хотел спросить, заезжать ли за ней, но она быстро скрылась в подъезде. Хорошее настроение было испорчено. Вот уж, действительно, такова жизнь – повезет в одном, проиграешь в другом.
У Худорева он узнал, что удача, которую он уже готовился отпраздновать, сомнительна.
– Слышал я, между прочим, о твоем деле, – сказал, зевая, Худорев. Он только что обильно пообедал, и его клонило ко сну. – Ты писал в горком партии?
– Да.
– Ну, Батурину из горкома позвонили, а я на докладе был у него. Лишнего ты там, наверное, написал, потому что Батурин страшно рассердился и отвечает в трубку: «С Тачинским разберемся, выясним, кто прав, кто виноват», положил трубку и фыркнул: «Кляузник!» Что ты там написал-то?
– Да так... Ничего особенного. Я лишь описал диктаторские приемы работы Клубенцова, ну и Шалина немного прихватил.
– Ну, милый мой, ты напрасно за них взялся. Да еще в горком об этом пишешь. Они же не тебе верить-то будут, а Шалину.
– Как же мне быть? – не на шутку разволновался Тачинский.
– Ждать, – улыбнулся Худорев, глубокомысленно посматривая на собеседника. – Ждущему да воздастся сторицею. Я вот набрался терпенья, когда приехал сюда, подождал, согласился временно даже в помощниках главного инженера шахты походить, а тут – бац – снимают Корниенко, и вакансия, как говорится, открылась. Я к управляющему – мол, все силы, знанья, какие есть, – все вложу в работу. Говорю, не гоже мне старому заслуженному ветерану, командиру производства, у своих же бывших сосунков-учеников в подчиненье быть. Он мне: «Не грех бы и поучиться у этих сосунков тебе». А я ему говорю: «Размаху нет никакого для моих способностей на шахте, мне бы пошире какую должность, я бы горы свернул». Тогда управляющий усмехнулся как-то по-особому и говорит: «Посмотрим, какой твой размах сейчас. Раньше я знавал тебя как дельного человека. Пиши заявление. Не справишься – через месяц уволю». Вот как дела-то нужно обрабатывать, милый мой... Стараюсь теперь, тяну во всю, чтобы экзамен выдержать, а там потихоньку, полегоньку.
– Значит, не выйдет, – задумчиво произнес Тачинский.
– Что не выйдет?
– Это я про себя. Не выйдет у меня с переводом ничего... Чувствую, что будут крупные неприятности. Поддержите меня?
– Поддержать? Это.. Ну, как тебе сказать... Вообще-то против тебя я нигде ничего говорить не буду, это я обещаю... А больше... ну, ты сам знаешь... Собственно говоря, ты чего расстраиваешься-то? Еще ничего не известно: авось, удачно твое дело обернется.
Обоим стало так неловко, что Тачинский поднялся и стал прощаться.
– Так, заезжай, я всегда буду рад тебя видеть. Не обращай внимания на пустяки, – провожая Тачинского до дверей передней, торопливо говорил Худорев. А едва за Тачинским захлопнулась дверь, Худорев выжидательно замер, прислушиваясь к удаляющимся по лестнице шагам, а затем усмехнулся:
– Хм. Поддержать... Шутишь! Не таков Худорев, чтобы влипнуть, как кур во щи... Не-ет.
14
«...Знаешь, мама, обидно мне, что он стал очень скрытным, ничего не рассказывает, а сам, я это вижу, о чем-то очень часто задумывается. Хорошо, что он стал спокойнее, резкого ничего мне не говорит, но я никак не могу понять, что с ним происходит. Вижу, что прежнего доверия у него ко мне нет, а как сделать, чтобы было все хорошо, не знаю».
Галина положила ручку и задумалась. Она решала, писать ли матери о своих думах, которых в последнее время было много, или же не расстраивать ее. Вздохнув, перечитала все, только что написанное, разорвала и скомкала лист.
«...Извини, мама, что не ответила тебе в тот же день, как получила письмо: Валентину стало хуже, и я была занята... – начала Галина новое письмо. – Ты беспокоишься – как мы? А я вправе спросить: как ты? Ведь ты одна сейчас там осталась, а мы – плохо ли, хорошо ли – вдвоем...»
В квартире тихо. Слышно лишь легкое посапывание Валентина, да иногда маленький Мишка зачмокает губами во сне. И за окном, во всем зимнем поселке, тихо-тихо: не слышится из-за двойных рам привычный шум работающих механизмов шахты.
Замер зимний поселок. Вспыхивает и искрится от света окон свежевыпавший снег, он режет глаза женщине, идущей по улице поселка неторопливым, старческим шагом.
Женщина останавливается, оглядывается вокруг, присматривается к домам и снова идет дальше. Вот она подошла к дому, где живет Валентин, постояла с минуту, присматриваясь, не ошиблась ли. И направилась к воротам. У крыльца она снова остановилась, прислушалась к чему-то и легонько постучала. В сенях вскоре послышались торопливые шаги и знакомый голос:
– Кто?
– Галя... Это я...
– Мама!
Дверь быстро распахнулась, и Нина Павловна очутилась в объятиях дочери.
– Мама, мама! Родная моя! Как ты знала, что я только что о тебе думала? Мамочка...
– Ну, ну... Пойдем-ка лучше в комнату, а то еще простудишься.
В комнате Галина снова прижалась к матери, радостно всхлипывая. Нине Павловне она чем-то на миг напомнила ту беспомощную девочку, какой была Галина в детстве, когда у нее что-нибудь не ладилось. Уязвленное самолюбие и упрямство мешало тогда дочурке прямо сказать матери о неудаче, она избегала подбадривающего материнского взгляда, но Нина Павловна и без этого знала все и ждала, когда дочь подойдет, наконец, к ней уткнется в материнские колени и всхлипнет: «Не могу...» Своенравная была в те годы дочь.
«А сейчас все ли хорошо у них?» – подумала Нина Павловна, поглаживая дочь по волосам. Чуяло материнское сердце что-то неладное.
Немного поздней, посмотрев спящего внука и одобрительно приглядываясь к чистоте и порядку в квартире, Нина Павловна спросила:
– Не ссоритесь с Валентином?
Галина смущенно опустила голову, покраснев от внимательного и понимающего взгляда матери.
– Немного... – прошептала она, не поднимая головы.
– Ну, а из-за чего?
– Долго рассказывать, мама... Оба мы виноваты... Все так запуталось, что не пойму, о чем и рассказывать,
– А ты не торопись, – потихоньку рассказывай.
– Может, не надо, мама? – умоляюще произнесла Галина.
– Трудно? Ну что же, не надо. Я и так вижу, что серьезное у вас что-то... По тебе вижу: исхудала вся, никогда еще такой не была. У Вани, когда сюда ехала, все спрашивала, изменилась Галя-то или нет. А он только одно говорит: «Приедешь – увидишь».
И Нина Павловна незаметно перевела разговор на свою поездку, потом стала рассказывать о школе, о :своих «чертенятах», как она с большой любовью называла бойких, непоседливых учеников-«первоклашек». А Галина глядела и не узнавала мать: так сильно изменилась она за четыре с лишним месяца! Прежде мягкие складки у рта обозначились резче, углубилась сетка морщин у глаз; темные раньше волосы, в которых лишь поблескивала седина, стали соломенно-бледными, а на висках – и совсем серебряными. Лишь глаза, умные, проницательные, не поддались времени, глядели ясно и живо. И как-то так получилось, что поддавшись обаянию теплого взгляда этих ясных глаз, Галина рассказала матери о своей жизни.
– Любишь ты его? – внимательно посмотрела в глаза дочери Нина Павловна, когда та умолкла.
– Люблю, мама... И сильно люблю... – покраснела Галина. – Потому мне так и больно...
– А ты люби его так, чтобы душой это чувствовал он, чтобы видел. Тогда спокойней будет и ему, и тебе.
– Не умею я так, мама, – смущенно произнесла Галина. – В сердце у меня все им полно, а вот показать ему это я как-то стыжусь... Мне кажется, что он будет меньше любить, если я буду навязчивой.
Нина Павловна рассмеялась, притянула к себе дочь и погладила нежно по волосам.
– Будь такой, как подсказывает тебе сердце, но в сердце-то держи, что тебя любят. Сердится он, а ты думай: это любя, пройдет. Задумался о чем-нибудь – ты не фантазируй, что он грустит от скуки, а скажи себе: это пройдет, он скоро вспомнит обо мне. И так все время вспоминай, что он любит. Доверие хранит любовь, дочка.
Галина обняла мать и поцеловала ее в щеку, прошептав:
– Какая ты у меня умная, мама. Мне так не хватало этих слов. Если б не ты, я не знала бы, как быть дальше. А теперь знаю: мириться надо, и я первая сделаю это... Правда, мама?
– Конечно, Галя. А излишняя гордость в любви ни к чему.
Они проговорили до глубокой полночи.
15
Тамара долго звонила у дверей. Из квартиры доносились веселые голоса, потом кто-то приятным голосом запел о голубых глазах, и вдруг все смолкло.
Она снова позвонила. Лицо Лили, открывшей, наконец, дверь, выражало явный испуг, но при виде Тамары оно вмиг преобразилось.
– Томочка! Томка! – бросилась на шею подруге Лиля, радостно целуя ее. – Мы тебя каждый-каждый вечер вспоминаем!.. Понимаешь, папа с мамкой исчезли на всю ночь, я собрала компанию и вдруг – звонок... Ох, я перепугалась! А это, оказывается, ты! Ну, идем, идем...
Чем-то давним, уже забытым, пахнуло на Тамару когда она вошла в просторную гостиную. Блеск от люстры, зеркал, статуэток, яркая белизна скатерти, сервировка стола и заученная изысканность, с которой моментально подлетел к ней один из незнакомых молодых людей, все это ослепило, почти ошеломило ее, и сердце радостно защемило. «Да, да... – быстро подумала она. – Это оно, мое недавнее прошлое. Как это все хорошо!»
– Прошу вас! – бойко заговорил молодой человек, приглашая ее к столу.
– Оставь, Борька! – капризно отстранила его Лиля. – Она сядет рядом со мной. Томка, иди сюда, а то этот донжуан быстро тебя споит. Он у нас мастер по этой части.
За столом кто-то недвусмысленно хихикнул, но Борька даже и глазом не повел. Небрежно извинившись, он ушел к радиоле, достал из-за пазухи странные – как потом узнала Тамара, сделанные на рентгеновской пленке – пластинки, и песня о голубых глазах, прерванная приходом Тамары, снова зазвучала в комнате.
Лиля не отпускала от себя Тамару весь вечер, несмотря на явное неодобрение Борьки. Этот молодой человек, поручив крутить свои «шикарные» пластинки товарищу, делал несколько попыток разъединить их, но всякий раз Лиля насмешливо щурила красивые глаза.
– Нет, нет, Боренька, здесь тебе не фартанет... Ты бы занялся лучше Лорочкой, видишь – она с тебя глаз не сводит.
Да, это был прежний мир Тамары: простовато-откровенный, узенький мирок скучающих от избытка жизненных благ молодых людей. Возвращение в этот мирок было для Тамары чем-то вроде встречи со старым и милым другом. Но странно, к концу вечера в душе стаяло расти неприятное чувство к этим двум десяткам довольных, раскрасневшихся от выпитого вина, щеголеватых юнцов и девушек. Может быть, неприязнь к ним чувствовалась особенно резко потому, что где-то рядом с ней незримо, но почти физически ощутимо стоял он, Аркадий. Даже смеясь вместе со всеми, она холодела, вспоминая недоуменный, неверящий взгляд Аркадия, видела, словно наяву, его все уменьшающуюся от быстрого хода машины неподвижную фигуру в лыжном костюме. Он, конечно, не простит ей этой поездки с Тачинским.
«Зачем же я тогда здесь? – подумала она, уже не слушая, что рассказывает ей Лиля. – Что нужно мне от-этих людей? Что?»
Она окинула быстрым взглядом веселые лица и как-то вдруг поняла, что они ей чужие.
– Что с тобой? – донесся до нее тревожный голос Лили. – Ты совсем не слушаешь, что я тебе говорю.
Тамара пристально посмотрела на Лилю. Да, да. Лиля не поймет, если ей рассказать то, что мучает сейчас Тамару. Когда-то они вместе от всей души смеялись над глубокими страстями, уверенные, что в жизни все надо делать шутя, мимоходом. А вот теперь...
Тамара встала.
– Мне надо ехать домой, в Ельное.
Лиля схватила ее за руку:
– Томка! Что с тобой? Никуда не поедешь!
– Нет, нет! Я должна ехать!
И лишь на улице вспомнила, что ночью едва ли удастся найти попутную машину. И все же пошла к автостанции по тихим, вымершим улицам города. Стук ее каблуков одиноко звучал в тишине, но ей не было страшно, она хотела во что бы то ни стало вырваться туда, в Ельное...
Часа через полтора она опять подошла к дому Лили и позвонила.
– Если можно, я побуду у тебя до утра, – сухо, отчужденно сказала она сонной Лиле.
– Да, да. Пожалуйста, – поспешно согласилась Лиля, пропуская ее в дверь, и тихо добавила:
– Папа с мамой уже дома, ты им ничего не говори.
И это неожиданное предупреждение особенно резко дало понять Тамаре, как они уже далеки с бывшей подругой.
16
Юлия Васильевна встретила их почти у самых ворот.
– Иди-ка, Ваня, быстрей, там с шахты опять звонят. Не могут дать человеку спокойно отдохнуть, – недовольно проворчала она и только после этого улыбнулась Шалину:
– Здравствуйте, Семен Платонович! Проходите, проходите, да извините меня – я сейчас в магазин наведаюсь...
Шалин был первый раз в доме Клубенцовых. «Домовитая хозяйка Юлия Васильевна, – отметил он, слушая краем уха доносившийся из соседней комнаты разговор Клубенцова по телефону. – Кто-то, помнится, сказал, что вещи человека говорят о его характере.. Здесь, пожалуй, ото всего солидностью веет. Любят Клубенцовы, однако, все прочное и изящное».
Вошел Иван Павлович.
– Опять три вагона с машинами из Шахтинска прибыли, – усмехнулся он, присаживаясь рядом с Шалиным. – Решил Худорев нас забросать техникой. Вчера почти эшелон разгрузили. Лихарев ругается, склады, говорит, все переполнил.
– От техники отказываться нельзя, – вставил Шалин. – Пусть благодарит Худорева, а не ругается. Ругать его надо было раньше, когда тот был здесь начальником шахты и от новых машин руками и ногами отбивался.
– Не прав ты, Семен Платонович, – нахмурился Клубенцов. – Не ругать, а бить Худорева надо! Ты думаешь, я не понимаю, в чем дело? Машины-то он присылает новейшие, о которых наши специалисты и понятия не имеют. Вот и получается, что пока мы их освоим, плана нам, конечно, не видать. Но и на старых машинах работать нельзя. Больше половины хоть сейчас выбрасывай!
Шалин внимательно посмотрел на Клубенцова.
– Ты думаешь, Худорев не случайно начал уделять такое внимание механизации нашей шахты?
Клубенцов молча встал, так же молча достал из шкафа свежую пачку папирос и, лишь закурив, ответил на вопрос Шалина.
– На других наговаривать я не мастер. А тут и рад бы помолчать, да не могу. Тем более, что об этом нам придется рано или поздно говорить. Если так будет, машины нас съедят, Семен Платонович.
Он так и не ответил прямо на вопрос парторга, но тот уже понял его мысль, понял и нетерпеливо перебил:
– И что же ты предлагаешь?
– Что? А это сам Худорев подсказал нам. – Клубенцов замолк, но затем резко обернулся к Шалину: – Или мы оседлаем машины, или – они нас! Так стоит вопрос! Разочаровываться и тянуть волынку некогда, Худорев нам на это времени не отпустил. Специалистов, знакомых с эксплуатацией новых машин, у нас тоже нет. Значит...
– Значит?
– Если их нет, они должны быть! Нет сегодня, а завтра уже должны быть!
– Из Шахтинска? Но там...
– Зачем из Шахтинска? – недовольно поморщился Клубенцов. – Все, кто имеет отношение к новым машинам, в ближайшие же дни будут учиться здесь, на шахте. Курсы – самые различные – вот что спасет, нас! Преподавать там, конечно, придется и мне, и тебе, и Тачинскому, не говоря уже о других инженерах. Тебе, пожалуй, можно поблажку дать, ты – партийный работник.
– Ну, нет, – вскочил Шалин, задетый за живое, но сразу же осекся: в гостиную вошла Тамара. Она печально кивнула ему головой, глаза ее были заплаканы.
– Папа, я в клуб иду, – тихо сказала она и покраснела.
– Иди, иди.
Шалин заметил, как потускнело сразу лицо Ивана Павловича. Да и ответил-то он уж очень поспешно, не глядя на дочь. «Вероятно, крупно поговорили», – подумал Семен Платонович.
Тамара вышла, но говорить о прежнем уж ни тому. ни другому не хотелось. Но и молчать тоже нельзя было.
– Давай-ка в шахматы сыграем, – оживился Шалин, заметив на пианино шахматную доску. – Давненько уж я не играл...
– Что ж, давай, – вяло согласился Иван Павлович, как-то странно глядя на него. – Давай, сыграем, – повторил он, хотя лицо его выражало задумчивость и досаду. Он медленно подошел к окну и встал там, словно забыв про Шалина. Семен Платонович намеренно долго расставлял фигуры на доске.
– Не получается у нее жизнь, – не оборачиваясь, тихо сказал Клубенцов, – не получается. За отца дети не краснеют, так отцам за детей приходится, – он повернулся к Шалину.
– Почему так, Семен Платонович? Ты в людях хорошо разбираешься, скажи – почему так бывает? Мало времени семье отдаем, да?
– Конечно...
– А если отдавать семье больше времени, не будет ли это сказываться на работе шахты? Ведь это же простая истина, что большая работа выполняется в большее время.
– Извини, Иван Павлович, перебью тебя. Всегда так рассуждают, когда хотят снять с себя вину за грехи.
Иван Павлович поморщился, Шалин, заметив недовольное выражение его лица, рассмеялся:
– Наберись терпенья, коли напросился на такой разговор. Ну так вот, не надо окрашивать все только в белое и черное. Зачем ты берешь для примера такое положение, когда от человека действительно требуется максимум энергии и времени? Разве твоя жизнь только из таких положений и состояла? Наверное, нет. По себе знаю, что семье можно и нужно уделять столько времени, чтобы в ней все было хорошо; даже в критические, вот как сейчас, дни и то можно не забыть о своих обязанностях по отношению к семье... Так?
В глазах Клубенцова, обычно спокойных, с оттенком властного упрямства, на какой-то миг проглянула растерянность. Он тяжело поднялся, но тут же снова сел и закурил.
– Молодец ты, Семен Платонович, – устало и неохотно проговорил он, отводя взгляд, – правду не боишься сказать. А я себе боялся признаться, что неправ. Теперь вижу вот... Что ж, подскажи, если знаешь, как дальше быть? Вчера всю ночь не было Тамары дома. В Шахтинске, говорит, у подруги была, а мать всех на ноги подняла: где дочь? Только... не верю я, что в Шахтинске она была. Тут что-то другое...
До прихода Юлии Васильевны они о многом поговорили.




