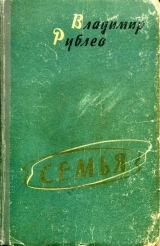
Текст книги "Семья"
Автор книги: Владимир Рублев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
9
Как хочется жить, когда с неумолимой ясностью вдруг начинаешь осознавать: скоро все кончится...
Валентин резко открывает глаза, со злостью сжимая зубы: «Нет, врешь! Я буду жить, буду, буду!»
Неделю назад врач неосторожно, так что слышал Валентин, сказал Галине:
– Нерв начинает отмирать. А это уже... – он не закончил фразы, потому что Галина всхлипнула, но Валентин вдруг понял: это – конец.
– Успокойтесь, не волнуйтесь, – говорил за ширмой врач. – Будем надеяться на операцию: иногда исход бывает благополучным.
Теперь, когда произнесена эта холодная фраза – «конец», Валентин с фанатическим упорством начал бороться за жизнь. Он решил, что физические упражнении помогут ему в этой жестокой схватке с болезнью. До полного изнеможения заставлял он делать медленные движения непослушные, чужие руки, пытался резко оторвать от постели ноги, голову и с какой-то злой радостью усмехался, когда это удавалось. «Врешь, мы еще поживем!» – повторял он тогда понравившееся ему выражение.
Но вчера врач, проверив его состояние, с какой-то дьявольской внимательностью посмотрел на Валентина и стало понятно: разложение этого проклятого нерва прогрессирует... «Значит, физкультура только вредна мне», – решил Валентин. И что-то такое горькое захватило его, так сжало сердце, что захотелось плакать, плакать навзрыд: ведь это конец! Но – молчи! Сожми зубы и – молчи, не надо! Забудь все, и даже то, что ты есть, забудь!
Вот и темнота на улице; земля и дома, засыпаемые густыми хлопьями снега, не стали видны Валентину. Стукнула дверь: кто-то пришел. Это Петр Григорьевич. Шапка и воротник его пальто в искорках снежных звездочек. Интересно, как свежо пахнет тающим снегом от пальто.
– Зима на дворе, – сказал Петр Григорьевич, присаживаясь на стул и окидывая взглядом комнату. – Мне сын проспорил: говорил, что снегом и не пахнет, а тут – на тебе! Все бело, полметра уже кое-где нанесло снегу. Ну, как твои дела? Из Москвы-то нет еще ответа?
– Нет.
– Похудел ты, Валентин, смутный какой-то стал. А профессор приедет, ты напрасно сомневаешься.
– Эх, Петр Григорьевич... – Валентин с усилием подтянул руку к лицу. – Вот уже куда пошла моя болезнь, в руки... А что будет еще через полмесяца, месяц? Куда ждать дальше? И есть ли смысл? Дождусь, что захочешь себе глотку перерезать, да не сможешь: сил не будет...
Он закрыл глаза, по щеке прокатились слезы.
– Валентин?! Что с тобой? – Петр Григорьевич наклонился над ним, положил ладонь на горячий лоб. – Ерунду ты мелешь, это факт... Разве об этом надо тебе думать сейчас? Эх, ты! Слаб оказался ты, а я еще гордился и радовался твоей выдержке.
– Все это не то, Петр Григорьевич, – не открывая глаз, тихо вымолвил Валентин. – Да и... все равно теперь... Галину жаль только... А, впрочем, будет еще в ее жизни... хорошее... Печаль, говорят, не вечна... К тому же, честно скажу, не тот я человек, с которым ей бы жить надо... Не тот, Петр Григорьевич, – он открыл глаза. – И я понимаю, что тяжело ей со мной...
– Слушай-ка, Валентин, – сдвинул брови Петр Григорьевич. – Не то что-то городишь ты. Выходит, не знаешь ты свою жену, не вдумывался по-мужски, а не по-ребячьи, в вашу с ней жизнь. А я скажу тебе: счастлива твоя звезда, что встретился с Галиной, а не с какой-нибудь вертихвосткой. Такую жену ценить надо, дурень ты несусветный.
Петр Григорьевич помолчал, глядя, как Валентин, вздохнув, закрыл глаза.
– Чую, что ты ей много уже крови попортил, по тебе вижу. А к чему, из-за чего? Или веришь, что только в книжках есть хорошие люди, а в жизни нет их? Стыдно так думать. Не посмотрю, что ты больной, прямо скажу: только плохой человек так может думать, тот, кто в себя не верит. Эх, Валентин, Валентин... Знаю, что плохо тебе, но разве в этом дело? Люди на краю смерти оставались самими собой, не впадали в отчаяние, и такими людьми восхищаешься и думаешь, где они столько сил брали.
Он сердито замолчал, закручивая цигарку, а до Валентина тихо, постепенно начинал доходить смысл этих слов. В наступившем молчании они все полнее, все упорнее входили в мысли, и от них никак нельзя было отмахнуться.
Да, да, только эти слова нужны были Валентину, чтобы вспышка нервозности исчезла, а что-то гордое, почти отрешенное от физического ощущения немощи, недвижимости, заполнило душу. Это правда – хлюпиком может быть любой, а ты попробуй смеяться над приближающейся смертью!
Валентин ласково посмотрел на Комлева.
– Спасибо, Петр Григорьевич... Вы больше, чем врач, вы замечательный человек...
– Ну, ну, с комплиментами-то осторожней надо обращаться, – смутился Петр Григорьевич. – Я под тебя не подделывался, я правду высказал. Да и не успокаивать я пришел, а узнать, чем ты дышишь. И узнал такое, что стыдно ребятам на шахте рассказывать.
– А как там, на шахте? – заинтересовался Валентин.
Петр Григорьевич улыбнулся:
– Ну вот, теперь вижу, что в тебе крепкая закваска – наша, горняцкая.
Они стали обсуждать шахтовые новости, будто Валентин лишь сутки не был в забое.
Когда Комлев начал прощаться, в прихожей послышались шаги.
– Галина от Клубенцовых идет, – пояснил Валентин. – С сынишкой в гости ходили. Я уже научился угадывать ее шаги; а Саньку Окунева еще у дома всегда узнаю: с шумом ходит парень. Частенько он наведывается ко мне, спасибо ему.
Вошла Галина с сыном. Лицо ее разрумянил холод, на бровях и волосах, там, где они были не закрыты шалью, сверкали капельки растаявших снежинок. Петр Григорьевич, не бывший здесь уже около двух недель, невольно отметил, что на ее лицо лег отпечаток беспокойства и чего-то неуловимого, сходного с выражением нервной усталости.
– Ну, пора мне... Заждалась, наверное, старушка дома-то. Она у меня, как все жены, очень беспокойная. Что только на своем веку не испытала: и в обвалы я попадал, и с дури, еще в молодости, пьяным до бессознания напивался, а она до утра ходила искала меня. Пришлось на другой день прощенья просить у нее, и с тех пор правило появилось у меня: пить только дома и меру знать. Эх, жены, жены... Свиньями мы частенько перед своими женами оказываемся. – Петр Григорьевич так пристально посмотрел на Валентина, что тот не выдержал, отвернулся.
– Ну, всего доброго.
Несколько минут после ухода Комлева в комнате стояла неловкая тишина. Такая тишина стояла здесь и вчера, и позавчера, но сейчас Петр Григорьевич словно накалил ее своими словами: тишина стала Валентину невмоготу.
– Галя... – тихо позвал он и сам не узнал своего хриплого незнакомого голоса.
– Да... – после молчания ответила Галина, не двигаясь со стула около кроватки сына.
– Подойди...
Она подошла, и Валентин, взглянув в ее строгое, хмурое лицо, вдруг ощутил, что не найдет сейчас ни одного слова, которое сломало бы отчуждение, легшее между ними, которое стерло бы в ее сознании все те слова, какими он подавлял вот уже несколько дней ее попытки к примирению.
– Давай не будем сердиться? – сказал Валентин, вглядываясь в ее окаменевшее лицо.
– Давай... – пожав плечами, тихо сказала она, отводя затуманившийся взгляд. И он понял: нет, она не верит ему, – ведь слишком чужими и злыми были слова, что срывались с его губ и вчера, и позавчера, и неделю назад. Валентин устало закрыл глаза, прислушиваясь к волнами бьющейся в уши тишине – тугой, настороженной, жгучей тишине... В нем горела жажда смять этот непонятный, невидимый барьер между ними, но как это сделать, он не знал. И он молчал.
10
Едва Тачинский вошел в свой кабинет, потирая озябшие пальцы, явилась посыльная.
– Иван Павлович уже давно вас спрашивает, – сказала она. – С двух часов не может найти.
– Хорошо, – поморщился Тачинский и стал снимать меховой реглан.
– Сказать, что вы сейчас придете? – робко переспросила рассыльная, берясь за ручку массивной двери.
– Я же сказал, что приду. Идите!
Посыльная испуганно юркнула в дверь, не зная, чем рассердила главного инженера. Но она ошиблась: Марк Александрович крикнул потому, что настойчивость посыльной мешала ему сосредоточиться и обдумать то, что произошло с ним во время этой поездки в трест.
Улыбаясь Марк Александрович неторопливо зашагал по кабинету... Все же приятный человек этот Худорев. А как изменился: в нем появилась какая-то спокойная солидность и что-то этакое строго начальническое, просто не подумаешь, что он всего лишь рядовой работник технического отдела треста. После ельнинской шахты это явное понижение, а Худорев такой важности напустил на себя. Хорошо то, что он обещал посодействовать в переводе в город. Хотя... мало это от него зависит.
В дверь снова постучали, и вошла все та же рассыльная.
– Вас... – несмело начала она, не закрывая дверь, но Тачинский грубо оборвал ее:
– Не ходите больше сюда! Я сказал, что приду.
Он подошел к столу и, резко отодвинув кресло, сел. Черт знает, как за мальчишкой присылают, контролируют каждый час.
Тачинский встал из-за стола, но в этот момент дверь открылась и вошел Клубенцов. Мгновенье он пристально смотрел на Тачинского, затем резко сказал:
– Все не можете с барскими привычками расстаться? Мол, я нужен начальнику шахты, пусть и приходит... Так не один я, все начальники участков ждут, с обеда из-за вас откладывается совещание...
Тачинский густо покраснел: еще никогда начальник шахты не говорил с ним таким раздраженным, резким тоном. Но, поняв, что из-за поездки в Шахтинск он сорвал совещание, Тачинский промолчал.
На совещании он сидел, хмуро кусая губы, неохотно, отчужденно отвечая на обращенные к нему вопросы. А вопросов было много: сегодня начальство шахты совещалось, как устранить или хотя бы свести к минимуму частые поломки, неисправности горных машин и механизмов. Люди теряли от этого так много времени, что уже несколько дней шахта недодавала государству уголь.
Главный механик шахты Лихарев, тучный, но красивый чернявый мужчина средних лет, обводя всех цыганскими задиристыми глазами, насмешливо говорил:
– Понапихали в шахту разных машин и машинок, а теперь голова кругом. Я, конечно, не против, чтобы в забоях было больше механизировано трудоемких процессов, да толку-то от этого все меньше и меньше. Я не антимеханизатор, как тут высказывались некоторые особенно ретивые, я душой болею за план... Какая польза, – обратился он к начальнику восьмого участка Брускову, – от той углепогрузочной машины, что работает, верней, стоит у вас в западной лаве? А от транспортера, что заново уложили на пятом горизонте, есть толк? Там раньше ходил электровоз, да наше начальство посчитало, что экономнее, выгоднее заменить его этим транспортером. А теперь что? Углем половина пятого горизонта завалена, надо подавать его в штрек, а транспортер, что ни час, то ломается...
– Ваша вина... – бросил Клубенцов.
Лихарев быстро повернулся к нему.
– Винить очень легко. Разве не говорил я Марку Александровичу, что к хорошей машине надо хороших, знающих людей. А он посмеивался: «Где же их взять, этих знаменитостей? Да разве не готовят в Шахтинске специалистов, разве нельзя дать заявку о присылке их сюда? А если нет, то мы, пожалуй, только совещаться и будем, а машины будут стоять.
И вот тут-то Марк Александрович не выдержал. Он почувствовал себя в какой-то степени оскорбленным словами главного механика.
– Ко всякому делу хорошего человека надо, – сказал он, поднимаясь и чувствуя на себе удивленные взгляды присутствующих: все уже как-то свыклись с тем, что главный инженер на совещаниях обычно отмалчивался. – Хорошие люди нужны всюду... И рабочий должен быть хорош, и начальнику неплохо быть хорошим... А где же взять этих хороших людей, знающих, как вести дело, людей опытных? Только ли в Шахтинск надо заявочки писать, как учит Лихарев?
Клубенцов наклонился и что-то прошептал Шалину на ухо. Тот улыбнулся, кивнул головой. «На мой счет», – мгновенно отметил Тачинский, делая паузу.
– Разве на шахте, – продолжал он, – нельзя создать постоянно действующий учебный пункт для горняков всех специальностей? Можно. Есть у нас и кому занятия вести, есть и помещения. Напрасно Лихарев возмущается, что к нам поступают все новые и новые машины. Отбрыкиваться от машин – это значит хоронить себя заживо: нынче машины – основа всякого производства. А людей учить надо.
Он сел и вдруг усмехнулся, заметив, что пальцы рук у него подрагивают от волнения, как у школьника, отвечающего первый урок. «А получилось, кажется, ничего, – подумал он, – жаль, что немного увлекся, Лихарева прихватил. Еще обидится. У них с Клубенцовым тоже, кажется, дело не идет, подумает, что я в поддержку начальника шахты выступал... Надо после совещания извиниться».
Закончив совещание, Клубенцов попросил Тачинского задержаться.
Порывшись в бумагах на столе, он подал Тачинскому лист.
– Управляющий трестом прислал мне ваше заявление о перемене места работы с его резолюцией. Пожалуйста...
«Посоветуйтесь с начальником шахты. Если он не возражает и найдет нужным – я не против».
– Я не нужен вам больше сейчас? – дрогнувшим голосом спросил Тачинский.
– Нет, идите, подумайте.
Клубенцов почти вслед за Тачинским вышел из кабинета и пошел к Шалину. Тот читал книгу.
– Решать надо с Тачинским: просится в Шахтинск, – сказал Клубенцов, присаживаясь в кресло. – Откровенно говоря, не хочется мне, чтобы он остался в Ельном.
Помолчав, Шалин сказал:
– Но сегодня он мне понравился на совещании. Может он, Иван Павлович, работать, я это чувствую.
– Может, но, как видишь, не желает.
– А нам сейчас и важно убедить его, заинтересовать в работе. Проще, конечно, дать согласие на отъезд Тачинского, но это выглядит как-то по-капитулянтски.
– Об этом не стоит тревожиться. Уж кого-кого, а руководителя жизнь сама возьмет в оборот. И Тачинский когда-нибудь многое поймет с другой точки зрения.
– Прав ты, что поймет. Но это будет когда-то, а он живет и руководит сегодня. Проще всего избавиться от ненужного, заблуждающего, или, откровенно говоря, плохого человека, отдалить его от себя, но из нашей общей жизни куда его выкинешь? К товарищам? Но это, во-первых, нечестно, а во-вторых, покажем собственное бессилие.
– М-да. Верно сказано, – медленно произнес Клубенцов, с интересом, словно заново, рассматривая Шалина и думая, что этому человеку можно доверить судьбу людей: он ничего не забудет, все взвесит и выберет решение, лучше которого, пожалуй, едва ли найдешь И неожиданно добавил:
– Ты сейчас, Семен Платонович, домой идешь?
– Домой. А что?
Клубенцов встал и, пряча в веселой усмешке нахлынувшее чувство симпатии, сказал:
– На пельмени решаюсь пригласить тебя. Жена звонила часа два назад по телефону, чтоб поторапливался. Идем?
– Идем! Коньячку по маленькой будет?
– А это с женой договаривайся. Я не мастер по части спиртных напитков.
И оба рассмеялись.
11
Аркадий был неплохим лыжником. Он уверенно взбирался по лесистому склону, а, достигнув вершины горы, остановился, ожидая Асю и оглядывая окрестность. Поселок отсюда был виден далеко внизу; громадные вековые сосны и мохнатые ели закрывали большую часть поселка, а то, что виднелось, было словно игрушечное. Высоко в горы забирались они с Асей, затеяв эту воскресную прогулку.
– Аркадий! – послышался где-то внизу беспокойный голос Аси. Он пробежал к стволу огромной красавицы-сосны, за которой снова начинался густой лес, и припал плечом к дереву. Аркадий и сам не знал, почему согласился на эту прогулку, предложенную Асей в тот вечер, когда он провожал девушку домой.
Тогда ему стало жаль ее, Аркадий не любил причинять другим зла, а вот сегодня утром, когда Ася, одетая в темно-синий лыжный костюм, делающий ее очень привлекательной, подъехала на лыжах к дому Комлевых, Аркадий почувствовал, что поступил неправильно, что все это лишнее.
«Скоро ли она?» – думал он, нетерпеливо поглядывая вниз. Но лыжня пустовала. Аркадий начал, притормаживая, спускаться по своему следу и вскоре едва не налетел на девушку, которая уже готовилась ехать обратно.
– Не пойду я дальше, – печально сказала Ася. – Я все равно вас не догоню... если вы не захотите...
А глаза ее смотрели укоризненно и грустно. Аркадий понял, что Ася догадалась: он не случайно не хочет остаться сейчас с нею наедине. Что ж, так, пожалуй, лучше. Не надо ничего объяснять.
– Пойдем обратно, – облегченно вздохнул он.
Ася отвернулась.
– Идите, – помолчав, тихо произнесла она. – Я одна побуду здесь.
– Зачем? – беспокойно спросил он.
– Так... Вас это, пожалуй, не касается...
И медленно побрела в сторону от лыжни. Аркадий вздохнул и пошел за нею. Услышав хлопанье его лыж, она обернулась и сказала:
– Не ходите, пожалуйста. Ни к чему все это.
– Но, Ася...
– Я сказала все. И прошу вас, оставьте меня.
Аркадий вспыхнул:
– Хорошо.
И сильным ударом вонзив палки в снег, он рванулся вниз, едва успевая отворачивать от пней и скалистых выступов. Лишь подъехав к берегу реки, остановился и оглянулся назад. Мертвой, застывшей стеной стоял дремучий лес. И в холодном, свежем воздухе, обычно чутком в эту пору к любым звукам, плыла такая тишина, что Аркадию стало не по себе. Зачем он оставил Асю одну там, в скалах? Нечестно это. Не нужно было идти с ней сразу, тогда не было бы всего этого.
Аркадий повернул и пошел снова в горы, по своей старой лыжне. Шел он долго, через каждые десять шагов чутко прислушиваясь к лесным шорохам. Наконец, добрался до того места, где ушел от Аси. Девушки не было видно. Постояв в раздумье, медленно пошел по следу ее лыж. След вел все дальше в глубь леса. Потом лыжня повернула круто вниз, и Аркадий понял: Ася пошла в поселок. Вниманье его привлек невысокий коричнево-серый пень, с которого был сброшен снег. Вероятно, здесь Ася сидела перед тем, как направиться домой. И ему снова стало досадно на себя, что затеял эту прогулку. Нахмурившись, он побрел по лыжне дальше.
Лес поредел, и вскоре Аркадий вышел на дорогу и побежал по обочине. Перед самым въездом в поселок навстречу вынырнула легковая машина. Аркадий узнал «Победу» главного инженера. «В Шахтинск, в театр», – спокойно подумал он и остановился, пропуская машину, которая проскочила перед его глазами в одно мгновенье. Все же он успел различить на заднем сиденье Тачинского и рядом с ним... Не может быть?! Тамара?! Аркадий вздрогнул и стал глядеть туда, куда по шоссе укатила машина.
12
Тамара видела, как Аркадий и Ася ушли в лес. Простояв у окна до тех пор, пока они не скрылись за избами, она бросилась к себе в комнату, решив переодеться и тоже идти в лес следом за ними, но вспомнила, что лыж у нее нет, и бессильно опустилась на диван. Она и раньше женским чутьем догадалась, что эта белокурая привлекательная девушка неравнодушна к Аркадию. Ссора с Аркадием у клуба только подлила масла в огонь. Тамара решила, что в этом деле замешана Ася.
«Вот она, разгадка, – думала Тамара, и перед глазами ее оживали энергичные фигурки Аркадия и Аси, бегущих к лесу. – Как я не могла додуматься до этого раньше? Чем же отомстить Аркадию?»
Вошла мать.
– Тебе, доченька, нездоровится? Пошла бы, погуляла на улице. Извелась ты, смотрю я, за своего Аркашу, все о нем думаешь. А о мужчине много думать нельзя, он поймет это, да и на нервах начнет играть.
– Бросьте, мама, не до этого, – сказала Тамара и отошла к окну.
– Ну, ты на мать-то не сердись. Мать никогда плохого не подскажет. Не послушала меня, сошлась с этим Марком, а теперь вот смута-то и идет. Не так, дочка, надо делать. В жизни тому хорошо, кто наперед думает: а верно ли так-то, а не лучше ли этак сделать? У старых людей учиться жить надо.
Тамару раздражал спокойный, монотонный голос матери, а раньше она с охотой выслушивала ее нравоучения, втайне удивляясь, откуда у матери такой запас знаний. Кажется, она и на людях-то не бывала, сидит с утра до вечера за вышиванием. Когда жили в Шахтинске, к ней, правда, приходили втайне от Ивана Павловича, разные сплетницы-кумушки, а здесь и поговорить-то ей, кажется, не с кем.
– Пригласила бы Аркадия своего, – продолжала мать. – Посидели, поговорили бы с ним. Пора уж привыкать ему к нам, если ты думаешь выходить за него замуж.
– Ни за кого я не пойду! – вспыхнула Тамара. Она стала одеваться.
– Куда ты?
– На улицу. Пройдусь, а то голова болит.
Мать пытливо посмотрела на побледневшее лицо дочери, гадая: что случилось? Она вздохнула и покачала головой, когда Тамара молча ушла на улицу. «Не ладится у них, – подумала она, вспомнив Аркадия. – И ему что не жить-то: девушка она завидная, семья у нас заметная, не стыдно и породниться. Вспомнит, когда на нищенке какой-нибудь женится да еще дети пойдут».
Тамара шла по заснеженной улице поселка. Ей хотелось разогнать тяжелые мысли, решить, как быть дальше.
Как и обычно в воскресный день, народу на улице было много, играли гармошки, звенели групповые песни, рассыпался безудержный смех. «Неужели для того, чтобы иметь счастье, мне надо быть другой, как говорил Аркадий? – грустно думала Тамара, слушая воскресное веселье горняков. – Но какой надо быть? Почему этого никто до сих пор так и не сказал? Даже Аркадий. Эх, Аркадий, почему ты просто отвернулся от меня, когда понял, что я не та, которая по душе тебе, почему? Случись это полгода назад, когда мы были мало знакомы, я бы не обиделась, я просто не заметила бы, что тебя нет возле. А теперь... Теперь я одна... Как ты далек сейчас от меня... Связался с какой-то сиделкой из больницы, а я тебя считала хорошим. И все же я люблю его, наверное. Но постараюсь сейчас ненавидеть, пусть поймет, как низко пал в моих глазах. Но что же делать? Уехать? Куда, к кому?»
Тамара вышла за поселок и остановилась. «Ну вот! А дальше куда? Обратно домой? И это в тот момент, когда Аркадий, может быть, счастливо смотрит в глаза этой... Асе? Нет, нет! Только не домой».
Тамара стала смотреть в сторону леса и вдруг оживилась: ей показалось, что там мелькнула фигура лыжника. Да, да! Человек быстро шел к поселку. Женщина. И вдруг Тамара закусила от волненья губу: это Ася! Но почему она одна, где же Аркадий? Вообще-то понятно. Так называемая конспирация, чтобы никто ничего не знал.
Ася проехала стороной, делая вид, что не узнала Тамару, но та уловила несколько быстрых, беспокойных взглядов в свою сторону, и ей захотелось заплакать. Что ж, это конец! Не случайно же эта Ася скользит на лыжах таким торжествующим, торопливым шагом. И разве для одной Тамары заметно, как привлекательна Ася в этом темно-синем лыжном костюме? Это, конечно, первый отметил Аркадий.
Постояв еще немного, Тамара пошла обратно.
– Тамара!
Тачинский появился совсем неожиданно.
– А я был у вас, – весело заговорил он, подходя. – Мне сказали, что ты где-то на улице...
– Ну и что же?
– Едем в Шахтинск? – сказал Тачинский таким тоном, словно они только вчера расстались хорошими друзьями. – Я по дороге тебе такое расскажу, что не будешь раскаиваться. Едем?
Она качнула головой.
– Нет. А впрочем... – она вдруг вспомнила Лилю. – Мне надо к подруге.
Ей захотелось встретиться и рассказать подруге все, все, от души пожаловаться на свою неудачную, скучную жизнь.
– Значит, едем? – спросил Тачинский.
Она, подумав о чем-то, кивнула головой:
– Едем.




