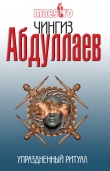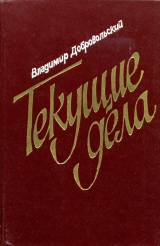
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Возле берега, на песчаной отмели, отчетливо виднелись грубые желтые складки дна, а дальше – где поглубже – вода мрачно темнела, переливаясь всевозможными оттенками, от красно-бурого до фиолетового. Он зажмурился, – солнце слепило глаза, – озеро вдали было чешуйчатое, добела раскаленное, с барашками, похожими на рыбок, беспрестанно выпрыгивающих из воды.
О ней говорили, что активничает в комитете комсомола или активничала прежде, а теперь по профсоюзной линии, еще какой-то, и значит – линия у нее была, не та, так эта, но линия, а он стоял в стороне, никак не мог оправиться после нокаута, и ему не хотелось, чтобы она узнала его таким. Вот подскажи ей сердце заговорить с ним об этом, он рассказал бы, как это было и какой был нокаут, но – только ей, а не комсоргу или еще кому-нибудь, однако она не расспрашивала его ни о чем, а с комсоргом и прочими он разговаривал по-чепелевски, в своем стиле, и лишь теперь, сидя на прибрежном бугре, где однажды сидела она, подумал, что надо бы иначе – и с комсоргом, и с прочими, потому что ее линия не могла не совпасть с его линией.
Когда он подумал об этом, пережитом, страшном, чего и в мыслях избегал касаться и что теперь – ради нее или во имя их единой, общей линии – готов был выложить первому встречному, стало так скверно, как если бы пришлось пережить это страшное заново.
«Ну, ну! – погрозил он себе. – Не распускай сопли!»
Он мог бы сказать помягче, покультурней: «Не раскисай!» – и так и сказал себе, пренебрегая стилем, а раз уж понадобились такие окрики, вскочил немедля на ноги и, как бы наказав себя, двинулся прочь, вдоль озера, подальше от памятных мест.
Вслед за тем опять, как с утра, в электричке, наползло на него бездумье, которое обычно придает легкость шагу, обостряет глаз и слух, а это – сковало его, и, скованный тяжелым бездумьем, он так и прошагал до самой станции, перекусил в станционном буфете, побродил еще по перрону, сел на солнышке.
Июльская компания была дружна, и каждого, отбывшего свой срок, провожали и в ожидании электрички сиживали на перроне – то на той скамейке, то на этой, и он теперь сидел как раз на той, которую облюбовали, провожая его.
По пустякам, однако, и вовсе уже не стоило раскисать.
Подошла электричка, и он посмотрел на часы: по расписанию, до следующей у него было в запасе целых сорок минут, и он решил посидеть еще, погреться на солнышке, подумать.
Прямо против него стал .вагон, совсем пустой, – пришлось бы кстати уединение, и он собрался было прыгнуть на подножку, но замешкался, створки вагонных дверок тихо сдвинулись, и так же тихо электричка тронулась, этот пустой вагон проплыл мимо него, и пробежали, убыстряя бег, все остальные.
Он понял, что ничего не надумает: как жить теперь, и чем, и во имя чего; и просидел полчаса в расслабленном бездумье, в туманной надежде продумать все потом, откладывая это на позже, как откладывают слабаки трудное дело.
Но слабаком он не был, – просто не везло, и электричка почему-то запаздывала, и когда он пошел справляться о ней, ему сказали, что она ходила в этот час по летнему расписанию, а расписание переменилось; и теперь, сказали, жди до вечера.
14
Комиссия нагрянула на участок КЭО в самый неподходящий момент: у Подлепича не хватало людей, смена не справлялась с заданием, задерживала двигатели, образовался затор, а сменный мастер и начальник участка, вместо того чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, как отметила комиссия, и заниматься организацией производства, работали на стендах, спасали положение, но так, конечно, и не спасли.
Не в утешение, однако, и не для поднятия духа сказал Маслыгин Должикову после рабочего собрания, что спокоен за него и за участок, – сказал, ибо не сомневался: Должиков не подведет. Он и комиссии внушал то же самое: за Должикова можно не опасаться, а срыв задания – случайность, не торопитесь с выводами, еще понаблюдайте-ка.
Качеству продукции – рабочую гарантию; Владик Булгак, хотя и сбивчиво, но именно к этому призвал своих товарищей на рабочем собрании, так следовало понимать его выступление, причем участок КЭО был именно тем участком, где качество почти стопроцентно могло быть гарантировано самими рабочими, а не зависело, как на других участках, еще и от чисто технических, технологических и прочих объективных условий. Сталкиваясь с производственными затруднениями, Маслыгин, чтобы не валить лишнего на людей, всегда разграничивал причины объективные и субъективные. С другой стороны, если уж страдало производство по чьей-либо личной вине, поправиться, исправиться, убедился он, было проще, и времени уходило на это меньше, чем при помехах, требующих технического или организационного вмешательства. Потому-то после собрания бить тревогу он не стал, – все зависело на участке от людей, а работать с ними Должиков и Подлепич умели.
Близилось начало учебного года в системе партпросвещения – пора, пожалуй, более хлопотная, нежели сам по себе учебный процесс: планирование, утверждение планов, подбор пропагандистов – наладка, и чем надежней, тщательней наладишь, тем это глаже пойдет, без перебоев.
Маслыгин сразу не сказал Подлепичу о премии – некстати было после собрания; зайду, решил, на участок, скажу, но день выдался до предела загруженный этой наладкой, а в понедельник Светка, постоянно снабжавшая его самыми свежими общезаводскими, завкомовскими новостями, сообщила ему, что список кандидатов, которых будут выдвигать на премию, все еще не составлен – не сформирован, так она выразилась, дебатируется, и трудность, в том, что кандидатур набралось слишком много для такого рода списка.
Он взялся сам, припоминая, кто тогда работал, прикидывать свои и Подлепича шансы, но бросил: помешали, отвлекли, и занят был наладкой, и в этой занятости потерялся интерес к заоблачным прогнозам.
Его натуре, видимо, свойственно было такое остывание: свой жар он тотчас же переносил на то, что не терпело отлагательства; внесут ли в список, или будут они с Подлепичем обойдены – это не столь уж ощутимо волновало его, и лишь ничтожное душевное усилие потребовалось для того, чтобы и вовсе перестало волновать.
Так лучше, решил он, и к лучшему, что прежде времени не обнадежил Подлепича, – у Светки информация всегда была из самых достоверных источников. Она пообещала известить, как только прояснится с этим списком. «Да ты не утруждайся, – остудил он ее. – От нетерпения не сгораю».
По существу ж, ей утруждаться и не приходилось: она была в завкоме доверенным лицом, пока еще не избранным, не утвержденным профсоюзной массой, но деятельным, вездесущим и полезным для завкома; как заприметили ее? – ну, это уж чутье общественников; она лишь только появилась на заводе, сейчас же привлекли ее к общественным делам – и не напрасно: у нее и вкус был к этому, и опыт, и призвание. Сколько он помнил Светку, по институту еще, она и там, в вечернем, где, разумеется, внеурочными поручениями не загружали, умудрялась затевать факультетские диспуты, комсомольские воскресники, вечера самодеятельности.
Училась Светка старательно и в общем-то успешно, не хуже других, по крайней мере, а учиться и работать было трудно всем без исключения, даже самым одаренным. Потом, на заводе, в техбюро, эта ее старательность помогла ей восполнить явные пробелы в инженерной практике, – она, как заметил Маслыгин, умела вовремя и без потерь для себя, без перегрузок, восполнять свои пробелы; умение завидное! Переливая из одного сосуда в другой, один опустошаешь, это неизбежно, а у нее – не убывало, только прибывало. При столь эффектной внешности она производила впечатление девицы, у которой на уме не то – не эти диспуты-воскресники, но он, Маслыгин, мог бы засвидетельствовать: именно то! – она была сродни ему, коллективистка.
Он разговаривал с ней в понедельник, а в среду мимоходом забежал на участок КЭО – не затем, разумеется, чтобы обольщать Подлепича заоблачными прогнозами, да и не думал об этом – забылось, а увидел его – вспомнилось, и хотел уж рассказать все как есть, понапрасну не обнадеживая, но у них разговор сразу влился в другое русло.
Подлепич был недоволен Должиковым, щетинился, сказал, что с Булгаком такое впервой, в прогульщиках не числится и надо бы не подводить под хлопца мину, а чтобы задним числом подал заявление об отгуле, но Должиков на это не идет, боится комиссии.
В душе Маслыгин был согласен с Подлепичем, но промолчал – потатчиком в этих хитростях стать было б не к лицу. Он только спросил, что Булгак говорит, чем прогул объясняет. Сидели в конторке у Должикова, а Должиков был на утреннем цеховом рапорте.
– Никак не объясняет, – ответил Подлепич с тем холодным безразличием, которое обычно указывало на скрытый прилив раздражения. – Молчит. У него так: либо шибко разговорчивый, либо сло́ва не вытянешь.
– Кому ж еще вытягивать из него, как не тебе?
– А это, знаешь, не мед – такая работа, – ожесточился Подлепич, чего и следовало ожидать. – Мне, правда, деньги за это платят, но я, кажется, брошу выкладываться, ничего это не дает.
– Давало же!
– При попутном ветре, – сказал Подлепич и встал решительно, словно бы намереваясь на том и закончить. – Гребешь под парусом, – продолжил все же, – и мнишь себя великим гребцом. Убери парус, Витя, и убедишься: не весла дают лодке ход. Греби не греби…
– Бывает и так, – сказал Маслыгин, но согласился скорее из уважения к Подлепичу. – Грести, однако, верней будет. Где б ты, в смене своей хотя бы, таких людей имел, если б не греб!
Улыбочка появилась на лице Подлепича – скептическая, и даже такая смягчила немного жесткость его лица.
– Люди, Витя, от мамы родятся, а не от сменного мастера. Зачем далеко ходить: был у меня с весны пацан, после интерната, я его для начала поставил на разборку брака и месяца три глаз не спускал; в бытовке, в раздевалке, просил, чтобы шкафчик – с моим рядом: легче смотреть, когда уходит и приходит; рассчитывал пообтесать его, а он вывозит брак и там не соблаговолит даже поздороваться со старшими. Те меня колют: ты ему нянька, говорят, а он… Здороваться приучил, а удержать не удержал. Булгак – тот пловец, а этот был певец. Забрал у меня времени массу, подался в какой-то ансамбль и спасибо не сказал. Так и с Булгаком – впустую.
– Ну, Булгак – умелец.
– Булгак – слесарь, – подтвердил Подлепич, присел было, снова встал. – Но тоже спасибо не скажет. Это у них в моде. Меня что заело: я ему не Должиков, не начальник цеха, я ему отец. А он молчит. А мы еще с Должиковым переволновались за него: пропал ведь! До позднего вечера не было. И вот что обидно, – двинулся к дверям Подлепич, взялся за дверную ручку. – Намерен гулять и прогуливать, так хотя бы не лезь на трибуну, не клейми других позором.
На это Маслыгин ничего не сказал: что верно, то верно; однако упрек Подлепича был слишком очевиден, а схватить, что лежит на поверхности, не велика мудрость. Такие упреки еще посыплются – только отбивайся, а тут иное хотелось бы услышать, именно отцовское.
Ни этого он не сказал, ни того, что собирался, – не успел, пожалуй, хотя мог бы выйти из конторки вместе с Подлепичем и сказать по дороге. Подлепич торопился на участок, вышел, а он остался.
Ему не понравилось настроение Подлепича: Подлепич был разочарован в своей работе – или, во всяком случае, в том, что составляло существенную часть этой работы, а он был разочарован в Подлепиче – или, во всяком случае, в том, что составляло существенную часть Подлепича.
Ему еще не понравилось, как бесцеремонно назвался тот отцом Булгака, будто возвел себя самочинно в какой-то высокий ранг, хотя достойней было бы повременить, не бросаться словами, а дождаться, когда в этот ранг возведут.
И еще не понравилось, как Подлепич ушел, оборвав разговор, словно бы это была досужая болтовня и ему, Маслыгину, от нечего делать вздумалось забрести на участок.
Он вытащил карманную памятку, где все каждодневное было расписано по часам: семинар в райкоме; беседа с пропагандистами, совещание у Старшого, – четырнадцать пунктов! Ему доставляло удовольствие к исходу дня вычеркивать в памятке пункт за пунктом, а день только начинался, и нечего было вычеркивать – разве что приписать кое-что. Он подумал о Подлепиче: сдает Юрий, явно, и если уж так, то с кем с кем, а c ним никак не сладить. Это поистине: греби не греби… Если уж Подлепич стал набиваться кому-то в близкие родственники и говорить об этом вслух – дело дрянь, никакая памятка не поможет.
Он посидел и встал, пошел как бы вслед за Подлепичем, на участок.
В ту пятницу злосчастную, когда нагрянула комиссия, еще и тельфериста приболевшего заменить было некем – Подлепичу не разорваться ж, да и дефектов, как говорили на участке, привалило, а нынче день, по-видимому, не предвещал затруднений: и тельферист – на посту, и без аврала работали слесаря. Подлепич, с баночкой из-под консервов, прохаживался между стендами, раздавал слесарям дефицитный оксидированный крепеж – болты, шпильки, гайки. В это спокойное утро – сюда бы комиссию, а заодно полюбовалась бы баночкой и как Подлепич дрожит над каждым болтиком.
Пожалуй, недоговорили; пожалуй, он, Маслыгин, главным образом, недоговорил – и поспешил было за Подлепичем, но там, в проходе между стендами, появилась Зина Близнюкова, и повернул назад, подошел к Булгаку.
Издали впору бы заглядеться на расчетливость движений, размеренность; Булгак, порицали, в работе медлителен, а Маслыгин похвалил бы: внимателен, придирчив – редкое качество для молодого. Но стоило подойти, и сноровистость сменилась ухарством, не хватало только пожонглировать, как ударнику джаза в музыкальных паузах, и вместо барабанных палочек – гаечные ключи. Было уже близко к этому, и, видимо, почувствовав, что переигрывает, перестаравшийся жонглер превратился в скучающего ленивца, словно – и не работа, а никчемное времяпрепровождение.
Маслыгин спросил, как дела, – выразительный вопрос! – и получил ответ, не менее выразительный: дела-де идут у прокурора. Припомнилось, что Чепель так говаривал. Но Чепель при этом бодрился, а Булгак был мрачен. В чем дело?
– У меня там крепежа полно, – кивнул Булгак на тумбочку. – Да только крепеж-то черный, а за оцинкованным приходится в очереди стоять.
С год назад приказом по заводу запрещено было пользоваться крепежными деталями, не защищенными от коррозии.
– Наш автоматный не справляется, – сказал Маслыгин, – а поставщика отключили.
– Нарочно не придумаешь! – скорчил Булгак гримасу. – А мы помалкиваем.
– А мы помалкиваем, – повторил Маслыгин. – И даже молчим. Дела идут у прокурора – глупая присказка. Дела у всех идут, но как, а если никак, то почему.
Булгак сонно глянул на него, понял; когда задет был чем-нибудь, сонными становились глаза; и потянулся к гайковерту, включил, взвизгнуло; четыре точки, четыре гайки, четыре коротких взвизга; сонливость как рукой сняло; и тотчас проверил затяжку ручным ключом, динамометрическим. Четыре секунды и столько же – на проверку; ну, может, больше.
– Почему? – переспросил, будто дернули его и он, проснувшись, обозлился. – Это, Виктор Матвеевич, факта не меняет. Я тоже спрошу: почему? Почему других не спрашивают? Есть факт, есть прогул. Отвечай. Рублем или чем еще, но не оправданиями.
– И у других спрашивают, – сказал Маслыгин, – а с тебя спрос особый.
Невольно схватил он то самое, что лежало на поверхности, и, ухватившись за это, словно бы оправдал Подлепича: от очевидного никуда не уйдешь, и нечего мудрить. А Булгак, показалось, только того и ждал; злорадство было тут ни к чему, но как бы позлорадствовал: говорилось же, дескать, на собрании, что догонят и добавят.
– А это, Владик, спекуляция! – поморщился Маслыгин. – Ты еще скажи: кто-то мстит тебе за критику!
Склонившись над муфтой сцепления, Булгак снял крышку смотрового окошка, посветил себе переноской.
– Сами же говорите: спрос особый. А это и есть разновидность мести.
– Ну, логика! Но если найдутся мстители, защитим, – пообещал Маслыгин и опять поморщился: чересчур самоуверенно было сказано; защищать-то от кого? Не от Подлепича же, а от злословия не защитишь, да и не ему, Маслыгину, заниматься этим, и вдобавок речь-то не о том. Так он и сказал вдобавок: – Не о том, Владик, речь.
Склонившись над смотровым окошком, не поднимая лохматой головы, Булгак буркнул:
– А о том не будем. То никого не касается.
Летом, в заводском пансионате, паренек тоже не вызывал симпатии; осадить бы его, да ведь пробовали: чем круче с ним, тем дурь из него пуще прет.
– Совершенно секретно, стало быть? – усмехнулся Маслыгин. – Внезапное исчезновение. Никого не касается. Нет чтобы предупредить. Взять отгул. Я даже версии не подберу. Уж не влюбился ли?
Пришло это в голову сию минуту – и не всерьез, пожалуй, и он не думал, что Булгак примет это всерьез.
– Кто? Я?!
Такое негодование было написано на лице, будто обвинили в самом дурном и постыдном.
– А что, интересно, побудило тебя выступить на собрании? Моя записка?
Взял Булгак плоскогубцы, расшплинтовал гайку, взял щуп, – все у него было под рукой.
– Что побудило? Ребята подначили. Стрельни, говорят, по своим, а рикошетом выйдет – по начальству.
Когда отдыхали в пансионате, Маслыгин, терпя его браваду, не видел в нем иного, кроме мальчишества, шелухи. Теперь интуиция подсказала: нет у паренька ничего за душой; слесарь хороший, да, но вот и все его таланты. Мало? Мало: неустойчив, ненадежен, не определился еще никак. Если уж Подлепич жалуется: греби не греби.
– Вру, – кивнул Владик и провернул вал муфты. – Это из опыта: соврешь – хлопот меньше и спрос не особый, а как с любого. Тринадцатая зарплата накрылась, с чем и можете, Виктор Матвеевич, меня поздравить.
Он, Маслыгин, подумал сразу обо всем: о Подлепиче, повозившемся с Булгаком изрядно, и о себе, не умеющем так, и о том, что, сумей даже, никакого времени не хватит возиться с каждым – у него целый цех в голове, парторганизация, десятки обязанностей, и подошел-то к Булгаку только ради летнего знакомства, и если бы спросили, чем руководствовался Булгак на собрании, какими побуждениями, он, Маслыгин, затруднился бы ответить или сказал бы, что всяко бывает: и благородство, и принцип, и зрелая мысль, и мальчишество, и спекуляция на коренных проблемах, и бывает, что вцепишься в частность, упрешься в нее, за ней теряется главное, – это опять о себе.
– Ну, будь здоров, – сказал он сухо. – А насядут мстители, ко мне не приходи.
– Берете слова свои обратно? – ухмыльнулся Булгак.
– Беру, – сказал Маслыгин.
Он был рассеян, когда подошла к нему Светка, оповестила его, что в выходной день всей бандой собираются по грибы, а сбор, как всегда, у него – автобус рядом, и чтобы – никаких приготовлений, никаких приемов: Нины нет, соломенный вдовец, еду припасут заранее – и прямо в лес. «Не возражаешь?» – заглянула она ему в глаза.
Маслыгин был рассеян и не возражал, а через несколько минут, когда, как говорится, окунулся в свои насущные дела, рассеянность испарилась, частности улетучились, и до конца дня он уже не вспоминал ни о Подлепиче, ни о Булгаке, ни о комиссии, нагрянувшей к Должикову, ни о Должикове, за которого, как бы там ни усердствовала комиссия, можно было быть спокойным.
В выходной – только собрались – полил дождь, но энтузиастка грибного похода заверила присутствующих, что дождь не обложной – пройдет, велела развлекаться кто как может, быть наготове в ожидании ее команды, – благо, дом просторный: шесть комнат, отцовский маслыгинский домик, когда-то стоявший на рабочей окраине, с огородом и садиком, с колодцем и печным отоплением, а теперь провели газ, и отопление Маслыгин протянул от теплоцентрали, и вода была в доме, и ванная, и зимняя, обложенная кафелем, кухня, и обступили дом со всех сторон пятнадцатиэтажные громадины. Квартал подлежал сносу по генплану, и обитатели маслыгинского домика заранее горевали: жаль было с ним расставаться. Маслыгину тоже было жаль: привык, много трудов в него вложил, тут справляли свадьбу с Ниной, и в общем полжизни прожито было тут.
Светка зачем-то вызвала его на веранду.
– У тебя что с главным, какие отношения? – спросила она вскользь; не затем, следовательно, вызывала.
Он пожал плечами: да какие отношения! Главный – там, наверху, а Маслыгин – в цехе.
Стояли со Светкой, смотрели, как хлещет дождь по стеклам. Стекла были мутно-зеленые и словно бы плавились; все еще нв желтела в саду листва.
– Вишневый сад, – сказал Маслыгин. – По Чехову. Станут рубить – слеза прошибет.
– О, как я тебя понимаю! – воскликнула Светка и даже руки возвела. – У предков тоже особнячок и тоже утопает в зелени: вишня, крыжовник, яблони, дым отечества, а я все бросила, как оторвала от сердца!
Был такой романтический, что ли, штрих в ее биографии: действительно бросила родительский кров, семейный достаток, домашний уют, музыкальную школу, где прочили ей незаурядное будущее, и девчонкой еще, после десятого класса, укатила в город, пошла ученицей на завод, и родители, учительствовавшие в райцентре, несмотря на свою педагогическую просвещенность, не смогли с ней сладить.
Этот романтический порыв, эту жажду самостоятельности Маслыгин, повстречавшись с ней в институте, оценил даже раньше, чем ее яркую внешность: тогда была уже Нина, а Нину затмить никто на свете не мог.
Властительница институтских сердец Табарчук, со своей стороны, предпочла многочисленным ухажерам потянувшегося к ней простодушно и дружески бескорыстного, ни на что не претендующего Маслыгина, и это тоже было в ее натуре: отвернуться от девичьих соблазнов, от пылких поклонников ради обыкновенного, без каких-либо лирических примесей, приятельства.
Впрочем, примесь все-таки была или незаметно образовалась со временем, – такого приятельства, убедился он, без этой примеси не бывает.
Когда, глядя в сад через заплывшее зеленой мутью стекло, позволил он себе чуть-чуть посентиментальничать, Светка сейчас же сочувственно отозвалась на это, – была у нее ценимая им также способность вживаться в чужую радость или печаль, и даже не близкие ей люди – что называется, посторонние – отдавали должное этой ее отзывчивости.
Он спросил, почему нет Должикова; после лета собирались уже не раз, но ни разу заочно зачисленный в их содружество Должиков так и не появился.
– Стесняется, – ответила она с легким сожалением, требующим сочувствия.
Он-то, однако, посочувствовать ей не мог, потому что не понимал, кого или чего стесняться Должикову: все заводские, из одного цеха, видятся ежедневно, а если и смущала кое-кого на первых порах разница в возрасте новобрачных, то вскоре с этим свыклись, да и Должиков глядел таким молодцом, что нельзя было не свыкнуться.
На первых порах смутило и Маслыгина это супружество, и более того – он словно бы оскорбился за Светку, но и за себя; недоставало еще за себя оскорбляться: Светку отнимали у него и отняли! Он быстро погасил в себе недостойную вспышку – непредвиденную, как самовозгорание. По-видимому, это было чужеродное чувство: как будто бы дочь выдавал замуж или сестру и знал, что избранник ее – достойная личность, и все же противился этому браку. Но то уж прошло без следа.
– Ты что-то хотела мне сказать? – спросил он.
– Да-а! – протянула она, не столько подтверждая свое намерение, сколько принуждая себя вернуться к чему-то, что имела в виду и вдруг потеряла из виду. – Между прочим, хочу тебя предупредить, – бросила она, как бы попутно. – На заводе покаркивает воронье. Маслыгин – партийный работник, на него устремлены сотни глаз, а живет хуторянином, домовладельцем, копается в своем огороде. Вишневый сад – это красиво, поэтично, это родительские корни, я понимаю, но нужно рубить, Витя.
Он рассмеялся. На заводе счастливы, что не претендует на квартиру. А срубят и без него. Он стал было растолковывать Светке неотвратимость предначертаний генплана, но она не дала ему договорить!
– Пока это будет, Витя, ты рискуешь оказаться пощипанным. Этим птичкам свойственно не только каркать, не и накаркивать.
Такую чушь она городила, что лишь добрые побуждения могли хоть как-то извинить ее.
– Перестань, – оборвал он, – иначе я в тебе разочаруюсь.
На него надвинулась полоса разочарований. Он произнес эту фразу с известной долей иронии, – только потом подумал о Подлепиче, о Булгаке.
Светка поводила пальцем по зеленому оконному стеклу.
– Понимаешь, Витя, – сказала она возмущенно, – тебе кто-то ставит подножку! Обожаю приносить хорошие вести, но увы… Из нашего цеха в список попал один Подлепич.
– В какой список?
– Ты от мира сего?
– А! – сконфузился он: она его пристыдила. – Подлепич? Это хорошо.
Это в самом деле было хорошо, но если бы двое попали, было бы лучше. Он почувствовал холодную пустоту в груди; пустота эта ширилась, холодела, а минутой раньше было что-то теплое там, устойчивое – и вот исчезло; пустота!
– Я против Подлепича ничего не имею, – протерла Светка стекло ладонью. – Но по отношению к тебе это свинство. – Стекло заплывало снаружи, а она протирала изнутри. – Но я противница бесполезных эмоций. Потому и порчу тебе выходной день. Порчу, порчу! – взмахом руки попросила она помолчать его. – Время идет, будь в полной боевой готовности, я на эти вещи смотрю практически.
– Побережем доспехи, – сказал Маслыгин. – Пригодятся для более практических целей.
А подумал он, что правильно говорят: «упало сердце». Так хотелось порадовать Нину, но, увы… Но увы, нехорошую весть принесла Светка. Была бы весть хорошая, не упало б сердце.
– Я не тщеславен, – сказал он. К сожалению, это было не так. – Пойду звякну Подлепичу.
Шагнув за порог веранды, спускаясь с лестнички, он подумал, что значительно охотнее порадовал бы Нину, а раз уж радовать ее было нечем, ему оставалось порадовать Подлепича. Он пошел через сад на улицу – к телефону-автомату. Дождя уже не было, но потяжелевшие стеклянные ветви желтой акации обсыпали его холодным стеклянным дождем.
Он порылся в карманах, выудил монетку, набрал номер, – сперва никто не откликался, а потом откликнулись: женский голос. Дуся?
– Юрий Николаевич в общежитии, – ответили ему. – А кто говорит?
Назвавшись, он лишь тогда сообразил, чей это голос: Дуси, конечно, быть не могло, а это была Зина Близнюкова; он сначала не узнал ее по голосу, но потом узнал и поспешно повесил трубку.