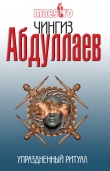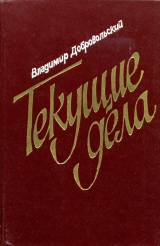
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
29
Подлепич звал к себе: зайди, мол, Константин, посидим, покалякаем. Об чем калякать-то? Об том, как влияет моральный облик на производительность труда? Эх, мама родная, дал бы большие деньги за такую пластиночку, такое устройство электронное: сунул под пиджак и сиди себе хоть на собрании, хоть на занятиях, хоть где. Всё отскакивает. Всякие умные речи, призывы, приказы, всякая мораль. Вот это была бы нормальная жизнь.
Но надо сказать, что давненько уж не звали его никуда, ни в какой приличный дом, а Подлепич позвал. Почему б не сходить? Деваться-то некуда.
В субботу был футбол по телевизору, – хоть что-то для души. Ни хрена подобного! Мяч, говорят, круглый и потому в ворота не идет. А прежде какой был – квадратный? И вот подумалось, что жизнь – как этот футбол теперешний, ни хрена не дающий ни уму, ни сердцу. Терпишь ее, жизнь, ради какого-нибудь паршивенького гола, а бывает, что и ничья, по нулям, нечего было ждать, тянуть волынку.
В прошлый раз, когда выдали на заводе аванс и ни рубля от аванса не осталось, он вдруг разозлился: дурака кусок! В добрые старые времена у них, у артельной братвы, промотать побольше да поглупее считалось доблестью и шиком. Наутро хвастались друг перед другом, хохотали до упаду. В тот раз ни перед кем он хвастаться не стал: досада разбирала. Впервые пожалел он профуканных денег, но сразу не сообразил, что это знак ему оттуда: старость на подходе. Скотина! – по какой дорожке ни пойдешь, а к ней ведет дорожка. Вот и пошел к Подлепичу.
Подлепич был не один – с Булгаком: творили, созидали, задумали мир удивить, поднять на высочайший уровень распрессовку шестерен. Без вас, братцы, спросил Чепель, некому? Выходит, что некому, сказал Подлепич, если до сей поры пользуемся кустарщиной. А инженера́? Больные подбросить идею? Ты лучше садись-ка, сказал Подлепич, подключайся, поработаем.
Ну, сел, деваться ж некуда, шло цирковое представление – показ новейших, достижений дрессировки, либо таким путем Булгак замаливал грехи. Что здесь, что там, среди артельной братвы: какой-то перебор, – а это надоело. И самому надоело жить под градусом, и на других противно было смотреть, как надрываются, чтобы кому-то что-то доказать. Здесь, понимаете ли, трудовая спайка, недоставало только кинокамеры, и там был, монолитный коллектив, артельная братва, встречались с объятиями, с поцелуями, особенно – когда сводил счастливый случай и кто-то без копейки, а у кого-то для затравки что-то есть. Встречались, как братья, как будто кто-то числился без вести пропавшим и вдруг объявился. Как будто похоронили уже и воскрес.
– Тьфу!
– Чего плюешься? – это Подлепич спросил.
– Да как же не плеваться, ежели зовут в приличный дом, а стол не накрыт, да еще работать запрягают.
– Был бы человеком, – сказал Подлепич, – было бы угощение.
– Ох, Николаич, – сказал Чепель, – не веришь ты в перековку, а я же теперь езжу исключительно на зеленый.
Булгак молчал, работал, создавал передовую технику. Красивое было представление. Каждый рисовал на своей бумажке: Подлепич – с улыбочкой, то ли рассеянной, к делу не относящейся, то ли с самодовольной, а Булгак – мрачно, будто камень тесал, и камень тот не поддавался ему. Ладно, рисуйте.
– Ежели в перековку не веришь, – сказал Чепель, – разреши, Николаич, хоть сигаретку выкурить.
– Да ради бога, – разрешил Подлепич, – мы с Владиком прочно некурящие, нас не соблазнишь, а я лично дыма не боюсь.
– Вы лучше выйдите, дядя Костя, – сказал Булгак, – там и покурите.
– Кури, кури, – сказал Подлепич, – гостю привилегия.
– Учти, Костя, – сказал Чепель, – коньяк для гостя.
Подлепич бросил рисовать, хлопнул себя по лбу, – опять представление? – вспомнил, видите ли, что в буфете бутылка: сын, мол, приезжал, отмечали встречу, и вот – осталось. Расскажите вы ей, цветы мои! – про бутылку в буфете никак уж не забудешь! Это он, Подлепич, взвешивал: выставить, рискнуть? Оказалось, коньячок таки, но не наш, а венгерский, видно было по таре: ноль семь.
– Напрасно вы, Юрий Николаевич, – сказал Булгак. – Я не буду, вы не будете, а дядя Костя наберется.
Чем наберется, чем? Ноль семь, и больше половины выпито: ноль три – от силы.
– Между прочим, – сказал Чепель, – к сведению некурящих, имеющих дело с милицией: набираюсь где-то в районе килограмма, а эта емкость для меня безопасна; честно говорю, Николаич, тут – без риска.
– Поглядим, – сказал Подлепич, засомневался, но бутылку не запрятал, пошел опять рисовать.
До чего дошло: зазвали в приличный дом, и как будто сам себе милее стал, духом, что ли, поокреп. Общество спокон веку делилось на своих, артельных, и вот этих, попутных, не чужих и не своих, с которыми рядом протекала жизнь – равнинная, в пологих берегах, река. Он плыл по этой реке, посередке, и как бы примеривался, к какому берегу причалить. Тот берег, артельный, был уже обследован, обжит, однако же причаливать туда он не имел желания. Тот берег был сыпуч, ненадежен, и так же ненадежна была артельная спайка – нуждалась в подпорках. Ему это осточертело. На том берегу был артельный закон: либо ставишь подпорку и всегда, в любое время дня и ночи, готов ее поставить, либо катись на другой берег, где тоже свои законы, но все же помягче. Ему осточертело ставить день и ночь подпорки, а без подпорок артельная спайка мгновенно рушилась, и берег тот, артельный, осыпался прямо в реку. Куда причаливать? Плыть посередке?
– Ну-ка, глянь, Константин, – передал ему чертежик Подлепич. – Свежим глазом. Винтовая нарезка, – показал на чертежике. – Стопор. И зажимы. Должно держать мертво.
Это, конечно, игра была такая, и ничего не стоило вступить в нее – не на интерес же играли, но игра была честная, махлевать не хотелось.
– В расчетах я темный, – признался. – Ты изготовь, Николаич, а я опробую. Тогда и скажу.
Булгак, молчавший до сих пор, тесавший свой неподатливый камень, выступил с критикой: багаж, мол, надо подновлять, а кто расписывается в отсталости, тому должно быть стыдно, имея такие природные данные.
– Стыдливый, – сказал Чепель, – голодным из-за стола встает.
Куда причаливать? К какому берегу? Посередке плыть – тоже не мед; посередке – в одиночку плывут, а это – на любителя. Он вроде бы причалил, сделал пробу – сидел, покуривал, и, как ни странно, было ему хорошо. Неплохо было на этом берегу: потверже берег, чем тот. А кто отсталый, кто передовой – не Булгаку решать. Такие вещи жизнь решает – клеит каждому на спину номер. Не согласен с нумерацией? Переклеят. На том свете.
Когда были убраны со стола чертежики-рисунки и поставлена Подлепичем на стол бутылка, слово для доклада по этому вопросу взял он, Чепель. Жизнь, отметил он, полна философии, но философия, если вдуматься, очень простая. Есть твое и есть не твое. Не чужое, но и не твое, – в этом разница. Чужого не трожь – закон, а не твое, хоть и тронешь, тебе не подойдет: не твой размер. Такая философия, самая простая. Отсюда вытекает: бейся головой об стенку, а никому не завидуй. У кого какой багаж и чего в том багаже напихано – это его касается, и никого другого. Захочешь обновить – обновляй, но там опять же наклейка – не твое. Скажут: плати! Нет, это не твое; значит, и платить нечем. Заходишь в столовку, покушал – плати. Но плати за свое: простая философия. И не уклоняйся. К тому же уклониться невозможно, если даже будешь полон желания. Хочешь не хочешь, а счет предъявляется жизнью. Жизнь, она так внушает поначалу: не будь жмотом, не мелочись. Заказывай, что душе угодно, а не хватит расплатиться, потом занесешь. Нет, потом не занесешь. Жизнь – в обычном понимании – имеет привычку завлекать, открывает кредит. Говорилось издавна: кредит портит отношения. Это правильно. Сперва отношения с жизнью хорошие, потом – портятся, и особенно – напоследок, когда счет громадный, платить надо, а нечем. В этом смысле лучше иметь дело с отдельными лицами либо даже с государством. Отдельное лицо может и простить, отсрочить, государство может забыть, что ты в долгу, как в дерьме, по уши, может не обратить на тебя внимания, у государства таких должников не ты один. А жизнь ведет счет до копейки: плати! И за шкирку берет. Я тебе в кредит давала? Давала. Значит, плати. Я тебя не ограничивала? Есть что вспомнить? Плати! Потому что бывают и такие, которым мало что конец приходит, так еще и вспомнить нечего. Ни в кредит не брали, ни так – за наличные. Всё, что было, – в скрыню! А подошло итоги подбивать – никому не должен, но и вспомнить нечего. И денежки, которые в скрыне, обесценились; буханку хлеба и ту за них не купишь. Чем же теперь платить, если напоследок чего-нибудь приспичит? Жизнью? Дерьмовую жизнь в залог не берут, раньше надо было закладывать, когда кровь в жилах бурлила.
Булгак, некурящий, непьющий, спросил:
– А уже, значит, не бурлит?
Ну что ему сказать?
– На личности не перехожу, – сказал Чепель, – и ты не переходи. Еще вопросы будут?
– Вопросов нет, – ответил Подлепич, – переходим к прениям. Полжизни прожил, даже больше, а интересно знать, все ль в жизни понял? Для этого полжизни мало.
– Золотые слова, – сказал Чепель. – Мало и целой, нужно две прожить как минимум.
Булгак обозвал его агностиком.
– Я понял, что вы, дядя Костя, за минимум как раз и держитесь, – сказал Булгак, – возводите это в принцип, и вся ваша философия, копейки не стоит.
– Копейку не трожь, – возразил Чепель, – не умаляй значения. Ты, вижу, на сотни целишься, если выразиться образно, на тысячи, копейку, если под ногами лежит, не подымешь, побрезгуешь, а она-то и есть основа, прожиточный минимум, по ней себя меряй, в миллионеры не рвись.
Булгак, некурящий, непьющий, замаливающий грехи, повертелся на стуле, тряхнул головой, а руками, растопырив пальцы, отгородился от курящего, пьющего Чепеля, который грехи свои не замаливал – просто причалил к новому берегу.
– Вот в этом-то именно мы и расходимся, дядя Костя, – пошевелил пальцами Булгак, будто подыскивая слова. – Вы удовлетворяетесь прожиточным минимумом, а я не удовлетворяюсь.
– Ох, задолжаешь! – посочувствовал ему Чепель, но запугивать не собирался, боже упаси. Он себя пугал: на этом берегу послушаешь таких, как Булгак, и сам в долги залезешь.
– Что-то вы сегодня не те песенки поете, – насмешливо глянул на него Булгак. – Или я мотив не уловлю.
А Подлепич одобрил:
– Мотив как раз подходящий. Все мы в долгу у кого-то, у чего-то. Про долги – это разговор!
– Может, и разговор, – сказал Чепель, – но ты, Николаич, не того ждешь.
Не того ждал Подлепич, не для того подносил чарку. Запомнил, наверно, как говорилось ему, что без этого не будет разговора. Они – Подлепич и Булгак – считали, наверно, Чепеля медным лбом, но это было не так. Он всё понимал и мог бы высказаться и за Подлепича, и за Булгака, выдать не свое за свое, однако не хотел. Конечно, песенки сегодня были не те – сменился мотив, а сменился с того утра, когда жаль стало промотанных денег. Это был поворотный момент. Никогда ни о чем не жалел, недостачи любые списывал, по рублям уплывающим слез не лил, а в тот раз, последний, что-то в нем сломалось, отказали тормоза. Но кто держался за баранку, тот знает, что пускай уж тормоза откажут на ровном месте, на малой скорости, а не в ту минуту, когда катишься под уклон. Не дай бог. Никогда не жадничал и вот пожалел, что не жадный, не жмот, – надо, значит, жмотом быть и надо, чтобы отказывали тормоза в определенный, поворотный момент. Этого, конечно, Подлепичу он не сказал, это понять мог только он один, а сказал, что не про долги разговор, про долги – попутно. Разговор про чарку.
Докладчиком был он и он же – содокладчиком: язык чесался, нет спасения. Что говорилось – слушал, но слышал хорошо только себя, а их – Подлепича с Булгаком – забивал, не давал им ничего сказать. Что скажут, какой приговор вынесут чарке – это он знал без них и потому сам был и докладчик, и содокладчик, и прокурор, и адвокат. Он эту чарку, образно выражаясь, пригвоздил к позорному столбу, охарактеризовал со всех сторон: с общественной стороны – какое это зло, и со стороны здравоохранения – какой это яд, и со стороны морали – какая это помеха в семье и на производстве. Он чарку изничтожил, а потом спросил, как адвокат у прокурора: что, мол, вместо чарки? Давайте равноценную замену! Работа? Ни хрена подобного! В работе градус постоянный быть не может, а в чарке – постоянный, гарантированный государственным стандартом. Учеба? Это на любителя. Культурный отдых? Полезно для здоровья, но чарки заменить не может. Что еще?
– Это вы к докторам обратитесь, – посоветовал Булгак, – они вам разъяснят.
– Они мне бутылку ситра поставят, – отмахнулся Чепель, – и будут внушать под гипнозом, что это напиток.
– Бросать надо, – сказал Подлепич, – возьми хотя бы меня: какой курец был, а бросил, и не тянет.
– Нет, Николаич, ты меня возьми, – возразил Чепель, – мне чарку поднес, однако тоже ведь не тянет; на кой же черт бросать?
Таким путем сошлись в едином мнении все четверо: докладчик, содокладчик, прокурор и адвокат. И только Подлепич с Булгаком – то ли судьи, то ли народные заседатели – остались, видно, при своем мнении.
Они, видно, боялись за него – по старой памяти: мол, эта чарка, Подлепичем ему поднесенная, потянет за собой еще чего-нибудь, как бывало не раз.
Но он им доказал – частично, правда: нисколько не тянуло, пока сидели, разводили прения, – и доказал бы сполна, не подвернись ему по дороге домой тот самый алкаш, которого недавно ублаготворил дармовым самогоном. Это же надо было – опять на него напороться! Не дай бог.
30
Пришло уведомление из вытрезвителя: попался Чепель. В субботу вечером. Еще спасибо, что в субботу: до понедельника прочухался.
Никогда такого не было: подряд – официальные звоночки. Служебным тоном – секретарша, которая разбирает почту в заводоуправлении: «Булгак – ваш?» – «К сожалению, мой». Теперь еще: «Чепель – ваш?» Не стал повторяться, ответил раскатисто, будто секретарша была повинна в чем-то перед ним: «Ну, наш!»
Сходил туда, в заводоуправление, за этим пакостным письмишком – еще ж ответ писать! – а на обратном пути всю пакость на душе как рукой сняло: шла передача заводского радио, и Лану назвали в числе лучших пропагандистов завода. Одно перекрыло другое. Бывает.
Должиков знал, что есть у нее и такое поручение, но она об этом редко говорила, и только летом утвердили ее, – за три-четыре месяца так зарекомендовать себя не всякий сумеет. Назвали несколько фамилий, а ее – первой, и он, когда про нее услыхал, больше ничего не стал слушать. Могла быть и ему такая честь оказана: он этим тоже занимался и чуть подольше – годков с десяток, но его не назвали. Ему, однако, не нужна была такая честь, ему дороже была Ланина. Назвали бы его, ничуть это чепелевскую пакость не перекрыло бы. Прочих же, возвеличенных заводским радио, вовсе не принял он во внимание, как если бы они были пешки по сравнению с королевой.
Для него так оно и было, так и должно быть: все – пешки, одна – королева. Человеческая близость подчиняется физическим законам, а не каким-то беспредметным, идеальным: каждый предмет занимает в пространстве свое место, и поскольку место занято, другим предметам приходится потесниться. Объемность человеческих чувств требует этого. Нельзя поставить несколько предметов на одно и то же место. Близкий – тот, кто ближе всех прочих, и чем объемнее чувство, тем дальше оттесняет оно пешечную мелкоту.
Думая об этом, Должиков и ликовал, и тревожился. Тревожиться-то с какой стати? Он был издерган, и когда признался в этом Лане, ничего не преувеличил. Это действительно было так, а будь иначе, разве стал бы забивать себе голову тревогами, которые для любого, не издерганного – абсурд! Разве стал бы отыскивать в своих чувствах какое-то место еще и африканцу? Разве стал бы перетряхивать свою прошлую жизнь, как перину, в которой что-то было запрятано ценное и вдруг куда-то запропастилось! Любовь? Не к женщине, нет, – женщин он никогда не любил, это теперь прояснилось. НЗ, чудодейственный пакет, распечатывают раз в жизни. Другого такого пакета уже не будет, хоть и захочешь иметь. Другого он не хотел. Но он хотел бы, перетряхивая свою перину, найти там другую любовь – не к женщине, а вообще. Она там была, в этой перине, в этой прошлой жизни, но где-то затерялась – в складках. А может, ее и не было? Он потому и перетряхивал, что не находил. Когда чего-то ищешь и не находишь, появляется жгучее желание найти. Он ощутил в себе это жгучее желание. Там что-то было, в жизни, – он этого хотел. Ему хватало Ланы, королевы, но были еще и пешки, а при ней он и сам становился пешкой и должен был радеть пешечной мелкоте.
Лет десять назад или даже пятнадцать, когда он работал сборщиком на конвейере, случилась в цехе авария по причине технического недосмотра. Вину, однако, свалили на крановщицу, бабу, надо сказать, вредную, склочную, восстановившую против себя чуть ли не всю смену сборщиков. Он был тогда молод, независим, бурлила в нем жажда справедливости, а утолить ее никак не удавалось. Будто шепнули ему, что настал его час. Рискуя не угодить кому-то, а по сути ничем не рискуя, он вступился за крановщицу, переломил всеобщую неприязнь к ней, переубедил ее недоброжелателей и был вознагражден: за ним утвердилась та самая репутация, которую он считал почетнейшей.
Он и теперь так считал.
Значит, нашлось-таки кое-что в перине, не напрасно перетряхивал? Значит, не напрасно. Дорожил своей репутацией? Дорожил. Пуще огня, как говорится, страшился утерять ее? Пуще огня.
Но с какой стати страшиться-то? Кого-чего? А вот чего: коррозии. Существует коррозия, которая пострашней той – разъедающей металл.
Был на участке слесарь, ветеран – до пенсии два года, однако в последнее время стало ему трудно на стенде, и перевели в наладчики. Престарелых или слабых здоровьем обыкновенно переводили – с их, ясно, согласия. Но это только говорилось так – наладчик! – в просторечии, а практически выполняли они разные вспомогательные работы, слесарные, на косвенной сдельщине. Заработок выходил, конечно, меньше, чем у основных слесарей, но это их старичков, устраивало.
Тот ветеран собирался на пенсию, а косвенная сдельщина не сулила ему пенсионного потолка, и пришел за советом к начальнику участка: как быть? По справедливости, а как же! Тридцать с лишним лет отдал заведу, ветеран труда, ветеран войны, – и не посодействовать? Посодействовали, отыскали способ – более или менее законный, и потом этот ветеран ходил, рассказывал, какой чуткий-отзывчивый Должиков.
Но есть экземпляры, у которых попрошайничество в крови: им раз подашь, а они век будут под дверью торчать с протянутой рукой. На нем, однако, уже налеплена была этикетка: этот любому подаст, кто ни постучись. Недаром говорят, что заслужить знак качества трудно, а удержать – еще труднее. Крепись, Илья. Крепился.
Перед самым праздником – отмечали тогда тридцатилетие Победы – нацепил ветеран ордена и медали, знал, когда явиться и как себя преподнести. Опять, значит, что-то понадобилось? Значит, понадобилось. Коррозия коррозией, но вот такие экземпляры и доводят до нее. Ну ветеран. Ну грудь в крестах. И что? Чуть было не сорвалась с языка приветственная речь: «Кому ты теперь нужен? Какая с тебя польза? Для выставки? Для музея? У нас не музей, а производство, и не парад, а пятилетка. Сейчас в цене те, которые полезны для общества. Я тоже был бы на войне, если бы годами вышел, и тоже увесился бы регалиями: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Это все историческая случайность, что ветераны – вы, а не мы, и что нам совесть велит носить вас на руках, а не вам – нас». Он обнял попрошайку и пообещал все сделать, что просит.
И сделал. Но сделал не с доброй душой, а с ожесточенной. И только тогда это улеглось в нем, когда наконец-то выпроводил ветерана на пенсию. Коррозия.
Но то было в прошлом, а в настоящем – пакостное письмишко и передача по заводскому радио. На счастье, одно перекрыло другое.
В эти дни он работал допоздна: шли мелкосерийные двигатели по спецзаказу, и взял это под свой личный контроль, не полагаясь на сменных мастеров. А Подлепича не было – в третьей смене.
Но как тянуло домой, как тянуло! Ну и слава богу. Ничего, значит, в нем не переменилось, не постарело, не остыло, – будто жених еще, а не супруг.
Прежде чем уйти, он раскрыл журнал передачи смен, записал распоряжения Подлепичу:
«Юрий Николаевич! Мелкосерийные после испытаний аккуратно снять и поставить на подставку, чтобы не побились нагреватели. Для серийных обеспечьте складирование: на сбыте нет приемки».
Складировать было негде, при большом скоплении двигателей приходилось выставлять их под открытое небо, а Подлепич, кстати, слово сдержал и еще на прошлой неделе принес свой проектик. «По моим подсчетам, дорого не обойдется, – положил на стол тетрадку. – Ломать – не строить. А вот эта стенка лишняя, – показал в тетрадке какая. – И здесь тоже можно расчистить. Вот тебе уже шестьдесят квадратных метров. И если оборудовать по стеллажному принципу…»
Подлепич был не попрошайка – не та порода, не та кровь; брать не брал ничего, зато давал все, что мог, – вот кто был мил, достоин уважения. Попрошайки – как плесень, от них и коррозия, а Подлепич, им в противоположность, был, ей-богу, антикоррозийным средством. К Чепелю же хоть самого Старшого приставь, хоть еще кого повыше, все равно результата не будет. И бульдозер бессилен. Что горбатого может исправить – это общеизвестно.
Так-то.
Пакостное письмишко спрятал в ящик стола, постоял, подумал – что еще, – и вспомнил, приписал в журнале обращение к сменным мастерам, чтобы постарались поменьше подвесок оставлять на двигателях, а то их, подвесок этих, в цехе недостача.
Теперь уже можно было идти.
Как он мчался домой, как мчался! Заводское радио звучало в ушах, и, примчавшись, сразу поздравил.
Лана месила тесто на кухне.
– Захотелось сладенького, домашнего, – точно проказница, застигнутая врасплох, повинилась она. – Когда я вытяну тебя к своим предкам, ты с ума сойдешь от моей мамы: это кондитер! Я ей в подметки не гожусь: жалкий эпигон! И поотстала от этого искусства. Никто не похвалит!
Должиков сказал, что зато похвалили по радио.
– Там девочки, – смахнула она со щеки мучную пудру. – Очень милые. Они меня любят.
Ее любили все, и она всех любила. Он подумал, что это великий талант: любить всех. У него такого таланта не было, а как мечталось – иметь! Он любил Старшого; Подлепича – пожалуй; Маслыгина – не шибко; ненавидел попрошаек, вымогателей, лодырей, бракоделов; против Булгака был предубежден и Чепеля терпел только ради Лиды, дальней родственницы по материнской линии. Других родственников у него не было и вообще никого не было, кроме Ланы, и был еще африканец, который теперь представлялся почему-то в облике Подлепича. Ну, пусть так: Подлепич – африканец, Подлепичу худо, Подлепича нужно любить.
Вскользь Должиков упомянул о пакостном письмишке.
– Ай, брось! – месила тесто Лана, с мучной пудрой на щеках. – Мало ли что, мало ли кто… Слушай меня. Ты добиваешься абсолютного порядка. Это утопия. Соблюдай эмоциональную диету. Беспорядок на заводе – везде. Больше или меньше. – Она месила, старалась, усердствовала, но ему велела не усердствовать. – Привыкай к беспорядку. Пора уж. Это жизнь, Люша.
– Слушаюсь! – сказал он раскатисто, словно – по телефону заводской секретарше, только без раздражения. – Пойду привыкать.
И пошел переодеваться.
Лана усердствовала, но ему не велела: несправедливо! Милые девочки, передача по радио, и в техотдел задумала переходить не с пустыми руками, все ее любят. Он тоже хотел, чтобы все его любили. Он опять подумал о справедливости, – это был его маяк. В беспорядке и маяки не светят.
Переодетый, он вернулся на кухню, спросил:
– А ты соблюдаешь диету?
Руки у Ланы, открытые до локтей, были в тесте.
– Разумеется, – вытерла она руки кухонным полотенцем. – По замыслу намечался миндальный торт, но без рецепта – не помню и перестроилась на пирожки с повидлом. Надо, Люша, уметь перестраиваться.
– Мучного ты не кушаешь и мне не разрешаешь, – сказал он обиженно. – Куда ни ткнись, повсюду диета. Для кого пирожки?
– Угощу своих девочек, – усмехнулась она. – Заслужили.
Он подумал, что это разумно: надо уметь перестраиваться, соблюдать диету, угощать милых девочек и не ссориться с людьми. Всех любить, и тебя будут любить все.
Потом, когда тесто подошло и поздним вечером лепили вместе пирожки, он снова вспомнил ветерана и то, как делал что-то для него с озлобленной душой. А так нельзя.
Он сказал об этом Лане, и Лана ему ответила:
– Все, что мы делаем для других, мы делаем для себя.
И это было разумно, да только, пожалуй, с одной стороны, а с другой – не столько разумно, сколько дерзко.
Он бы так не сказал, не решился: это значило бы вознести себя чересчур высоко, но и унизить тоже.
Что за высота и в чем унижение – объяснять не стал ни себе, ни Лане: то ли не смог, то ли не счел нужным. Подумалось так – и лады. Мало ли что думается. Это Ланина была фразочка: «Мало ли что, мало ли кто…»
Назавтра долго, нудно совещались у Старшого: мелкосерийный заказ шел со скрипом. Но это не касалось КЭО. И даже от конвейерщиков не зависело: мелкосерийную машину собирали особняком. Сиди, дремли, Должиков.
Он так не привык. Коль уж сидеть, то с целью что-то высидеть. Коль совещаться, то по делу. Он сидел без дела, – непорядок! «Слушай меня, – внушала Лана. – Привыкай к беспорядку». Абсурд!
У Старшого не курили, выпросили перерыв на перекур.
Маслыгин разглагольствовал в коридоре.
– Удовлетворение жизнью – это не миг блаженства, это процесс! – рассекал он воздух ребром ладони. – Процесс этот управляем. Мы не способны ежедневно совершать открытия или превращать свой повседневный труд в сплошное празднество. Работа, может, и не ладиться, – развел он руками, да так широко, будто раскрывал объятия. – Но мы способны ежедневно, ежечасно организовывать жизнь, и это наш самый главный допинг!
Возможно, еще и тем был нелюб Маслыгин, что временами попахивало от него демагогией.
К месту будет поинтересоваться, спросил Должиков, по какой надобности я-то лично протираю здесь штаны? Ты прав, Илья, сказал Маслыгин, иди, ты здесь не нужен, иди на участок, работай. А что Старшой на это скажет? Старшому вроде бы пристало согласиться с Маслыгиным – хотя бы для приличия, но таких приличий Старшой не соблюдал – не согласился. Маслыгин при Старшом был тоже пешка.
Закончили совещание перед самым обедом, а деньги на обед – в пиджаке. Пиджак – в конторке; спустился в цех за деньгами.
Расположившись за его столом, сидел в конторке Подлепич, писал что-то.
– Сиди, сиди, – сказал Должиков, – я только халат сниму, пиджак надену, сбегаю покушаю; а ты это что, после ночной не отоспавшись?
– Та молодость прошла, когда по суткам дрыхли, – ответил Подлепич, – а тут как раз примыслилась добавка к предложениям относительно складских площадок.
– Ну, сделаешь, так выдвинь ящик, – сказал Должиков, – там твоя тетрадка, туда вложи.
А в тумбочке были щетки: одежная, сапожная; он вытащил одежную: пиджак был малость в мелу.
– Вот делаем, делаем, – сдвинул брови Подлепич. – Выходит, не выходит, а делаем, – обвел он шариковой ручкой то, что написано, примыслено, вставил в рамочку. – Ты глянешь на свободе. – Ручка была обыкновенная, простецкая, а заграничную, привезенную когда-то оттуда, себе-то не оставил, Маслыгину преподнес. – Наверно, мало делаем, – сказал в невеселом раздумье. – Или плохо.
Не так уж мало. И не так уж плохо. Кому предназначаем? Для кого? Явился сам собой вчерашний вопрос, заданный Лане. «Все, что мы делаем для других, – сказала она, – мы делаем для себя». «Именно, – подтвердил Подлепич, кивнул в подтверждение. – Для себя. – И еще кивнул. Еще раз подтвердил. – По-моему, с этого и начинается всякая настоящая работа: для себя. А уж отдача – для других!»
Он, стало быть, тоже – как и Лана? – рассматривал эту проблему односторонне, а может, напротив, не так, как Лана? Прямее? Честнее? И может, в этой прямоте он, Должиков, не расходился с Подлепичем, а расходился с Ланой? Черт его знает! Опять пришла на ум коррозия. Порядок, непорядок, беспорядок… Все это нужно было пропустить через фильтр – через душу.
– Ты знаешь, Юра, мы с тобой, наверно, застрахованы от всякой ржавчины, – сказал Должиков, и мысль эта обрадовала его. – Нас защищает классовая принадлежность. – Тут подбирать слова ему не пришлось: с иным уклоном, обобщенным, говорил примерно то же на политзанятиях. – Наша стоимость обеспечена золотым запасом! – произнес он горячо, как Маслыгин в коридоре, возле кабинета Старшого. – А золотой запас – наше социальное здоровье. Мы, Юра, здоровый народ.
Но, кажется, Подлепич не слушал его или тоже посчитал это демагогией, которую можно пропустить мимо ушей. Он выдвинул ящик стола, как было ему приказано, однако тетрадки своей не нашел. Да там она, там, сказал Должиков, сверху. Но сверху лежало пакостное письмишко – уведомление из вытрезвителя. Что значит здоров человек, не ржавеет! – об этом письмишке, увидев Подлепича, сразу и не вспомнил.
А на Подлепича, помрачневшего мигом, произвело оно, видно, сильное впечатление.
Так и оставив пакостную бумажонку в ящике стола и не задвинув ящик, Подлепич встал, будто не место было ему рассиживаться за столом, и пересел – подальше от этого места.
– Ну и дрянь же Чепель! – шлепнул себя по щеке, скривился: больно. – Приди, повинись. Нет, молчит! Когда это случилось? В субботу? Ну ясно: в субботу был у меня, и выпили с ним. Немного, правда, – опустил Подлепич голову. – Но выпили. Понятно, Илья? – спросил он, не поднимая головы.
Дурней, видит бог, не придумаешь: пить с Чепелем!
– Понятно, – сказал Должиков. – Только, полагаю, Юра, ты преувеличиваешь. Роль личности своей в истории. Заметь себе для памяти: я ничего не слышал, ты ничего не говорил.
– А, все равно! Говори не говори… Греби не греби… – обхватил Подлепич голову руками. – Брошу я это к черту, Илья! Уйду! На любую работу!
В этой конторке еще и не такое бывало.
– Пошли обедать, – сказал Должиков.