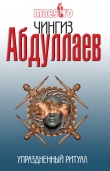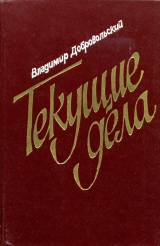
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– За Чепеля опрос с меня. Моя, Илья, промашка.
– Ну-ка, ну-ка! Повтори под стенограмму! – обрадовался Должиков, разгладились морщинки у глаз, лицо потвердело. – Ошибся, значит? Исправляй ошибку! – отсек он рукой лишнее, ошибочное, отшвырнул от себя. – Пиши рапорт! Есть еще в конечном счете и такая инстанция: товарищеский суд. Будем передавать! – объявил он, как о чем-то решенном. – Обоих. Булгака – тоже. За компанию.
На это надо было похлеще ответить, но слов таких, вразумительных, не нашлось, по-прежнему была помеха: всю-то правду про Булгака Должикову не откроешь.
– Пока я в смене, этого не будет! Булгак Чепелю не компания.
– Будет, Юра! – печально, с сожалением сказал Должиков. – Я-то уж тоже пока не бесправный. – Он и о том посожалел. – Чепель с Булгаком, конечно, не компания, но под одной вывеской побывали: что милиция, что вытрезвитель – контора одна. Я ж приговор не выношу, – нашел оправдание. – Суд вынесет.
– Ну, будем, значит, с тобой судиться, – сказал Подлепич. – Поглядим, кто кого.
Столько прожили бок о бок и не судились, подумал, – вот времена настали!
– Нам с тобой судиться – производству в колеса палки вставлять, – вовсе уже опечалился Должиков и, опечаленный, как бы поникший, подпер кулаками глянцевые щеки. – Нам судиться ни к чему. Мы свое получим. Да что я! – легонько вздохнул он. – Припаяют – переживу! Но тебе, Юра, – понизил голос, – при твоем положении…
Резануло это: неужто гибельный поезд уже на примете?
– При каком положении?
– Ну, Юра! – огорчился за него Должиков, пожалел его, забывчивого или наивного. – Ты ж кандидат на премию! На тебя уже, наверно, характеристики катают под копирку. Ну и вкатят беспринципность, примиренчество, гнилой либерализм! Тебе это нужно?
– А мне ничего не нужно, – сказал Подлепич. – Что есть – при мне, а что будет – возьми себе, не поскуплюсь.
Губы у Должикова были тверды, мужественны, резко и ладно очерчены, – дрогнули слегка: усмехнулся.
– Поскупишься! Грянет час, барабан забьет – не так заговоришь. Самое дорогое, что может быть: честь!
– И честь возьми себе, – сказал Подлепич.
Какую только? Ту, что сулили ему, или ту, которая была при нем? Поезд этот, бегущий по кривым рельсам, не выходил из головы.
– Честь, Юра, не червонец замусоленный… Переходящий из рук в руки. Честь в серию не идет, – рассуждал Должиков. – Для каждого – свой уникальный образец. Так что мне твоя честь ни к чему, как и моя – тебе. И отношение разное: я свою берегу. Не для червонца лишнего, не для доски почетной. Лично для себя. С какой целью? – опросил он и прищелкнул языком. – А с той же целью, с какой сердце берегут, печенку-селезенку. Без них жить нельзя! А ты не бережешь. Мне ее, честь свою, предлагаешь в дар. Это не подарок, Юра! – проговорил строго. – Это не щедрость. Это, знаешь ли, какой-то упадок сил. Какое-то безразличие, разочарование в жизни. Ты честь береги. Свою. Вот это будет и мне подарок. Ты подумай.
– Подумаю, – пообещал Подлепич.
Он потому пообещал, что под конец все же затронули его эти рассуждения Должикова: упадок сил, безразличие… Все же нащупана была Должиковым та слабая струнка, которую сам он, Подлепич, подтягивал, подтягивал, а она дребезжала. Но слишком затянешь – и лопнет. Подумаю, сказал он себе, подумать есть о чем.
О том, однако, самом трудном, думать не пришлось: на чудо уповали, хотя бы маленькое, но ни большого, ни малого с Дусей не произошло, а был просвет в беде, обманный, и снова потекла болезнь своим неотвратимым руслом.
33
До праздников было еще неблизко, однако чуялось приближение: в общежитии затеяли тотальную уборку, повыносили столы из читалки, художникам дали простор, и те, пока не дошло до мытья, до натирки паркета, расположились прямо на полу со своими кистями да красками и, лежа на, животах, в четыре руки писали главный праздничный лозунг – для фасада, который тем временем подновлялся, как всякий год перед праздниками.
Чтоб окончательно не прослыть неисправимым ворчуном, он, Булгак, уж помалкивал: дурная работа; облицевать бы плиткой раз и навсегда или, на худой конец, поштукатурить по всем правилам, без халтуры, и был бы прямой выигрыш, а не вечный убыток. Теперь он знал немного в этом толк: навязавшись домашним подручным, к Подлепичу, осваивал помалу штукатурную профессию, и руки чесались всыпать тому, кто каждый год подмалевывая старье, так по-дурацки экономит.
Сам он хотя и образовалась прореха в личном бюджете, надеялся как-то выкрутиться и на мелочах не экономил.
Прореха эта была бы не слишком ощутима, если бы мог он предвидеть, что скостят премиальные сразу за два месяца, – прежде у него такого не бывало, а тех, которые попривыкали к этому, он за людей не считал.
В теперешних обстоятельствах впору было бы и себя не считать за человека, но это уж, рассудил он, пускай другие, со стороны глядящие, считают так, а ему не пристало склонять голову перед обстоятельствами.
Два месяца назад, когда никак не предвиделось прорех в бюджете, он задумал заново, согласно последним портняжьим эталонам, экипироваться, или, как говорилось проще, прибарахлиться, и затеял шитье костюма на заказ, по журналу, французскому, в самом лучшем ателье, у самого знаменитого портного, известного на весь город, орденоносца, отличника бытового обслуживания, к которому в очередь записывались заранее.
Разумеется, легче было бы присмотреть готовое – и дешевле, но во-первых, с недавнего времени стал он пристрастен к шику, к моде и стал ориентироваться в этом – какая расцветка, да что к лицу, да как сидит, а во-вторых, и готового подобрать себе что-нибудь сносное было ему тяжело: рост наивысший, но в поясе – широко, обвисает, никакого вида. Нужно было, чтобы слегка прилегало, и наоборот, по требованиям сезона, нельзя было, чтобы узило в плечах. На эту обнову, которая едва ли могла поспеть к праздникам, он возлагал огромные, но тайные надежды. Собственно говоря, это было предвкушением какого-то внутреннего удовлетворения – и ничего, разумеется, больше.
Кроме того, он купил на осень фасонную куртку из верблюжьей шерсти – такие входили в моду, и выбрал то, что надо: клетка крупная, фиолетовая, с красным отливом.
Словом, становился он истым барахольщиком. А галстуки, рубахи, шарфы или обувка – это уже не в счет. На чем угодно можно было экономить – на еде, скажем, но только не на этом. Это необходимо было ему не для форса, не для того, чтобы покорять знакомых или незнакомых девчат, а ради эстетики, которой, как он понимал, С. Т. не могла не поклоняться.
На нее он смотрел не теми глазами, что на девчат, знакомых и незнакомых, – на тех он смотрел, как все остальные; по-видимому, так; ничем, по-видимому, не отличался от всех остальных и не старался отличаться, да и не мог бы смотреть иначе, если бы даже захотел и стал себя принуждать. На тех он смотрел, как смотрят парни на девчат, подмечая всякие детали, то ли выставляемые нарочно напоказ для пущего соблазна, то ли скрытые и лишь угадываемые наметанным глазом. Глаз у него был, конечно же, наметанный, еще бы! – он оскорбился бы, откажи ему кто-нибудь в этом, и все детали подмечал равнодушно, походя, как опытный оценщик, – так и старался, кстати, подмечать, но иногда, а может, и чаще, чем приличествовало бы холодному оценщику, – с жаром, с жадностью, с томительной тоской по запретному, которое было запретным только потому, что существовала С. Т.
На нее он смотрел совершенно другими глазами – не холодными, но и не жадными, ничего такого, запретного, не подмечая, не желая подмечать, не находя в этом ни удовольствия, ни соблазна, как тонкий ценитель на художественной выставке, где неприлично, стыдно подмечать то, что вовсе не подразумевается художником.
После происшествия в ресторане он не видел ее несколько дней и не старался увидеть, и не страдал, не изнывал, не умирал, и даже подумал, что, слава тебе, господи, это у него закончилось, переболел, избавился, перевоспитался.
Он даже подумал, что пусть теперь только сунется она на участок со своей технологией, он ее так турнет, что перья полетят.
Но эти дни были у него незадачливы.
В бассейне, на тренировке, как ни силился пройти дистанцию по новому, оптимальному графику, ни черта не получалось. Не может быть! – наверно, врет секундомер, возьмите время по контрольному, и брали по контрольному, но результат был тот же. Отрабатывай технику – отрабатывал технику, жми – жал, поворот слаб – отрабатывал поворот, – его секунды оставались его секундами, выйти из них он не мог: у каждого свой потолок, а тренер сердился. Соберись, говорил, ты не собран, витаешь, нацеленности нет, нацелься.
Нигде он не витал, и собран был, и нацелен, сидел у самой воды с полотенцем на плечах, глядел рассеянно на эту тихую, отсвечивающую расплавленным оловом, неподдающуюся воду, досадовал, впадал в уныние, деревенели мышцы, все скверное, что было в жизни, как нарочно, пробегало перед глазами, расслабься, говорил себе, нацелься, соберись, не витай, подумай о великом. Когда чего-нибудь не можешь, не умеешь, не способен, бессилен, бездарен – ничего такого, великого, не надумаешь, – выйти бы из этих заклятых секунд! Сидя у кромки бассейна, свесив ноги, расслабившись, он подумал, что зря пользуется льготами, незаслуженно, все ходят в ночную, а он не ходит, пловец никудышный, проку не будет, и далее подумал, что в ночной – тоска, на этажах пусто, технологов нет, техбюро закрыто, и сколько ни ходи по коридорам, никого не встретишь, а завтра, послезавтра, днем, в любой, какой захочешь, день можно выкроить время, пройтись, встретить, – переболел, теперь не страшно. И как только подумал он об этой возможности, мигом все в нем переменилось: нацелился, настроился, встряхнулся, ожил.
В тот вечер, в бассейне, так и не удалось ему выйти из своих секунд, но все же показалось, что обретает форму – способен прибавить. О великом подумал? О каком там великом! Отработал повороты, прошел дистанцию приближенно к графику, потому что понял, где нужно прибавить, – о каком там великом!
Какое там великое! – скромно жил, втихомолку, в техбюро не наведывался, незачем, хотя распрессовку шестерен с Подлепичем заделали – в чертеже, конечно, и можно было мотнуться к технологам, показать, но он предоставил это Подлепичу, возился с дефектами, менял коленвалы, замолачивал монету на костюм.
Было время – тешила ловкость рук, гордился ею, будто на сцене выступал, давайте-ка публику сюда, цветочки-букетики, аплодисменты, но это прошло. Силу свою демонстрировать, ловкость? Иди на стадион, там демонстрируй, а здесь, на дефектах, нужна мысль, нужны чутье, интуиция, зоркость, памятливость: сопоставляй, анализируй, умей отличить причину от следствия. Он на воде, в бассейне, гордился силой, выносливостью, а здесь – своей мыслью.
Сила, однако, любому видна – подходи, полюбуйся; это – как ловкость рук; ну, а мысль – в глубине, никому не видна; он теперь не фасонил.
В общежитии, в цехе, на участке стали поговаривать, будто драчливый, охальный Булгак вдруг затих: подкосила, небось, взбучка-нахлобучка в приказе по цеху, – или относили это крушение на счет Подлепича, который якобы взял его в крутой оборот. Разговорчики пошли оттого, что притих он, не балаганил, остепенился вроде бы, но никакой не Подлепич пришиб его, и не взбучками пришибло, а просто – выдохся, как после изнурительной, без передышки, работы или на финише марафонского заплыва, когда до конца выкладываются, до нуля. Вот и с ним такое же совершилось: тяжек был марафон, мучителен, непосилен, не его дистанция, не ему бы на ней стартовать, но принудил себя к этому, внушил себе, что природа если недодала чего-то, надо брать недоданное силой, и уверился, что переборет свою природу, свою треклятую слабину, сможет сравняться с Чепелем и с прочими – чепелевской закваски, согнет себя, переломит, и согнул, однако не переломил, не дотянул до финиша, сошел с дорожки, не стало больше мочи.
Цеховая столовка всех сразу не принимала – не уместились бы, и для некоторых участков и служб передвинуто было обеденное время. Он крепился-крепился и выкинул белый флаг: оставив двигатель на стенде, урвал минут пяток, отлучился, сбегал в столовку, когда там обедали технологи. Хоть не общий для всех был обед, а все равно хватало народу в столовке. Не озираясь по сторонам, спешным шагом, целеустремленно, по-деловому он пошел между столиками к буфетной стойке, посмотрел, что там имеется, под стеклом и на полках, а дешевле сигарет ничего не было. Он порылся в карманах, насобирал мелочишки, не нужны были ему сигареты, но попросил пачку. Пока это все происходило и стоял он возле буфета, ему не зазорно уж было рассеянным взглядом окинуть зал, что он и сделал. С. Т. сидела за дальним столиком, слишком дальним, и так далек был этот столик, так неудобно сидела она, неудачно, так заслоняли ее другие сидящие, что он и не рассмотрел, какая она стала за несколько дней. Ему вспомнилось то летнее утро в пансионате, когда он увидел ее на берегу, и потом, шагая по берегу, пытался представить себе, какая она, и не мог. Ее лицо было неповторимо и незабываемо, но почему-то оно сейчас же забывалось, как только он переставал смотреть на нее, а в этот раз и вовсе ничего не увидел, вернулся на участок ни с чем – с пачкой сигарет.
Что захотелось иметь – так это ее фотокарточку, настоящую, а та, которую носил с собой, никакого представления о ней не давала: самодеятельность, барахло. Как и где раздобыть, он пока не решил, потому что задачка была, пожалуй, неразрешимая, и даже не знал, с какой стороны подступиться к задачке-то. Будь у него такое богатство, стал бы он суверенной державой, белый флаг не выбрасывал бы, не ловил бы случай, не тратился б на сигареты. Пачку эту, абсолютно ненужную ему, возвращаясь в цех, он собрался выбросить на лестнице, но не выбросил, оставил, авось пригодится, и вернулся на участок в отчаянном настроении.
Пока шли дефекты, было еще так-сяк, потому что дефекты требуют ума, мысль возвышает человека, человек, торжествующий над машиной, велик, и, по совету тренера, он думал о великом, но когда дефекты кончились, кончилось и его величие, мысль помельчала, человек, торжествующий над природой, смешон, это фикция, над природой не поторжествуешь, ни вообще над природой, ни над своею собственной, и чего ею недодано, того нахрапом не возьмешь, в столовку не вломишься по-чепелевски, не подкатишься к дальнему столику с воображаемой салфеткой на сгибе локтя: «Чего изволите? Коньяк? Виски? Суп вермишелевый? Солянка механосборочная? Рекомендую овощное, жиры-углеводы портят фигуру, а вообще-то как оно? За прошедшее и произошедшее не гневаетесь?» К черту, сошел он с дорожки, не было больше мочи играть на публику, и когда дефекты кончились, подумал тоскливо, что не сегодня-завтра, в недалеком будущем, кончатся они вовсе, пойдут моторы сквозняком, и приветик, Булгак, собирай манатки, переселяйся на конвейер, на сборку, вот тебе пневмогайковерт, и крути гайки с половины восьмого до половины четвертого, замолачивай себе на шмотки, демонстрируй ловкость рук, а мысль твоя выдающаяся пускай отдыхает. Он подумал, что и там, на конвейере, мысль его отдыхать не будет, фигушки, чего захотели, он и там их научит, сборщиков, как работать с умом, с интересом, но это не вдохновило его. Никогда не шарахался он от противоречий, принимал их как должное, а теперь вдруг шарахнулся: пускай значит, портачат на сборке по-прежнему – он будет исправлять; у них вычеты за брак – ему премия; им, портачам, минус, ему плюс; общество заинтересовано в качественной работе производителей, а он – в обратном; не будут портачить – нечего будет исправлять; приветик, Булгак, ищи, где еще портачи сохранились. Он подумал, что рано или поздно так оно и станется, и тогда навсегда потеряет он из виду С. Т., – никакие биотоки не помогут. Он в них разуверился: темная ночь; он теперь увлекся биоритмами, тренировал свой психофизиологический пик, приноравливал к занятиям в бассейне; у него сегодня был спад, малый уровень сахара в крови, плохой день – по науке.
По науке, правда, такие дни должны были периодически повторяться, а он что-то не замечал этого, не мог припомнить другого такого дня – плохого.
По науке же рекомендовалось немедленно сменить форму жизнедеятельности, переключить внимание, перестроить систему зрительных образов, – кое-как помывшись, переодевшись, он умнее ничего не придумал: зашел в читалку.
Как-то раз, на прошлой неделе, посидели тут с Подлепичем, полистали газетные подшивки, а это была читалка парткабинета, и оказались тут пособия по экономике, за которыми гонялся в городской библиотеке, и, конечно, классики марксизма, полные собрания, философия и политэкономия – все, что требовалось для цехового кружка высшей ступени, где с недавних пор состоял вольным, что ли, слушателем, поскольку примазался к итээровцам. Тут литературы, нужной для кружка и для себя, было полно, а он теперь заделался заядлым экономистом, загорелся наряду с философией постичь и эти основы, и не стоило двумя трамваями ездить в городскую библиотеку.
Тут тоже готовились к праздникам загодя, обновляли наглядную агитацию, завели новый щит с портретами заводских пропагандистов, – он сидел, читал, а этот щит висел перед ним.
Он сидел, читал, и хотя тысячу раз говорилось в кружке, что надо конспектировать и будут спрашивать конспекты, полагался на свою память, которая пока что не подводила его. С такой памятью, внушали ему, прямая дорога в институт, а он маленько даже обижался: хвалите ЭВМ за память, превозносите, но человека хвалить за это – невелика честь. У него в голове было еще кое-что, кроме памяти, а насчет института он и сам стал подумывать: лет через десять, когда созреет и готов будет браться вплотную за экономику в масштабах завода или шире, за проблемы управления, за организацию производства, не обойтись ему без диплома, и если пойдет по чисто инженерной линии либо по чисто научной – то же самое, бей диплома не доверят. Он согласен был со своими советчиками: понадобится диплом; но какой? Инженерный, экономический, организаторский, философской или соединяющий в себе все это с чем-то еще, наивысшим по широте размаха? Такого института, о каком он мечтал, не существовало покамест. Дождаться, когда додумаются, откроют?
Он сидел, читал, а щит этот, с портретами, висел перед ним, – он глянул невзначай и обмер: из третьего ряда, нижнего, пятая оправа, смотрела на него чуть раскосыми глазами, с загадочной улыбкой в глазах и на губах, С. Т.
Та комната, где выдавали книги, была напротив, через коридор, и дверь распахнута, кто-то там копался в книгах, и с кем-то, скрытая барьерчиком, любезничала библиотекарша – слышно, а тут, в читалке, кроме него, не было ни души, и день такой выдался, паршивый, – отчаянное настроение.
Он вдруг представил себе, что прощается с заводом, берет расчет, уходит, уматывает на край света, и теперь все равно, добром ли помянут, злом ли, поплачут ли о нем или даже не заметят, что исчез.
В той комнате – напротив – были люди, а в этой – ни души.
Он вдруг подумал, что так случается нечасто; когда он приходил с Подлепичем, едва нашли свободный столик, обычно тут сидят, читают, а в этот раз он был один, сидел, читал.
Но ни черта ему уже и не читалось и не сиделось, нащупал ножичек в кармане, перочинный; зачем?
Вот именно! – всегда был ножичек при нем, и в голову не приходило любоваться, выхваляться – обыкновенный ножичек, и вынимать без надобности.
Однако больно уж удобный был момент, – такого, может, больше и не выпадет, причем секунды все решали: чуть промедлишь, кто-нибудь войдет, не оставалось времени на размышления.
Он быстро встал, пошел к щиту, раскрыл то лезвие, что потоньше, и аккуратно, не по-варварски, срезал фотокарточку, еще и похвалился: ловкость рук! – и ножичек свой похвалил.
Все было сделано в одну секунду, без промедлений-размышлений, но в эту же секунду те, что были там, у книжных полок, вошли сюда. Он одного узнал – слесаря со сборки, а двое были незнакомые. Тот, сборщик, косо глянул на него и не поздоровался, – некоторые до сих пор не могли ему забыть выступления на собрании; пожалуй, не совсем удачно было, что этот как раз и вошел – ненавистник. Однако вряд ли что-нибудь они заметили, вошедшие, а то бы сразу подняли шум или хотя бы спросили какого черта понадобилось вредительствовать приличному парню, культурному, изучающему научные труды. Он их схватил в охапку, труды эти, и, обругав себя за поспешность, замедленным шагом пошел через коридор – сдавать библиотекарше. Пока голова занята была этим – замести следы, не навлечь подозрений, был он по-боевому наэлектризован, а как вырвался на волю, незаподозренный, неуличенный, несхваченный, так и обмяк: совестно стало. Он даже подумал: достать бы клею, вернуться, пришпандорить, – но ноги несли его к проходной, и там он нагнал Подлепича, пошли вместе.
С Подлепичем стало почему-то спокойнее, словно за широкой спиной, под защитой, или пригрела уверенность: Подлепич-то не осудит; пошли через парк.
Уверенность была, конечно, хлипкая, а, честно говоря, никакая не уверенность: чтобы дурь несусветную поддержать, одобрить или – пускай даже так – воздержаться от ее осуждения, нужно самому быть олухом. Он шел в растерянности, не веря, что такое могло с ним стрястись, и время от времени запускал руку в карман, пощупывал эту дурь: нет, правда, стряслось-таки, вот она, штука-то, отмочил-таки.
Шли не спеша и говорили о разном: до праздников надо, мол, сдать чертежик в техотдел, у Чепеля, балбеса, опять предвидятся неприятности, погодка что-то подгуляла, по вкладышам выскочили на перерасход, идут вкладыши в брак, а это же – пятерка за каждый комплект, по госцене. Поставщику-то платим, сказал Подлепич, а вкладыш – на свалку. Тут поставщик как раз ни при чем, сказал Булгак, поставки качественные, сами гробим – на сборке: чугунная пыль с блок-картера. Их, кстати, можно реставрировать, сказал Подлепич, методом заглажки, есть слесаря, которые умеют. И я, между прочим, умею, сказал Булгак, и взялся бы, такая мысль была, но завели же контролеры моду на выбракованных ставить свое клеймо. Вот то-то и оно, сказал Подлепич, с клеймом уж не загладишь.
Был снег на прошлой неделе, выпадал, но не зимний, а осенний, ложный, и весь почти стаял. Чернели асфальтовые аллеи, где много ходят, а где мало – серели, как непросохшая известка. Свинцовыми лепешками лежал под скамейками лед, словно в марте, но не было мартовской черноты в кустах, рыжеваты были кусты, будто обструганы или обмыты.
– Попробуем эту моду поломать, – сказал Подлепич, – а ты, советую, дай рацпредложение.
– Я, кажется, брошу к чертям слесарничать, – усмехнулся Булгак, – пошлю приветик дизелям нашим, вообще производству, воткнусь во что-нибудь такое, вроде молекулярной генетики: целенаправленное управление генами, наука будущего, слыхали о такой, интересовались?
– Слыхал, – ответил Подлепич, – но не интересовался; в меню много чего указано, всех блюд не перепробуешь.
– А я, – сказал Булгак, – от своей линии не отказываюсь, рассчитываю пробыть в этом ресторане до самого закрытия, пока тридцать лет не стукнет; до тридцати – имею право?
– Слишком большой аппетит, – заметил Подлепич, – тоже нехорошо для здоровья.
Тихо было, не шелестело в парке, только вороны расхаживали под деревьями покаркивая, разгребали слежавшуюся листву, шуршали, да постукивал где-то невидимый дятел.
Вот и нашлась забава у взрослых людей: стали, задрали головы, – кто раньше приметит?
– Один-ноль в мою пользу, – обрадовался Булгак, – вон смотрите – на самой верхотуре, – и пошли дальше.
– Они что, – спросил Подлепич, – у нас и зимуют?
Сразу было видно горожанина, технаря, – такого не знать!
– Далеки вы от природы, как я погляжу, – упрекнул Булгак, – а это обедняет.
Богатство лежало в кармане, несметные капиталы, но и дурь несусветная – тоже; он то наэлектризовывался, то обмякал.
– Три года кряду, как в отпуск не было возможности куда-нибудь податься, на природу, – сказал Подлепич, – то здесь болтаюсь, то – к дочке, а там – тот же город.
– А вы забирайте дочку сюда, – посоветовал Булгак, – определим в детсад, возьмем шефство.
Подлепич засмеялся. Покаркали вороны, словно перекликаясь, и дятел постукивал – уже в отдалении.
– Крикливые, – кивнул Подлепич на галок. – И бестолковые. А тот… – обернулся он, поискал глазами дальнюю сосну. – Тот – с толком. Серенький такой, неприметный, но – работяга! Эти горланят, а тот – молча, Потому что труженик, не трепач.
– Намек? – спросил Булгак; задело это почему-то. – Я, между прочим, дело говорю, а вы смеетесь.
– Да нет, не намек, – покачал головой Подлепич, – И не смеюсь. А вообще… Когда очень больно, человек молчит. По-моему, так.
– Говорят, поорешь – помогает.
– Трусливые говорят, – сказал Подлепич и листик поднял с земли, березовый, растер пальцами, понюхал. – Крик вообще – не от нервов. От дикости. Пережиток первобытного состояния. Устрашали криком. Или отгоняли страх. У вас недавно, в общежитии, писатель выступал. Тебя не было. Читал стишки. Про любовь. И народу собралось немного – душ двадцать. Иду этажом, слышу: крик. Ну чего кричать-то? Да еще про любовь! Боялся чтец, что не услышат.
– Стоящие стихи?
– А черт их знает, – сказал Подлепич. – Если уж кричать приходится, наверно, нестоящие. Я в них не разбираюсь.
– А надо бы, – сказал Булгак.
– Ты-то разбираешься?
– Разберусь, Юрий Николаевич. Говорю ж, до тридцати есть еще время. Жизнь одна, жаль что-то упускать.
– Жизнь-то одна, – сказал Подлепич, – да надо главного держаться.
– Все главное, – сказал Булгак. – Моя личная точка зрения. Было б десять жизней, выделил бы что-то. А поскольку жизнь одна, все главное. Вот и это! – сделал он круг рукой.
Теплынь была, хоть и сыро; последние такие денечки, хоть и неказистые; цветная осень уступила место черно-белой, и все же не хотелось уходить отсюда, – голо, мертво, а не хотелось; выбрали скамеечку посуше, сели.
– Да, – сказал Подлепич, согласился с чем-то, расстегнул плащок и кепку снял. – Было у меня как-то: еду из тех краев, от Оленьки, август месяц, поездом – билета не достал, еду автобусом, и заночевали где-то, местности уже не помню, степь кругом, гостиница на трассе, машин полно, чуть свет заводят моторы, не разоспишься. Ну, думаю, встану, погляжу хоть, какой он, рассвет в степи, а то ведь так и помрешь, не увидишь. Встал, оделся, иду, свежо еще, зябко, на бензозаправке – жизнь уже полным ходом, а чуть отошел – тишь такая и воздух такой, что закачаешься. У меня на сердце муть: две недельки возле Оленьки, а ехать надо, только себя растравил. Прочее, что дома ждет, тоже невеселого свойства. Камень на сердце. Но иду. Будто чую, что где-то там, вдали, сброшу этот камень. Поле уже скошено, стерня, только подсолнечник стоит да кукуруза. Просторы. Иду, и назад ворочаться неохота. Запах манит – земляной, травяной. Иду и верю: не осень еще, не зима, и не стар, молод скорее, и жить еще и жить. Иду и думаю: не так уж много нужно человеку; дай ему понюхать, как пахнет земля и трава. Простая земная радость – так и подумал. Так и подумал: с этим и буду жить. Чудно́?
– Еще почуднее бывает, – сказал Булгак.
Чуднее было то, что и ему похожее припомнилось: тоже возвращался домой – с межобластных соревнований, из Севастополя, и тоже ранним утром, в конце лета, но только не автобусом, а поездом, и где-то за Джанкоем, на перегоне, поезд стал у красного сигнала, пассажиры повысыпали из вагонов, сгрудились возле насыпи, опасаясь отходить подальше, а те ребята, которые возвращались с ним из Севастополя, были все на подбор, таким ли опасаться, позабегали кто куда, и он отбежал порядочно, лег в траву, держа светофор под контролем, и тоже, как на Подлепича, напало на него такое же мгновенное и счастливое ощущение слитности своей с землей, с травой, вообще с жизнью, но в противоположность Подлепичу не было у него никакого камня на сердце, а наоборот: свою коронную дистанцию прошел он в Севастополе отменно, и были свежи впечатления лета, июля на водохранилище, и рвался домой, потому что там, в городе, была С. Т., и ничего не знал тогда о ее замужестве.
– Еще почуднее бывает, – повторил он, захваченный лихорадочным желанием враз, без промедлений-размышлений, убить в себе ту несусветную дурь, освободиться от нее или, напротив, прибавить к ней чего-нибудь похлеще, подурнее, дурь пересилить дурью, отплатить себе за дурь, ответить Подлепичу прямотой на прямоту, разоблачить себя или открыться наконец и тем очиститься от дури, возвыситься над нею; все смешалось.
– Сегодня день плохой, – сказал он тяжело. – У меня. Сильная утечка, Юрий Николаевич, умственных способностей. Резкая разгерметизация, в результате чего снижение в незапланированном режиме.
– А короче? – глянул Подлепич искоса, с хитринкой в глазах, и, показалось, с хитринкой-догадкой.
Стало бы в тыщу раз легче, если бы сам он догадался, но догадаться было невозможно.
– Короче, как с ракетой-носителем. Вхожу в плотные слои атмосферы.
– А еще не горишь, не видно что-то.
– Подгораю, – сказал Булгак и вытащил из кармана фотокарточку. – Психоз. Это в парткабинете. Висело. – И сигареты были, нераспечатанная пачка, он и ее вытащил, распечатал, посмотрел, у кого бы из прохожих прикурить. – Сам не пойму, как это вышло.
Подлепич глянул – так же искоса, но присматриваться не стал и только лоб наморщил, кивнул на курево.
– Вот это лишнее.
– Так с фильтром же, Юрий Николаевич!
– Выбрось! – коротко скомандовал Подлепич и проводил глазами улетающую пачку, сурово проследил за ней, пока не плюхнулась в кустах. – Ну, а трофей давай сюда, – взял сам, без промедлений-размышлений, не очень-то церемонясь. – Пойду улажу.
В том, что пойдет, сомнений не было; уладит ли – еще вопрос, и стало жалко отдавать, немыслимо, невероятно, душа запротестовала, достал трофей нелегко, с мукой, с риском, и надо ж было наглядеться, не нагляделся же!
– До завтра не терпит?
– Да ну! – сказал Подлепич, встал. – Мы же мужчины.
И больше не сказал ничего, пошел по черной аллейке в обратную сторону и, обернувшись, помахал рукой, прибавил шагу.