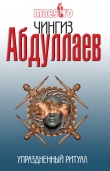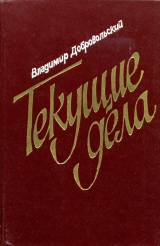
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
Шли молча: сговорились, а заговорщикам положено молчать; у заговорщиков, подумал он, все впереди, а что осталось позади – того и вспоминать не стоит.
Остались позади позавчерашнее, вчерашнее, больница, Дуся, Чепель, наговор, а для него еще и сшибка с Должиковым, разгневанный Маслыгин, всполошившийся Булгак, – все трудное осталось позади.
– А я в костюме! – похвалился он и откинул полу плаща.
Он думал, что она придет в восторг, назначит ему награду за подвиг – чмокнет в щеку, как бывало, но взгляд, который она бросила из-под капюшона, был беглым и рассеянным. Невидящий был взгляд.
Он думал, что она хотя бы скажет что-то, но не сказала ничего, будто не слышала того, что сказал он, или не слушала его, замкнулась в своем капюшоне.
Что с ней творится, он не мог не понимать и понимал, что творится с ним, но не хотел об этом думать, – надумался уже, насытился своими думами, объелся. В горячке много не надумаешь, а он горел; и чувствовал, что и она горит, но он – самозабвенно, торжествующе, а она – тревожно.
Шли вдоль бульвара, перешли бульвар и, собственно, пришли: всего-то было несколько шагов до ее подъезда. И тут она остановилась.
Уже стояли так; тогда еще Чепель на них наткнулся; теперь не видно было никого поблизости; будь он неладен, дом этот – заводской.
– Иди, – сказала она, не опуская капюшона; ей не к лицу был капюшон, и, кстати говоря, уже не моросило.
Противным голосом, заискивающим, он вроде бы спросил:
– Я не зайду?
Потупившись, она запретно покачала головой, а он бормотнул виновато:
– Да все равно уж…
– Нет, Юра, – подняла голову, тоже виновато взглянула на него. – Не все равно. – И пошла в подъезд.
Была скамейка возле подъезда, он сел, не посмотрел, что мокро. Светились окна, но не все; в такой же вечер – только потеплее было – разглядывал другие окна, больничные, прикидывал, где Дусино. Опять невыносима стала разлука с Оленькой. Он снова вспомнил свой последний приезд к ней и то, как равнодушно встретила она его, а он, чудак, надеялся на радость, желая одного – взаимности, которая была когда-то. Ждать этого, сказали, от ребенка – неправомерно: отвык ребенок. А кровное родство, а гены всякие – пустяк? Ребенку как бы разрешали разлюбить отца, но не мог же отец разлюбить ребенка! Мог? Он сам, как маленький, готов был разлюбить, не находя взаимности. Да разве любят за взаимность? И разве преданность, подумал он, требует отплаты? Булгаку, например, в его любви, от всех скрываемой, отплата не нужна. Не есть ли это, потаенное, не видное постороннему глазу, именно то, что должно быть в людях, подумал он, и чем одарены они от природы? То чистое, чего уж не бывает чище, а дурням невдомек! Любить за что-то – это не любовь, подумал он, а ни за что любить – вот высшая любовь.
Прошествовали мимо двое, супруги, видно, – с кошелкой; на всякий случай он пригнулся, прикрыл рукой лицо. А собственно, какой был криминал в том, что сидит возле чужого дома? Ну, сыро было, это правда. Кому какое дело? Сидящих на сырых скамейках, подумал он, туда же – под обстрел?
Он встал, пошел, но не по улице, не по асфальту, а выбрал путь в обход – за полосой посадок, обозначающих границу городской застройки. Вспомнилось, как возвращался летом с Кубани, заночевал в придорожной гостинице, проснулся на рассвете, вздумал побродить, и как запахло травами, землей, и как тоскливо было, но невзначай отлегло, и как рассказывал об этом Булгаку в парке. Поверилось: если пройдется там, за посадками, надышится тем воздухом, – все станет у него иначе.
Вдоль посадок замощено было – булыжник, но трудно идти: глаз не привык еще к темноте. Тянуло оттуда, из темноты, сырым ветерком, поля лежали под парами, и небо было черное – не видно, где земля, где небо. Угадывалась тропка за посадками, явилась блажь: пройти по этой тропке. Он даже загадал: если пройдет, все сбудется у него, самое заветное.
Загадывать, однако, под стать было бы Чепелю, а не ему. Булгак, подумал он, не Чепель, но тоже ведь не пасует перед жизнью: любовь – и без борьбы? Бороться, значит, за любовь, а как? Вообще – бороться? За жизнь, в которую веруешь? За веру? Тут трудно было думать о таком: мешалось в голове одно с другим, и ноги вязли, развезло дорожку, не пройти, – досадно! Он повернул назад.
Воспитывать добром, подумал он, и воспитывать добро, это бесспорно; по крайней мере, для меня; но совместимо ли добро с борьбой? Должно быть совместимо.
Он глянул, зажглись ли Зинины окна, однако в том крыле, в той стороне, все сплошь уже светилось, и те, которые были прежде темны, потерялись среди прочих. Ну ничего, пусть светятся, лишь бы светились.
38
Подчеркнуто было присутствующими, свободно рассевшимися вокруг стола, предназначенного для совещаний, что это не совещание у них – уже насовещались и, в частности, отдали дань затронутому Маслыгиным вопросу, а побеседовать бы рады, да всех торопят неотложные дела, которые, подразумевалось, поважнее.
Преобладало – в связи с этим – чуть ироническое отношение к тому, чего он добивался; ирония была в соседстве с недоумением: не удивлялись бы, коснись вопрос престижа, – тут уж темперамент объясним, парторг отстаивает интересы цеха, госпремия – если дойдет до этого – стимул для всего коллектива, но цех-то ничего не потеряет ни в том, ни в другом случае, а медаль на груди парторга – знак вовсе не излишний.
Они полагали, что он страхуется от возможных кривотолков, демонстрирует свою скромность, однако, на их взгляд, эта скромность была ложной и где-то даже граничила с кокетством.
Подозревать его в кокетстве было жестоко; когда напраслина, по недомыслию возведенная на человека, приобретает чудовищные размеры, слова, пригодные для отповеди, куда-то исчезают, – недаром говорится: не хватает слов. Нечто подобное он испытал за этим столом, хотя чудовищное подозрение было высказано вскользь и, не поддержанное большинством, снято.
Тем не менее в запальчивости, на которую толкнули его, он доводы свои в пользу Подлепича изрядно скомкал; не поздно было возвратиться к ним, однако все это, происходившее несколько лет назад, принадлежало истории, а оппоненты делали упор на современность.
Соответственно этому снова помянута была комиссия, обследовавшая участок, и помянуты, разумеется, выводы ее, не говорившие в пользу Подлепича.
Конечно, каждый волен был трактовать эти выводы по своему разумению и утверждать, что если там, на бумаге, в конце последней фразы поставлена точка, то запятой никак уж быть не может, а он, Маслыгин, ставил запятую и утверждал, что точку ставить рано.
Ему напомнили иносказание про честь мундира, – он этот упрек принял хладнокровно, приготовленный к таким упрекам, и заявил, что неподатлив гипнозу голых фактов, обособленных – так он сказал, а вышеупомянутая комиссия прилежно констатировала факты, но изолированные от общей обстановки.
Тогда спросили, как это следует понимать, и он им всё растолковал, пройдясь по своему же следу, свежему, оставленному на участке Должикова, где несколько дней подряд неотлучно, от смены до смены, вел наблюдения, без которых, убежден был, недоставало бы ему моральных прав говорить о Подлепиче основательно и беспристрастно.
Ему посоветовали прийти на техсовет и там при полном кворуме выложить свои соображения, но он хотел, чтобы еще до техсовета определилось у его авторитетных оппонентов мнение, достойное их авторитета.
Однако мнение уже определилось, и он с прискорбием отметил свойство некоторых вполне разумных и порядочных людей отстаивать определившееся мнение лишь потому, что оно уже определилось.
Он оставался при своем, но вовсе не по той же причине, и обратился к оппонентам с личной просьбой, в которой, полагал, никак уж нельзя было ему отказать.
Они, однако, приняли его желание за демонстрацию протеста, поскольку он потребовал снять свою кандидатуру с голосования, если кандидатура Подлепича не будет восстановлена в списке.
Это требование показалось оппонентам, кроме всего прочего, чересчур оригинальным, но он не возражал против такой формулировки.
Однако ж ничего формулировать они не собирались, напомнив ему, что разговор неофициальный, а он, не долго думая, изъявил готовность поставить дело на официальные рельсы и тут же, ухватив первый попавшийся под руку листок, не длинно, но и не коротко, с соблюдением всех канцелярских формальностей, изложил на листке свой ультиматум. Могли судить об этом как угодно, а у него иного выбора не было.
Все еще взбудораженный после стычки с упорствующими оппонентами, он вернулся в цех и там был атакован Должиковым, которому спешно понадобилось затащить его к себе, потолковать по поводу какой-то своей реляции, адресованной Старшому. О чем она, Маслыгин осведомиться не успел: не в меру разгорелись страсти на контрольном посту, и Должиков направился туда.
Шли вместе, отступать было некуда, и странно, недостойно выглядело бы такое отступление, но на контроле хозяйничала Близнюкова, и, движимый мгновенным безотчетным побуждением, он попытался отступить.
То был укоренившийся рефлекс, против которого на этот раз восстало, что ли, самолюбие: доколе ж малодушничать? Однажды, в минуту душевного прозрения, он уже вынес себе жестокий приговор, и приговор тот оставался в силе. Чем мог он покарать себя еще? Принять от Зины кару?
Шли вместе с Должиковым, и отступать было нельзя, и не отступил.
И видел, как нахмурилась Зина, когда он подошел, и как мгновенно отвела свой враждебный взгляд, когда открыто посмотрел на нее, и как у Должикова тоже почему-то обозначилась враждебность на лице, когда заговорил с Зиной, и как враждебность эта тотчас сменилась сочувствующим пониманием, когда выслушивал слесаря, твердившего, что Близнюкова по дурочке бракует годные вкладыши. Как будто вскользь, нестрого, благодушно спросил Должиков, где Подлепич, и сказали: в компрессорной, – занижено давление, пошел ругаться, выколачивать норму. «Вот, брат, как это делается!» – своим красноречивым взглядом сказал Должиков Маслыгину, взял в руки вкладыш, повертел, потрогал пальцем. Все ожидали, что поддержит слесаря – так был благодушен с ним и так мрачен с Близнюковой, но положил на столик вкладыш, припечатал кулаком:
– Брак!
Сейчас же, не задерживаясь, быстрым шагом пошли в конторку, и по пути, попутно, Должиков не без желчи отозвался о Близнюковой:
– Надеялись избавиться – так нет! Присохла что-то. Никак не может кое с кем расстаться.
Насколько это было известно, он прежде с контролерами не конфликтовал.
– Что, насолила?
– Не в том дело, – как бы со зла пнул дверь конторки Должиков, распахнул, пропустил гостя вперед. – Терплю демагогов, перевоспитываю алкоголиков… Хулиганье всякое вывожу в люди. А вот – которые без стыда и совести, не приемлю. Да ты сейчас сам убедишься, – добавил он загадочно и пригласил: – Располагайся. Прочту тебе, – вытащил из стола реляцию. – Или сам прочтешь? Как хочешь. Читай сам.
Это был рапорт, почерк сносный, Маслыгин знал его почерк, однако сел читать без охоты.
– А, собственно, зачем? – поднял голову. – Зачем читать-то? Старшому адресовано, пускай Старшой читает.
– Я за чужой спиной не прячусь, – быстро проговорил Должиков. – Но если дашь добро, скажу спасибо.
– Конечно, дам, – усмехнулся Маслыгин. – Тебе да не дать! Галиматьи же не подсунешь! – И вслед за тем поморщился. – А вот преамбула великовата. К чему вообще преамбула?
– Да надо ж светлый фон создать… – забеспокоился Должиков и даже встал из-за стола, подошел, озабоченно глянул на свое творение. – Ты стиль не тронь, – словно бы извинился он. – Пускай уж.
– Я не о стиле, – сказал Маслыгин. – Рисуешь радужную картину, а сменные мастера ходят у тебя в дворниках, в курьерах, в толкачах! Не одному тебе упрек, но ты же у нас самый умный!
Словно бы поколебался Должиков: улыбнуться или нахмуриться, – и улыбнулся:
– Не дурак, по крайности. Вот и говорю: маслом каши не испортишь.
Помаслено было только сверху, – Должиков не поскупился, а дальше, с прибавкой самокритичного перца, ну и в укор, конечно, Подлепичу, приведен был пространный перечень дисциплинарных нарушений в его смене.
Недаром без охоты сел читать, с каким-то внутренним предубеждением; все это, непримасленное, а подперченное, известно было и Старшому, и прочим в цехе, и то же самое писала в докладной комиссия, и черт знает зачем понадобилось Должикову зазывать его к себе, еще и заставлять читать.
– Послушай-ка, Илья… Это ведь жвачка! И, честное слово, твой Подлепич мне уже надоел!
– А мне? – раскинул руки Должиков и так, с раскинутыми руками, прошелся по конторке, стал возле окна. – Согласен: жвачка. Но липнет же к зубам, не выплюнешь. Приходится. Ты, Витя, уж дожуй.
Там, дальше, было понаписано такое, что только оставалось выплюнуть: не дожуешь! Не собирался трахать по столу, но трахнул, – листки эти, исписанные, разлетелись, бросился Должиков подбирать.
– Послушай-ка, Илья, какого черта ты суешь в рапорт сплетню?
– Это не сплетня, – покачал головой Должиков.
– Нет, сплетня! В широком смысле, понимаешь? Все, что не подлежит общественному разбирательству, все это – сплетня!
– Не подлежит? – прищурил Должиков свой черный глаз, как будто целясь в него, в Маслыгина.
– Не подлежит!
– А коллектив?
– Что коллектив?
– Ты дочитай, – собрал листки Должиков, положил на стол. – Тогда обговорим.
Там было и про Чепеля, и про товарищеский суд, про то, как пил Подлепич с Чепелем, а потом выгораживал его на суде, – чего там только не было! Теперь-то уж Маслыгин дочитал – до точки, до той же самой, что поставила комиссия; до той же, да не той; эта была пожирнее; он стал у этой точки как вкопанный, велел себе не торопиться и не горячиться; знал свою слабость.
Шлагбаум был закрыт, не открывался, и надо было самому открыть и взять на себя ответственность, что открывает.
– Ну, что ж, обсудим, – сказал он Должикову и по привычке, словно бы готовясь что-то черкать, подправлять, вынул авторучку из кармана.
– Обсудим, – вернулся Должиков к столу, кивнул на ручку. – Не барахлит? – Не барахлила. – Смотри-ка, сколько лет! Это ж когда ее тебе привез Подлепич? Лет десять?
– Оставь! – сказал Маслыгин. – В каких бы отношениях я ни был с Подлепичем или с кем-то другим – пусть сват, пусть брат, но это никогда не помешает мне говорить то, что думаю. Стыдливо, знаешь ли, отмалчиваться я не намерен! Подлепич – лучший мастер в смене. Это по-моему. Тебе, естественно, видней.
– Видней, – Должиков сел в кресло. – Но я с тобой согласен. Такими мастерами грех разбрасываться.
– И все-таки грешишь?
– Грешу, – сознался Должиков с покаянной грустью на лице, – Другого выхода не вижу. Время идет, Витя, а ты в отъезде, вопрос остается открытым, – сказал он, словно бы нарочно приглушая голос. – И время-то играет не на нас. С тебя же спросят и с меня: какие меры приняты? Тут, Витя, нужно радикально! Я отвожу удар.
– А ты, однако, откровенен! – как тяжкий вздох вырвалось у Маслыгина.
– Я? – удивился Должиков и даже огляделся: нет ли поблизости кого другого? – Чего ж хитрить, когда тут нету хитрости! – пожал он плечами. – Обыкновенно! Тебе-то разве не приходилось отводить удары?
– И подставлять кого-то под удар? – вырвалось снова и снова с тяжким вздохом.
– И подставлять! – как бы и в полный голос демонстрируя свою неуступчивость, воинственно ответил Должиков, но сразу, словно спохватившись, сбавил резкость, уступил: – Не знаю, может быть тебе не приходилось.
Да, вряд ли это был намек, а все же царапнуло; царапина – пустяк, но царапнуло-то по ссадине.
– Ты говорил, Илья, что за чужой спиной не прячешься… А получается не так!
– Мне прятаться, Витя, незачем, – сдвинул брови Должиков. – Я прав своих не превышаю. Я их использую. И отводить удары от участка, от коллектива – на то поставлен. Если не так выразился, давай иначе. Была комиссия парткома, вот и решаю по-партийному.
– Нет, – сказал Маслыгин. – Не по-партийному.
В этом он был убежден, несмотря на все побочное, не ясное еще ему, сомнительное, запутанное, чего набралось порядочно: Подлепич, Близнюкова, Чепель, сложность судеб, душевные изломы либо изгибы, и чтобы судить кого-то или о чем-то, нужно еще крепко разобраться, а он – не тот судья, который восседает на неприступном возвышении, он – с ними рядом, с Подлепичем, с Близнюковой, с Должиковым, в той же самой жизни, и его собственное, личное так тесно переплетено с их личным, собственным, что впору бы ему и вовсе отойти в сторонку, – благоразумней было бы, спокойней.
Но только лишь подумал он о спокойствии, о благоразумии, как тень приговора, вынесенного самому себе, легла на него, и вместе с этой тенью – против ожидания – внезапно наступила ободряющая ясность. Он спрятался уже однажды, отошел в сторонку, и как бы ни была отдаленна эта параллель, она учила его вечной мудрости: быть там, где трудно, где труднее всего – впереди. Он этому учил себя давно – по долгу, принятому добровольно, и в этом, разумеется, не было ничего исключительного, но теперь, под тенью своего приговора, он заново открыл простейшую формулу жизни: не отводить удары, а принимать их на себя.
– Извини, Виктор Матвеевич, и не сочти, что выхожу из рамок, – сухо произнес Должиков. – Но я расцениваю положение иначе. Во что выльется – посмотрим, а пока – коль уж так – ничего от тебя не прошу. Прошу только понять меня правильно и хотя бы не препятствовать.
Маслыгин понимал его: сам же как-то раз, в бесславную минуту, пытался мысленно прибегнуть к этому защитному приему, должиковскому или, сказать вернее, стереотипному, вознамерившись ценой решительных как будто мер, но показных, единым махом отвести удар и от участка, и от цеха. Потом это намерение он пропустил через себя, профильтровал, а у Должикова фильтра не было, у Должикова был стереотип.
– Не препятствовать? – переспросил. – Не смогу, Илья! Ты отдаешь Подлепича на заклание. Со слезой, в ущерб себе и справедливости, а отдаешь! То, что ты задумал, это жертвоприношение; я в таких обрядах – не участник, а поскольку не согласуется с партийной этикой, я, Илья, противник таких обрядов.
Не пошелохнувшись, Должиков сдвинул брови.
– Прости, Виктор Матвеевич, но ты уж слишком изощряешься… – сказал он каменно и с каменным лицом. – Прошу также учесть, что Старшой не считает это никаким обрядом. С ним, кстати, согласовано.
– Ну, если так… – то ли в запальчивости, то ли в нерешительности проговорил Маслыгин; сам сперва не разобрал, как это было сказано, и лишь потом, вскочив из-за стола, громыхнув стулом, разобрал.
Да, жили в мире со Старшим, в согласии, – такая длительная и даже, пожалуй, умиляющая обоих выдалась у них полоса, но, видимо, кончилась: оставив Должикова в каменной непреклонности, пошел Маслыгин к Старшому – ругаться.