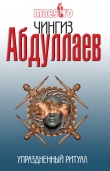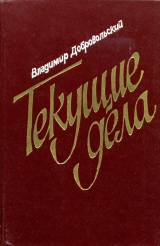
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
7
А Чепелю это собрание, эта говорильня нужны были, как рыбе зонтик, – пивка бы кружечку или, на худой конец, газировки стаканчик: в горле сохло. Чуть заступил на смену, с самого утра: запустишь гайковерт, пару гаек затянешь, и бегом – к сатуратору: задарма и уксус сладкий. Только с этой беготней, да на сдельщине, ни хрена не заработаешь.
Он успокоил себя: наверстаю. Не сегодня, так завтра. Башка у него не трещала, как у некоторых после выпивки; ко сну не клонило – выспался, много ему не надо: всегда высыпался; самочувствие было нормальное, только жажда мучила. Один опоздавший, плюхнувшись в кресло свободное, рядышком, спросил: «Об чем вопрос стоит?» Вопрос стоит, ответил Чепель, об выпить кружку пива. Чего захотел!
Баснями соловья не кормят, а все же стимул в этом был – потрепать языком или дать свободу воображению: вот он, счастья миг – собрание закрыто, аллюр – галопом за проходную, две остановки трамвая, и есть там заведение, где кружечка для Чепеля всегда найдется, а в крайнем случае откроют бочку свежую. Бутылочному он предпочитал бочковое; кто не согласен, тот в пиве не смыслит. Мухлюют, конечно, с бочковым, но все равно из бочки – вкус другой. Подымешь кружечку, сдунешь пену, поглядишь на свет: янтарь! И жалко пить. А не будет бочкового, бутылочное – под боком; лишь бы не тянули резину, поскорей закруглялись.
То, что говорилось с трибуны о трудовой дисциплине, было для него такой же нудой, как если бы посадили его в класс, раскрыли операционную карту сборочных работ и стали излагать ему суть переходов по каждой операций. Он это делал с закрытыми глазами. Он, будь даже в антифонах, в наушниках этих, как у мотористов, все повторил бы, что говорилось с трибуны. Фамилии можно потом проставить, а приговорчик готов: сорок процентов премиальных как не было. В ту обойму, ржавую, которая от собрания к собранию, от приказа к приказу хотя и подновлялась, но ржавела все более, он не попал, – ну и слава труду! Слава героям труда! – за Чепелем на участке никогда еще остановки не было, сегодня не доработал, не заработал – завтра доработает и заработает, а минус сорок процентов – или сколько там скостят – это из его кармана, не из государственного. «Ты чего приунывший?» – спросил сосед. «Кто? Я? – удивился Чепель. – Все хорошо, прекрасная маркиза!»
Он уже прикинул, кому еще стукнет в голову потянуть резину, – были такие, постоянные любители, штатные трепачи, – и предвкушал уже желанный миг счастья, но лучше бы не обольщался: Булгак на трибуну полез, Владик, а это было сверх всякой программы.
И не уйдешь, не смоешься: заметно будет, и Маслыгин – в президиуме, а Маслыгина он, Чепель, уважал, не хотелось бы падать в его глазах.
«Ваш?» – спросил сосед про Владика. «Наш, – ответил Чепель и добавил, как бы вскользь: – «Мой». Наставником был у Булгака, пока не разошлись, как в море корабли. «А я Маслыгина поддерживаю, – сказал сосед. – Что-то темнит этот… твой. С личными клеймами». – «Да, без пол-литра не разберешься, – согласился Чепель. – Давай, может, после конца чего-нибудь сообразим?» Сосед сказал, что не прочь, да жинка будет лаяться. «Точно! – сразу одумался Чепель, словно бы недоучел самое главное. – Жинка – это точно. Давай не надо».
А с Владиком вышла у него разладица как раз из-за водки; общество делится на классы: пьющих и непьющих; между ними происходит классовая борьба, – но чтобы парень в двадцать лет до такой степени мог стать ему, Чепелю, классовым врагом, этого он себе не представлял. Это было дико для него, тем паче, что никаких конкретных предложений Владику не делалось и ничего магарычевого не требовалось, – Чепель пил только за свои и только с пьющими, а пить с непьющими – что клянчить рубль у жены, то же удовольствие.
Владик вообще был ненадежен – как необкатанный движок: подведет? не подведет? Все может быть; и балансировка нарушена: где-то тихоня, а где-то крикун; где-то скромник, а где-то нахал; не имел собственной колеи – в его годы многие уже имеют.
«Вот вам глина, – сказал о нем Должиков Чепелю. И сменному мастеру сказал. – Лепи́те». Это, конечно, стоящее занятие – лепка, но сперва нужно найти общий язык. Чепель пытался, однако не нашел. Такого лепить – зря стараться, только глиной обмажешься. Сменный мастер тоже, кажется, пытался, и что? Чего они оба, наставник и мастер, добились? Сле́саря вырастили? Так он, Владик, слесарем и родился.
А до штатного трепача ему было далеко. Те тянули резину, так хотя бы укладывались в регламент, а у этого кладка была такая; кирпич – зазор, кирпич – зазор! За такую кладку надо бы дать по рукам, потому что – халтура, и лишнее время уходит на эти зазоры, но никто по рукам ему не дал, наоборот – подбросили еще кирпичей при содействии Должикова: строй! авось что-нибудь и выстроишь!
И что же он выстроил?
Ну, кладка наладилась, не стало зазоров, понесся вскачь, – и что? Вожжа под хвост попала? Лицо у него было длинное, а когда вот так пускался – напропалую, вроде бы еще удлинялось, вытягивалось и цветом напоминало слегка подрумяненный сухарь. Личные клейма, личные клейма. Оседлал своего коня. Это было знакомо Чепелю.
Вся разница между ними заключалась в том, что Владик был злой по натуре, – вот, кстати, балансировка! не зря помянута! – а Чепеля мама родила добреньким. Другой раз – обозлиться бы, но доброта препятствовала, и ничего хорошего в этом не было: на добреньких-то верхом и ездят. Конечно, характера не хватало – он таки чувствовал, – но мало ли чего кому не хватает? Жить можно.
Жить можно при любых условиях, и очень даже завлекательное это занятие: жить! Как ни мучила жажда и как ни влекло за проходную, а жизнь оттого не плошала: всему худому наступает конец, имей терпение.
Микрофон был на подставке, и подставка, штанга эта, не раздвигалась, видно, либо не догадывались раздвинуть, поднять микрофон повыше, – а Владик никак не мог приноровиться к нему и, пустившись вскачь, взял направление на президиум. В задних рядах зашумели: не слыхать.
«А оно вам нужно?» – обернулся Чепель. «Ты туда говори!» – одернул Владика председатель, ткнул пальцем в зал. Споткнувшись, Владик чуть было не грохнулся со своего коня. «А я куда говорю?» – «А ты сюда говоришь, и голос пропадает!»
– Голос не пропадает! – выкрикнул Владик, чтобы всем было слышно. – Голос пропасть не может! До каких пор, спрашиваю, будем работать нечестно?
Сразу стало веселее в зале, и Чепель повеселел: наклевывалась потеха. Сидели подремывали и, как по звонку, всколыхнулись: кто с усмешечкой, кто со смешком, а кто и с недовольством. На воре, говорят, шапка горит, но тут без шапок сидели. Если и потянуло гарью, то не от Чепеля: ну, затронет его Владик (и, наверно, затронет-таки, не упустит случая) – и что? Это ж пилюлька, которую глотнешь. – и никакого вкуса, ни горького, ни сладкого. Кто к ним, к пилюлькам, не приспособился, у тех они в горле застревают, а у него не застревало – наглотался.
Навалившись боком на стол, повернувшись к трибуне и запрокинув голову, Маслыгин спросил:
– Так кто же все-таки работает нечестно?
Трибуна была высокая: для торжеств; для критики сгодилась бы и пониже; Маслыгин глядел на нее, на Владика, как бы снизу вверх.
– Кто? – переспросил Владик, помедлив, словно сосчитывая этих, бесчестных, и сосчитал наконец, выложил на трибуну свой итог, прихлопнул ладонью, попридержал его, чтобы не сдуло ветром. – Большинство.
Ну, если большинство, тогда и вовсе легче. «На миру и смерть красна», – сказал Чепель соседу. Но до соседа едва ли дошло: пуще прежнего зашумели в зале.
– Вы, товарищ Булгак, кого сюда причисляете? – с места спросил начальник испытательной станции. – Весь завод? Весь цех? Или как?
– Я сюда причисляю КЭО, а за цех расписываться не могу, – ответил Владик. – На контрольном осмотре так: берут мотор с обкатки, и оглянуться не успеешь, уже готово, проверено, давайте следующий.
– Чикаться, да? – выкрикнул Чепель.
– А вы возьмите регламент техпроцесса, – не услышал Владик, продолжал свое, обращаясь к залу. – И почитайте, что там пишется и сколько там операций, и как это можно успеть за такое короткое время.
Хотел было Чепель еще словечко вставить, да воздержался.
– У нас же как, в большинстве? Визуально! – будто бы молоток хватанул Владик, вбил гвоздь в трибуну. – Сверили номера по карте, сверили комплектность и, возможно, даже крышки блока не снимая, подшипников не вскрывая, в карте отметились, в книге учета отметились, и – на тельфер, на малярку, иначе, говорят, если с каждым мотором чикаться и техпроцесс выдерживать, заработка не будет. Гоним, товарищи, моторы, технологию не соблюдаем!
«Дурака кусок! – про себя посмеялся Чепель. – По секрету всему свету! Ну кто ж это так делает!»
– А контролеры где? – спросил Маслыгин, морщась, как от боли.
Это же – на его голову тоже, не говоря уж о Должикове, о Подлепиче.
– Контролеры сидят и рассказывают байки, – ответил Владик. – У слесарей личные клейма, у большинства, вот и штампуют без контролеров.
Распространяться об этом было в высшей степени глупо, глупей не придумаешь, и некоторые возмутились, вскипели, а Чепель посмеивался: пускай у Маслыгина голова болит или у Должикова с Подлепичем; кому на Руси жить хорошо? Чепелю – сам себе хозяин! Он порылся в карманах, выудил серебро и несколько смятых рублевок и, пока там кипело у некоторых возмущение, взвесил все это на ладони, стал демонстративно подсчитывать.
А чтобы не подумали, будто вообще – в стороне от текущих событий, выбрал удобную минуту и крикнул Владику.
– Ты бы, Владислав Акимович, конкретнее! Невзирая на лица!
Он преследовал еще и такую цель: доставить Владику затруднение, загнать его в угол, потому что кому же приятно при полном кворуме да при начальстве позорить с трибуны своих же товарищей по работе.
Но тут он дал маху, переоценил моральные качества молодой подрастающей смены.
– Невзирая на лица, Константин Степанович, у вас многое можно воспринять, – обратился к нему Владик с трибуны. – Но когда вы находитесь после этого самого… у вас в мыслях… это самое, а не работа.
– Что у меня в мыслях, – сказал Чепель, – пускай тебя не волнует.
Переоценил человеческое благородство.
У Булгака шевелюра была современнейшая – не расчешешь; запустил пальцы в шевелюру и будто пощупал, на месте ли башка.
– А меня волнует, Константин Степанович! – произнес вызывающе. – Меня волнует, – повторил, – когда во вторник – или в среду? – был двигатель с крупным дефектом – но́мера не помню: сквозная раковина в блоке и проволокой заклепана, алюминиевой, а вы, Константин Степанович, после этого самого… не в ударе, короче… посмотрели, сказали, что хрен с ним, рядовой двигатель, не экспортный, пройдет, и клеймо свое поставили.
Как вам это нравится? Чепель сперва оборотился к соседу, ища у него сочувствия, а потом махнул рукой, сказал:
– Дурака кусок! Да оно сто лет проработает.
– Пока не пришлют рекламацию из Союзсельхозтехники, – спокойненько этак, интеллигентненько прибавил Маслыгин, по-прежнему боком сидя в президиуме, не спуская глаз с Владика. – И что же вы, Владислав, сознательный молодой рабочий, до сих пор молчали?
У Владика лицо, недосушенное, недожаренное, сразу прожарилось, стало веснушчатым, то есть казалось так: зарделся.
– А я не молчал. Я Юрию Николаевичу говорил. – Подлепичу. – А кому еще? На пятиминутке? На пятиминутке много не скажешь. Я и здесь говорю. Я и здесь говорю, – повторил он, – что пора кончать с этим отжившим делением: экспорт вылизываем, а себе, значит, можно кое-как, пускай деревня расхлебывает. Послать бы Константина Степановича в деревню, посмотреть, как на том двигателе поработал бы!
Глупость была невообразимая, передать кому-нибудь слово в слово, не поверят. Обида застлала глаза. За такое лупить надо смертным боем, но далековато был обидчик, на трибуне, – туда кулаком не достанешь.
Крупная оказалась пилюля, но ничего – проглотил, не подавился. Ничего, все нормально, жить можно.
Возведи Булгак на него напраслину, он, ясно, не простил бы, но никакой напраслины не было, нечего и ерепениться. Во вторник загулял, а в среду, в первой смене, работалось со скрипом, и подвернулся этот движок, дефектный, – дефект устранил и только тогда обнаружил раковину в блоке. Ежели кто скажет, что Чепель – шкурник и не заменил блока из корысти, чтобы побольше движков за смену пропустить, тот – дурака кусок. Замена блока – сразу пятерка в кармане, а он от этой пятерки отказался, от мороки то есть. Ну, пьющий, ну, гулящий, ну, бессовестный, но не барышник же! Булгак барышником его не назвал, и потому он недолго обижался на Булгака.
Это лишь поначалу застлало глаза.
А тут как раз потребовали от Подлепича ответа, или сам поднялся со своего места, счел нужным дать справочку по ходу дела.
Поднялся хмурый, скучный, с трудом, – узко было между креслами, – и повернулся спиной к президиуму, лицом к залу, а может, так и надо было, и все, наверно, подумали, что не у президиума, а у зала станет искать заступничества, но он, поскучнев еще более, взъерошив свою короткую стрижку, ни у кого заступничества не просил, сказал, кивая сам себе головой:
– Это верно. Был такой разговор. С Булгаком на прошлой неделе. Не о Чепеле персонально, а вообще-то был.
Когда он уже садился, и тоже – с трудом, из-за тесноты в рядах, Должиков рядом с ним, – выутюженный, вылощенный, в костюмчике, при галстучке, король экрана, любимец публики, – как бы помог ему, попридержав рукой, усесться, но без поучения не обошелся:
– Полагается, Юрий Николаевич, своевременно реагировать, а не ждать, понимаете ли, когда выплывет.
– Ничего не полагается, – с напускной невозмутимостью сказал Подлепич; можно было заметить, что – с напускной. – В своей смене, – сказал он, – я сам знаю, что полагается, а чего не полагается.
Ну, как? Чепель оборотился к соседу. Он уважал Подлепича и не жаловал Должикова, хотя именно ему обязан был многим, а Подлепичу – ничем.
8
С карбюраторными двигателями сама судьба повенчала его, и лишь впоследствии, в силу сложившихся обстоятельств, переключился на дизельные.
Чепель-отец, Степан Макарович, был шофером-профессионалом, имел после войны трофейный «опелек», потом – подержанную «Победу», и обе машинки, набегавшие не одну сотню тысяч километров, требовали к себе постоянного внимания, а у отца – только пара рук да еще шоферская служба, и говорилось в семье, что автомобильный инструмент сынишка освоил раньше, чем букварь, и никого не удивило дальнейшее развитие событий: сын пошел по стопам отца.
К двадцати пяти годам у него уже было стажу шесть лет с хвостиком, талон предупреждений – чистенький, без единой просечки, в личном деле – одни благодарности, возил он большого начальника, и все гаишники козыряли ему, даже если ехал пустой.
Но в шестьдесят восьмом, високосном, несчастливом, он был послан в город Горький за новой «Волгой», а на обратном пути поднялась пурга, замело трассу, движение прекратилось, посливали воду из радиаторов, стали ждать у моря погоды и померзли, конечно, а подогреться – бензину жалко, у всех – на исходе, заправка неблизко. Тогда один, совсем уж замерзший, достал самогону бутыль, сам разогрелся, других разогрел, и все было бы прекрасно, не наскочи ГАИ. Им говорилось русским языком: не едем, стоим, а они посадили четверых, самых разговорчивых, в свой вездеход, повезли на экспертизу, понаписали актов, позабирали права, и Чепель тоже попал в эту капеллу, хотя не столько за разогрев, сколько за разговорчики. Было это в чужой области, и начальник выручить Чепеля не мог, и лишился Чепель на год шоферской работы.
Но год-то был високосный, поганый, и покатилось – не одно, так другое: с Лидой, жинкой.
С Лидой и раньше бывали дела: куда ни пристроится, везде – не слава богу; невезучая; работала в магазине – случился пожар, сочли за поджог, таскали по допросам, был суд, оправдали, но нервов поистрепалось порядочно.
Теперь – со складом. Приняла склад, большой, межобластной; говорил ей: не иди на материальную ответственность, тебя любой жулик, зеленый, начинающий, вокруг пальца обведет. Не послушалась, пошла, приняла, а как она принимала, одному богу известно, и нагрянула ревизия, вскрыла недостачу. Он хотел бы пригласить прокуратуру в дом, чтобы посмотрели, как они живут, поискали те кубышки, где ворованное прячут, потрусили те перины, которых нет у них, нечего трусить. Дом был пуст – ни золота, ни серебра, ни сберкнижек на предъявителя, ни транзисторов, ни магнитофонов, ни горок этих, ни стенок, за которыми гоняются. Телевизор – из вещей – да плохонькая мебель, а «Победу», отцовскую, он продал еще в шестьдесят пятом, когда вторая дочь родилась.
Недостачи той пакостной, по торговым меркам, было всего ничего: три тысячи. Предложили внести, погасить – и кончен бал, но для них, для Чепелей, ради этих трех тысяч нужно было полтора года работать и притом ни крошки не есть, ни грамма не пить.
А в этот период как раз началось у него сплошное питьё.
Расклад был такой: двое детишек, супруга вроде бы под следствием, супруг вроде бы тунеядец, потому что в первые попавшиеся ворота не стучался, искал себе такое местечко, где можно было бы за короткое время поднакопить те три тысячи, от которых все зависело. Но в академики его не брали, а система автосервиса отпугивала своей сезонностью: полгода не разгибай спины, полгода – загорай на зимнем солнышке, да и трех тысяч за короткое время не добудешь, даже если нахально лезть в карман клиента, чего он не умел и что было противно ему.
Не унывая, однако, и Лиде не давая унывать, он с яростной надеждой пустился в поиски добрых душ, которых было немало вокруг, да проку только мало. Повестка дня состояла из двух пунктов: как быть ему и как быть Лиде, то есть требовалось найти выход из трясины, в которую они попали. Там, где повестка дня, там, натурально, заседательская суетня – с утра до ночи, с ночи до утра, – и заседали повсюду: в ресторанах, в кафе, в пельменных, в чайных и даже под открытым небом, если все было закрыто. Лида загрустила: «И без работы, и где-то шляешься». Вот интересно! А это не работа? Устройство! Он и сам устраивался и Лидины дела устраивал, такая работа нравилась ему, он быстро в нее втянулся.
Худо было только то, что денежки текли – не в руки, а из рук, но он про то, что худо, при Лиде умалчивал, был крепкий, здоровый, пил со всеми наравне, а ни в одном глазу, и когда грусть нападала на Лиду и даже до слез доходило, он ей толково, трезво объяснял, что никакого дела сделать без бутылки невозможно. Оно так и было: потолковать? ставь бутылку! посоветоваться? тем паче ставь! свести с тем или этим? ставь! подыскать работу? ставь две, накрывай стол в «Интуристе»! А за бутылкой, за столом, все мировые проблемы решались с такой услаждающей легкостью, что назавтра неудержимо влекло решать их снова.
Одно было худо: и денежки таяли, и ничего не решалось.
Лида пилить его не пилила, перечить ему не перечила, но, видно, пришла к выводу, что дело безнадежное, надо самой думать, и, крепко задумавшись, перебрала всех известных ей, на которых хоть как-то можно было положиться, если не опереться, и остановилась на каком-то, по ее словам, очень порядочном, солидном, чутком, который приходился ей дальней родней – седьмая вода на киселе. Она разыскала его, Должикова этого, Илью Григорьевича, напомнила о себе, обрисовала расклад в своей семье, и тот обещался прийти в выходной, потолковать.
Потолковать – значит, бутылка нужна, и опять же Лида не стала перечить, сходила к соседке, взяла денег в долг и купила две, расщедрилась: коньяк и водку. Учти, Костя: коньяк для гостя. В рифму.
Должикова он представлял себе старичком в пенсне, – вроде того учителя, школьного, попившего когда-то чепелевской крови немало, но Лида сказала, что Должиков – с моторного, и вспомнился – без теплых чувств – начальник бывший, у которого всего-то власти – на одну область, а в чужой – дулю ему показали. Тот был тучен, тяжел, страдал одышкой, и Чепелю точно таким представился Должиков.
За этот период пришлось навидаться многих доброжелателей, но там, где заседали, было проще, бутылка равняла всех мигом, а у себя в квартире, в коммунальной, в своей комнатушке, робость какая-то охватила.
Он уже привык деловые беседы вести под градусом; без градуса – пустые хлопоты. Пока Лида кухарничала, а детей услали гулять, он откупорил водку, налил сто граммов, – глаз у него был уже точный, и время то прошло недавнее, когда от водки мутило.
По теперешним обычаям, графинчики на столе были не в ходу: спешка, спешка, переливать из бутылок – вроде бы темп сбивать, но Чепель перелил, чтобы убыль была незаметна, а то, что убыло, того в нем и прибыло.
Он уже не робел перед гостем, нетерпеливо ожидаемым, и не стыдился своей квартирной бедности, но гостя не было и не было. Либо помешало что-то гостю, либо – трепач, и Лида, покончив с напрасной стряпней, вышла во двор приглядеть за детьми. Только она вышла, гость и появился.
Влетело бы ей от Чепеля, не пропусти он стопочки этой, предварительной: ее родня, Лидина, ее затея, а что ему-то с гостем велите делать? Но стопочка – за него – свое дело сделала. Еще клянут, поносят в печати, а это ж какой стимул! С этим стимулом он и встретил гостя.
Гость был не старик в пенсне и не толстяк, страдающий одышкой, молод, моден, ладен, красив, снял кожушок свой коротенький, снял шапку пыжиковую, одернул пиджак, поправил галстук, расправил складочки на сорочке, – и все синтетика, все выглажено, чистенькое, новенькое, а Лида говорила, что бобылем, отшельником живет.
«Ну, Чепели, Чепели! – покачал он головой, взглянул на стол, накрытый, парадный. – Зовете, а не предупреждаете; может, у вас годовщина, а я без подарка. – На дворе было не очень-то морозно, но он потер руки, будто с мороза, или все-таки при виде накрытого стола. Если так, то парень свой, можно не церемониться. – Меня такси подвело, – сказал он, потирая руки. – Едут мимо, не берут. Прошу, Константин, извинить. И все же, – кивнул он на стол, – в честь чего?» – Учти, Костя: коньяк для гостя! – повеселел Чепель, но Должиков его не поддержал. – Давайте, Илья Григорьевич, за знакомство, – пригласил к столу. – Пока там суд да дело». Свой парень явно, но опять не поддержал: «Ты, вижу, быстрый, Константин, а я первый раз в доме, надо приличие соблюсти. Дождемся уж хозяйки, торопиться некуда».
У Должикова была седина на висках, но это бывает: у молодого – седина; и была она вроде той синтетики на нем – гладенькая, красивенькая, с гладеньким, плавненьким переходом от серебра к помутневшему олову, и от олова – к цвету высохшей травы. Был он русый, а глаза темные, острые, и не бегали, но все как есть, кажется, кругом примечали. Учти, Костя: коньяк для гостя; уселись оба на диванчике.
«Напрасно ты разное хочешь соединить, – сказал Должиков. – У тебя одно, у Лиды другое, – положил он ногу на ногу. – Одно другого не касается. – Покачал ногой в начищенном ботинке. – Мой взгляд, если тебя интересует, заключается в следующем: надо рассматривать в отдельности. Вот и начнем с работы. С твоей, само собой».
Чепель был веселенький, смелый, и особенно бодрило его, что Должиков не замечал этой веселости, не мог заметить: от ста граммов даже запаха нет, – он тогда, в чужой области, если бы не скандалил, заступаясь за случайных попутчиков, то ничего бы и не было, это уж трубочка окаянная потом, на экспертизе, выдала его.
«Мне, Илья Григорьевич, не всякая работа подходит, – сказал он смело. – Мне подходит с калымом. Без навара я в настоящее время не выкручусь». За такую прямоту Должиков ругать его не стал. «В этом я не специалист, – сказал он по-деловому, без нотаций. – Калымить не приходилось. Работаю на слесарном участке, имею дело с дизелями и думаю так, что ты бы, при твоих прежних знаниях, это быстро освоил». – «Дизеля́? Господи! – хмыкнул Чепель. – Делов-то! Вопрос другого порядка: во что оно может вылиться? Разряда-то у меня нет. Когда еще дадут». – «У нас разряд не влияет, – объяснил Должиков. – Расценки для всех одни. Это если по бюллетеню получать или тринадцатую зарплату, тогда учитывается. Но я – к примеру. Только. – Он помахал рукой, будто бы отгораживаясь от Чепеля. – Безотносительно. К себе тебя не зову, а попросишь, не возьму, я строг, Константин, а ты разболтан, вижу, и затруднишь меня из-за Лиды, поблажлив буду к тебе, чувствую, а это не годится. Да и работа – не проблема, – добавил Должиков помягче, с виноватостью в голосе. – Хоть у нас на моторном, хоть где. Возьмут не глядя». Проблемы хорошо решать за рюмкой – всякие, мировые, – а без рюмки стало скучновато Чепелю, и даже стал он понемногу обижаться. «А вы-то, Илья Григорьевич, всегда ль на зеленый ездите? Исключительно? И кем вы, извиняюсь, будете там, на моторном?» Должиков улыбнулся; улыбка у него была, надо признать, приятная. «Да я же говорю. Слесарно-сборочный участок. Мастер я». – «Ах, мастер! – открыто разочаровался Чепель. – В общем, тот же рабочий класс!» Все еще улыбаясь, но суше как-то, бледнее, и постепенно сводя на нет эту приятную улыбку, Должиков спросил: «Что подразумеваешь?» – «Да ничего! – смело ответил Чепель. – Устраиваться надо. А в этом рабочий класс ничего не может». Должиков искоса глянул на него – как две черные дырки просверлил. «Ошибаешься, Константин. Рабочий класс все может». Хозяйку дожидаться, с тоски помрешь. Или с голоду. «Плохо, Илья Григорьевич, когда движок холодный, а шофер голодный. А то бы я вам сказал… Над Лидой три тысячи висят; какой же рабочий класс, даже имея что-то в кубышке, даст вам взаймы эти три тысячи на неопределенный срок?» Должиков помолчал, покачал ногой, нагнулся, стер пальцем пятнышко с ботинка. «Знаю, – сказал он помрачнев. – Лида мне говорила. Играете, играете, доигрались. Как дети. Мое хозяйство – по столовкам, – объяснил он и взялся за лацкан пиджака. – Вот все, что на мне, – И снова помолчал. – Три тысячи есть. На свадьбу берегу, – улыбнулся опять. – Приданое». У Чепеля, ей-богу, сердце застучало; ну вот она, стопочка, ну вот она, милая; без стопочки разве припер бы он Должикова к стенке? Застучало и оборвалось: да где же это писано, что припер? На какой бумаге? На каком соглашении? «Учти, Костя: коньяк для гостя! – повторил он свое сегодняшнее, полюбившееся ему изречение. – Деньги есть, но не дадите ж!» Должиков встал, прошелся по комнате. «Почему не дам? – обернувшись, просверлил Чепеля двумя черными сверлышками. – Дам. Не тебе, конечно, ты лоботряс, я тебя вижу насквозь, а Лиде дам. Лида мне дальняя, но по материнской линии, а мать, знаешь, святое… – И расчувствовался. – Ну, давай по рюмочке за святость!» Учти, Костя, коньяк для гостя!
Он дал-таки эти три тысячи, Должиков, и потом отрабатывали долго их, возвращали по частям, но возвратили. Через год Чепель сел опять за руль, однако не суждено было, видно, ему приумножить шоферский стаж: опять поймали на том же, на пьянке, машина во дворе ночевала, поехал за водкой – рядом, к дружку, и напоролся, – один шанс из тысячи.
А у Должикова слесарей стало не хватать, и пошел к нему; работа все-таки знакомая и хлебная; к тому же завод построил девятиэтажку в новом районе, пообещали квартиру.