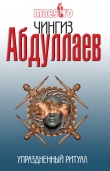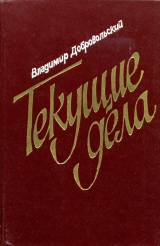
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
31
Светка, единственная из всех цеховых пропагандистов, каким-то образом попала в заводской авангард: о ней вещало радио. Маслыгин сам не слыхал этого, но сообщили.
Он тотчас же помчался в радиоузел, потребовал текст, убедился, что так и есть, нашумел-нагремел, обвинил редакторшу в халатности, верхоглядстве, самоуправстве, погрозился довести это до сведения парткома и немедля исполнил свою угрозу, нашумел-нагремел и там. Почему такое с ним не согласовывают? Почему трубят о Табарчук, которая на этом поприще без году неделю и ничем еще себя не проявила? Смех на весь завод! Самое смешное было в том, что как раз она, Светка, упрашивала его притихнуть на неделю, нигде не шуметь-не греметь. «У меня десятка полтора кандидатур! – гремел он. – Должиков, к примеру, – это же поистине образец, опытнейший агитатор, использует каждую свободную минуту, тщательно готовится к занятиям, пропагандист с пятнадцатилетним стажем!» – «У твоего Должикова, – сказали, – слесаря ночуют в медвытрезвителях». – «Мы не автоматы! – загремел Маслыгин. – Бросили монетку, и выскакивает сдобная булочка? Провели беседу, и Чепели переходят на кефир? Вы здесь оторвались от реальности, забыли про черный хлеб!»
Он бы вконец разругался с обоими заместителями секретаря, если бы не подоспела телефонограмма, предписывающая всем, кто был оповещен об отсрочке семинара, теперь уж незамедлительно выезжать.
Мысли его тотчас изменили направление, но не остыли: предстояла дорога, встреча с Ниной. Он помчался в цех, предупредил кого следует о своем отъезде, оставил необходимые рекомендации на ближайшее время, сделал то, что можно было сделать за каких-нибудь два часа, позвонил в аэропорт, узнал расписание, заказал билет на самолет и отправился домой – собираться в дорогу.
Сборы были недолги, дорожный чемоданчик уложен и, пока еще не стемнело, он пошел, чтобы ублажить отца, в садик, прихватив с собой садовничьи принадлежности. Отец был не молод уже и не крепок, но пекся, как встарь, о садике, и, собственно, ради отца он, Маслыгин, и держался отчего дома, не уходил никуда, хотя давно уж пора было обособляться им с Ниной.
Отец-то и привил ему вкус к садовничеству; ублажая отца, он и сам ублаготворялся, но на досуге, а не в спешке, как нынче, перед самым отъездом. Нынче ему не работалось, и когда окликнула его с улицы Светка, он не столько удивился ее нежданному появлению, сколько порадовался поводу передохнуть.
Через дом она не пошла, что было ближе, а кружным путем вошла в калитку: отец не жаловал ее, привязан был к Нине и считал, что приходит Светка только затем, чтобы заводить шашни с его сыном.
На ней, несмотря на теплую осень, было полузимнее длиннющее пальто, отороченное снизу мехом и подпоясанное широким ремнем. Здоров, солдат, сказал Маслыгин, садись. Ничего солдатского, кроме ремня этого, в ней, разумеется, не было, но все-таки он подметил что-то солдатское в том, как подошла она, протянула ему сверток, отрапортовала:
– Разнесся слух, что ты отбываешь. Это – Ниночке. Ее слабость. Миндальный торт с цукатами. Мэйд ин Ю-эс-эс-ар, – сказала она по-английски, но с варварским произношением. – То есть изготовлено моими предками по фамильному рецепту.
С ними у нее дипломатические отношения были восстановлены, хотя к свадебному церемониалу она их даже близко не подпустила.
– Весьма тронут, – сказал он в тон ей, по-солдатски, чтобы отцу, если следит за ними из окошка, было слышно.
На то же, видимо, рассчитывала и она – рапортуя.
А он был в самом деле тронут, ибо гостинец предназначался Нине, а все, предназначавшееся нынче ей и к ней относящееся, особенно трогало его.
Сверток он положил на скамейку, сели, Светка спросила его, когда едет, он ответил, и еще спросила, что за срочность копаться в саду, – объяснил. Проговорено это было поспешно, – она спрашивала, он отвечал, но спрашивала вскользь, дорожа временем, чтобы успеть перейти к главному, – так ему показалось.
– А теперь слушай… – поспешно сказала она.
Он, однако, опередил ее:
– Нет, сначала послушай ты…
Не пропуская ее вперед, он рассказал, как пришлось ему нынче пошуметь-погреметь, вправить кое-кому мозги. Тем самым он словно бы выговаривал ей за чужую провинность, а она была ни при чем, – так что зря, пожалуй, он все это наговорил. У нее на лице, сменяясь поочередно, промелькнули растерянность, встревоженность, уныние, возмущение.
– Понапихали туда девчонок, на радио! – пнула она ногой камешек, сковырнула – покатился. – Одна бездарнее другой! Дальше кинозвезд, телепостановок и тряпок интересы не простираются. Зайдешь к ним – вечная тема: мини, миди, макси. Что-то примеряют, перекупают, перепродают. От кого же требовать ответственности? – Она молитвенно сложила руки – ладошку к ладошке. – Я сожалею, Витя, что так получилось.
– А ты у них бываешь? – спросил он. – У этих… девчонок?
– Где только я не бываю! – страдальчески закатила она глаза. – Запрягли!
Впрочем, сама запряглась; он этого ей не сказал.
Те материалы, которые просила посмотреть, он посмотрел и был тогда в недоумении: зачем это ей понадобилось? Обычная технологическая разработка. Такие разработки внедряются по мере производственной готовности; подталкивать внедрение – рвать где-то технологическую цепочку. Он был в недоумении, но больше задумываться над этим не стал – подоспели другие дела, а это было дело техбюро, не его.
Теперь, однако, нащупалась иная цепочка – психологическая, соединившая ту просьбу, Светкину, с этим казусом, нынешним. Соединение было непрочное, гипотетическое, да он и не старался ничего соединять, – само соединилось.
– И еще замечу, – сказал он угрюмо, – что ты меня идеализируешь. – О просьбе своей она не заговаривала, ко он решил заодно уж перед ней отчитаться. – Я, представь себе, как раз из тех перестраховщиков, которых ты остерегаешься. Так что твои технологические выкладки попали не по адресу.
– Да бог с ними, с выкладками, – вздохнула она, но не сокрушенно, а в каком-то мгновенном наплыве внезапного безмятежия. – Посмотри, как хорошо.
Он посмотрел. Жирно чернела вскопанная земля под яблонями, голые лакированные ветви с графической четкостью обозначались на блеклой, чуть тронутой пробелью, голубизне осеннего неба, зелень еще держалась, густа была сирень, но тоже блеклая, никлая, а тополи вдоль забора – одноцветны, мертвенно-желты.
– Не знаю, в чем ехать, – сказал он озабоченно. – В пальто? В плаще?
– Ну кто же едет теперь в плаще! – смахнула она соринку с его плеча. – Там, в объяснительной, записано, – продолжала она тем же тоном, – в случае эпизодического увеличения дефектности предусмотрен запасной вариант: переход на старую технологию.
– Я перестраховщик! – слегка загорячился он. – Понимаешь? По новой технологии не только отпадет надобность в третьей смене, что само по себе замечательно, но и образуется излишек рабочей силы, что тоже крупный выигрыш при нашем некомплекте. Естественно будет перебросить слесарей на другие участки. Но вот, представь себе, пошли дефекты, а они пойдут. Сегодня на сборке гарантий у нас еще нет. И кем же будет осуществляться твой запасной вариант? Людей-то отпустили. Участок сорвет программу!
Светка прищурилась, подумала, ответила не по существу:
– Должны позаботиться производственники, чтобы не было срывов.
– А ты кто? Представительница чистой теории? Видишь, зимняя яблоня? – показал он. – Хочешь – угощу?
– Нет, спасибо, – отвернулась она. – Кислятина.
– Через недельку будет в самый раз. Знаешь, что важно в садовом хозяйстве? – спросил он. – Вовремя снять плод. Не раньше и не позже. Торгашам не терпится – везут на базар зелень. Ты тоже собралась обрывать недозревшие яблоки. Не по-хозяйски! Я только не пойму, зачем тебе это нужно.
Она опять смахнула что-то с его плеча.
– Прекрасно понимаешь, Витя. Сам сформулировал. Крупный выигрыш при нашем дефиците. – Она поджала губы. – Я не торгую яблоками на базаре.
– Выходит, что торгуешь, – сказал он так безапелляционно, как если бы та самая цепочка, психологическая, действительно соединила два Светкиных казуса, настороживших его.
– Ах, Витя, Витя! – снисходительно пожурила она несмышленого обидчика. – Энтузиастов подозреваешь в торгашестве. Простушек – в хитростях. Но я, и правда, упустила из виду, что людей с участка заберут. Это уже аргумент! Подождем, следовательно, когда созреют яблоки, – тряхнула она головой и сейчас же осведомилась деловито: – У тебя всё? Или есть еще критические замечания?
Ему послышалась ирония в ее вопросе, а между прочим он мог бы критикнуть ее и за Булгака или, по крайней мере, выяснить для себя, как она относится к парню, не делает ли из него забавы. Но это было бы, пожалуй, преждевременно и, может статься, даже бестактно. Он искоса взглянул на нее, пытаясь вообразить себе, что мог бы увидеть в ней Булгак. Она была бесспорно хороша, но хороша не для Булгака. И не для Маслыгина. Его глаз уже привык к ней, как привыкают к свету после темноты. Она была хороша для Должикова – это бесспорно, и если жизнь, сводя их, действовала наугад, то главное, что требовалось, – угадала.
– У меня всё, – сказал он и посмотрел на часы; уже смеркалось.
– А у меня кое-что имеется, – тоже посмотрела она на часы. – С твоим выдвижением – порядок; еще, конечно, будет утверждаться, но, я считаю, утверждение – формальность.
Она проговорила это без всяких голосовых эффектов, на которые, кстати, была мастерица, – проговорила просто, буднично, как о будничном деле: застопорилось, а теперь вот сдвинулось с места.
Он тоже подумал об этом как о будничном деле – приятном, конечно, но и чем-то неприятно задевающем его. Сдвинуться сдвинулось, однако не сразу, и лучше бы весть эту принесла ему не Светка, а кто-нибудь другой.
– Твои прогнозы, оказывается, точны, – насильно улыбнулся он. И лучше было бы ему обойтись без Светкиных забот, без ее участия. – Но объясни мне, что там за чехарда с этим списком? – спросил он ворчливо. – Что они крутят?
Не нужно было ему никаких объяснений – тем более от нее, а нужно было прекратить на этом разговор, но он спросил из деликатности, что ли, либо желая как-то скрыть свою неловкость, – такое было ощущение словно кто-то чужой самовольно вторгался в его жизнь.
– Не чехарда, Витя, а замена, – небрежно сказала Светка и этой небрежностью как бы дала ему понять, что догадывается о его чувствах. – Пойду, пока светло. – Уже темнело. – Да ради бога! Не нуждаюсь в провожатых. Тут до трамвая – два шага. Подлепича решили не включать, – так же небрежно добавила она. – Тебя включили.
Он словно бы предчувствовал, что в этой вести, принесенной ею, будет что-то недоброе. Она пошла к садовой калитке, опять в обход, а он – за ней: дорожка была узкая – меж яблонь.
Это ошеломило его: Подлепича решили не включать. Кто, собственно, решил? На каком основании? По-глупому он весь свой гнев обрушил на Светку, как будто бы она решала или была ответственна за чьи-то решения.
Остановились у калитки, в смятении он позабыл, что одет не для улицы, хотел идти дальше, теперь уж готов был без конца говорить.
– Посмотри на свой вид! – образумила его Светка. – И почему ты ставишь под сомнение коллегиальный арбитраж? Там взвесили, кто больше сделал, чей вклад весомей. И долго взвешивали, тщательно. Вот тебе и чехарда!
– Да нет же, нет же! – воскликнул он. – Мы тогда работали на равных!
Они тогда работали на равных, с той, правда, разницей, что у Подлепича не было ни малейших колебаний в работе, а он заколебался однажды и как бы возвел это выросшее из частности колебание в некую обобщающую степень. Частность состояла в том, что по первоначальному замыслу предполагалось оборудовать испытательный стенд особым, не применявшимся ранее дистанционным управлением. Эта новинка, придуманная в НИИ, выглядела на первых порах заманчиво, и даже Подлепич, практик, за нее ухватился. Изъян, однако, был в ней существенный: она удорожала смету и не обещала мотористам значительных выгод. Тогда-то он, Маслыгин, и отверг эту новинку вчистую, и позже непригодность ее подтвердилась, но вышло так, что свое отношение к ней он невольно перенес на всю проделанную вместе с Подлепичем работу – чрезмерно увлекся обобщениями. Те времена, когда первейшую опасность для рационализаторства представляли ретрограды, шарахавшиеся от всего нового, счел он пройденным этапом и видел опасность в безоглядной поддержке любого технического начинания независимо от того, какую даст оно экономическую выгоду. Он опасался, что новый стенд окажется для завода слишком дорогим удовольствием, но эти его опасения, к счастью, оказались напрасными. Если бы не Подлепич, терпеливо внушавший ему веру в их общее детище, наверняка бы он отстранился от работы.
Вот как это было.
О том рассказывать Светке он, разумеется, не стал; жаль, что я еду, сказал, а то бы…
– Раз уж так, Витя, нанимай адвокатов, – перебила она его, положила руку ему ца плечо. – Но сам не адвокатствуй. Твое адвокатство выльется в конфликт, а конфликтовать сейчас тебе совсем уж ни к чему.
Она по-прежнему опекала его, как будто ничего не произошло между ними нынче или произошло, но сгладилось тотчас же, а он полагал иначе: сгладится, пожалуй, но позже, не теперь, когда она утомила его своей назойливой опекой, смутила, вывела из равновесия, пыталась порадовать, однако огорчила, и садовничьих трудов из-за нее не завершил он, стемнело уже, надо было двигаться в путь, и сверток-гостинец лежал на скамейке. Ему и сверток этот показался достойным приложением ко всему, что теперь удручало его.
Такая была окрыленность в предвкушении встречи с Ниной, а уезжал-улетал бескрылый, смутно было на душе.
32
Год назад, когда уже перетрясли всю медицину и, кажется, всё перепробовали, взялась лечить Дусю одна старая бабка – травами. Припечет – станешь кланяться и знахарям, и шаманам, и самому господу богу. Припекло – дальше некуда. Бабка та была в некотором роде знаменитостью, к ней ездили издалека, и он, конечно, ездил. Как водится, рассказывали про нее чудеса, да и больничная медицина, свое уже перепробовавшая, сама порекомендовала попробовать еще и бабкины народные средства. Бабкой, правда, немедленного чуда обещано не было, но дальний расчет она сделала и, глядя трезво на Дусин застарелый недуг, дальности не определила. Дальность была в пределах года, и весь этот год он ездил к бабке, пополнял травяной запас, а Зина уж изготовляла настои, носила их в больницу, Надо было набраться терпения, и набрались, ждали обещанного чуда, хоть маленького. В ту субботу, когда угораздило его угостить Чепеля коньячком, это маленькое чудо, по Зининым словам, начало свершаться. Была до субботы обнадеживающая неделя у Дуси, а в субботу и сам больничный бог, осмотревший ее, бросил Зине фразу, вовсе уж обнадеживающую.
Только гости разошлись – Булгак и Чепель, – как прибежала Зина из больницы, обнадежила. Та суббота, обнадеживающая, была сущим праздником. Но не до конца – до какой-то черной точки.
Точка эта обозначилась не сразу, – сидели с Зиной на кухне, и она, захлебываясь, рассказывала, и все обыденное, текущее, светлое и темное, отодвинулось назад, как бывает в праздники. Светлым было заводское или оттуда, из цеха, протягивающее нить: с Булгаком вроде бы завязывалось содружество, да и с Чепелем – казалось тогда – налаживается смычка, и по технической части задуманное обретает плоть. Темным было домашнее: тоска по Оленьке, обида за Лешку, глыба, громоздившаяся на пути. Темным, было желание поломать к черту проклятую перегородку, которая стояла между ним и Зиной, а поломать он не мог, потому что сам же поставил. Сами поставили, самим и ломать, – чего проще! Но это другим такая простота давалась прямо в руки – только не им. Тогда, однако, в ту праздничную субботу, всё отодвинулось назад, пока рассказывала Зина, – и темное, и светлое. Светлее того, что она рассказывала, не было ничего.
«Ну спасибо тебе!» – расчувствовался он, выслушав ее, но мало было этого – этих слов, требовала счастливая минута чего-то еще, чтобы выразить нахлынувшее, а оно ведь, ей-богу, до слез могло довести хоть кого. Спасибо тебе! Ну что выражали слова? Обнять бы, прижаться бы, да нельзя! Она ему и подходить-то к себе не разрешила. Он встал, повернулся круто, пошел в комнату. «Штаны почисть! – крикнула она. – Неряха!» С этим ремонтом – куда ни сядешь, везде известка.
Штаны почисть, подумал он, вот уж проблема, зачем их чистить? Ему остыть нужно было, и он присел к столу, взялся за тот чертежик, который сварганили они с Владиком. Но это уже не лезло в голову.
Он посидел немного, стараясь остыть, прислушиваясь: что там на кухне? На кухне было тихо. Справляли светлый праздник – в тишине. И только он подумал об этом празднике, как стала надвигаться та самая черная точка, – потом уж он так ее окрестил. А окрестил ее так потому, что все было светло до нее и вдруг в одну минуту потемнело, почернело. Он не с любовью подумал о Дусе, а с ненавистью. Дуся испортила ему жизнь, исковеркала, – так он подумал о ней. Сама нарвалась на беду, подумал он, напросилась в колхоз. Это была страшная минута, когда он об этом подумал, страшнее ничего не помнил он в своей жизни. Это была черная точка, – ею он, прежний, закончился, и начался кто-то другой, по гибельному жребию подменивший его. И тот, другой, как бы разбежавшись, уже не мог остановиться. Праздник, праздник, подумал он, в чем же праздник? В том, что свершилось маленькое чудо? А если большое, подумал он, что тогда? Большое Дусино – назло медицине! Они с Зиной даже мечтать вслух об этом боялись – чтобы не сглазить, не спугнуть.
А может, не того они боялись?
Праздник.
Какой же праздник, подумал он, если глыба на пути, перегородка, которую нельзя ломать? Какое же чудо, если, свершившись, нарастит глыбу до неба, облицует перегородку гранитом? Что же он раньше-то об этом не подумал? Что же они раньше-то с Зиной об этом не подумали? Зажать себя в железных тисках, не сметь шевельнуться, и только мысль такая родится, глушить ее обухом, крушить кувалдой, плющить под прессом? Это можно. День, месяц, год. Даже год, подумал он, даже несколько лет. Но не вечно же? Сидя за столом, обхватив голову руками, он увидел перед собой вечность. От этой черной точки, от праздничной субботы, от страшной мысли, заставившей его содрогнуться, протянулась мучительная дорога, которой не было конца. На этой дороге всем находилось место, кроме Зины. А Зину куда же, подумал он, как же без нее? Дорога эта все дальше и дальше уводила его от Зины и там, во мгле, он видел черту, за которой потеряет ее навсегда. Возможно ли? Какая ж это жизнь? Он воображал себя мудрецом, не позволяя себе сближать их в своем сознании – Дусю и Зину. Он не мудрец был, а дурак. И трус. Он бежал от самого себя. Он думал о них порознь и тоже строил между ними стенку, а нужно было ломать ее и ставить их рядом. Только так, подумал он. И ставить себя рядом с ними. Потому что мысль была простая и теперь давалась в руки просто: будет Дуся – не будет Зины, а чтобы всегда оставалась Зина, Дуся должна уйти. Куда?
Он был уже не он, и показалось, что это во сне. Он вскочил, побежал на кухню, будто там было его спасение, или – чтобы проснуться. Но он не проснулся, и спасения не было, – была Зина. «Ты что?» – глянув на него, встревожилась она. Он подбежал к ней, схватил ее за плечи: «Знаешь, что-то приснилось!» – «Ты что? – повторила она, отшатнувшись от него. – Развезло?» Бутылка была неполная, он выпил меньше Чепеля – наполовину, но с непривычки могло и развезти. То ж алкоголь, подумал он, парализует мозг. Он ничего уже не чувствовал, словно и не пил, но что-то невероятное происходило у него в мозгу. «Да это – голова, – как бы успокоил он Зину. – Стала слаба голова, – потер он лоб. – Я, кажется, больше так не могу… Пойду проветрюсь».
Он ничего не надумал нового и не запомнил, что сказала ему Зина и как поглядела на него, какими глазами, и не запомнил ощущения близости к ней, когда схватил ее за плечи, и только помнилось ему, что выскочил, одевшись, из дому, а на дворе был тихий осенний дождь, и он очень долго ходил по улицам под этим дождем.
Но, слава богу, точка, черная, осталась позади.
Когда он вернулся, Зины уже не было, а зря: тот, подменивший его, ненастоящий, растворился в нем, настоящем, и мучила жажда – излить душу. Кому ж еще мог он довериться, как не Зине? Но даже в этом был ему отказ.
На участке, на людях, они обычно хранили взаимную строгость в каждодневном общении, а то и вовсе, коль не было крайней нужды по работе, избегали друг друга, но утром, в понедельник, после пятиминутки, она подошла к нему, спросила: «Ну, как ты?» Он ждал ее в воскресенье, не дождался и, честно говоря, затаил обиду: не холодком ли повеяло? Где выдержка, стойкость, а где холодок, равнодушие, – кто это измерит? «Эх, Юра, – сказала она, – мне бы твои заботы, нам ли с тобой это мерить, считаться… Ту ночь я не спала, с ума сойти, неспавшая – в больницу, думала, и ты придешь…» – «Думала! – вздохнул он. – Не мог я!» – «Да что ты все не можешь и не можешь… Надо!» – «Надо, – согласился он. – Но ты по себе не суди».
Она судила по себе и потому могла туда ходить, а он не мог. Он тоже ходил, хотя и пореже, чем она, и не засиживаясь, как она, возле больной, но в то воскресенье после всего случившегося с ним не в силах был пойти, нельзя было ему. И не себя он выставлял наперед, а Дусю: прочтет же на его лице все, что с ним случилось. Она умела это читать. И нужно было сперва очиститься от этого – все вымарать, написанное в ту черную субботу, все вырубить зубилом, выжечь огнем, а тогда уж идти.
«Не хуже ей?» – спросил он осторожно, хотя по Зине видел, что не хуже. Ему не перед Дусей было совестно, что не пошел к ней в воскресенье, а перед Зиной. Он верил: черная суббота позади, но не сама по себе сгинула, не сон это был, не кошмар, который меркнет в памяти, как только проснешься, а стрелочник перевел стрелку, и поезд покатился по заданному пути. Стрелочником был он сам. «Ну что ты? Хуже? – удивилась ему Зина. – Теперь уж хуже не должно быть! Теперь на поправку пойдет. Стучи по деревянному!» И он постучал, и она постучала.
Стояли в проходе невдалеке от испытательной станции, ровный непрекращающийся гул доносился оттуда, мотористы, с антифонами на ушах, толпились у сатуратора.
«Кто первый? – появился Чепель. – Я, значит, буду второй». Он растолкал всех, нацедил себе газировки, подмигнул по-свойски, поднимая стакан: «За дружбу народов!» – «Не крутись под ногами, – сказала Зина. – Иди зарабатывай гро́ши». При упоминании о заработке Чепель как-то грустно улыбнулся.
Тогда еще не прибыла на завод разоблачительная повесточка, а когда прибыла, то более всего возмутило, что не подошел Чепель, не признался.
Работали в ночной – без Булгака, и как ни хотелось наказать Чепеля, отказать ему в доверии, но это ж – производство, не учебный класс, квалификация – на первом плане: все сложные дефекты приходилось отдавать ему.
Под утро, отправив на малярку последнюю партию ночных двигателей, Подлепич прошелся между стендами, остановился возле Чепеля.
И теперь не признается? Укладывал инструмент.
Та каверза, подстроенная кем-то против Булгака, забылась уже на участке, и Подлепич про нее забыл, но вдруг вспомнил. Случайности, впрочем, тут не было никакой. Подобравшись к этому окольным путем, он спросил у Чепеля, как расценивает каверзу: баловство, шутка, или кто-то сводил счеты с Булгаком?
– Запоздало интересуешься, Николаич, – головы не поднял Чепель, перекладывая инструмент без смысла. – На спидометре километраж уже другой.
Да не разобрались же тогда, надо ведь разобраться. А зачем? А затем, что с копейки начинается рубль – простая философия, как было отмечено предыдущим оратором в прошлую субботу. С копейки – рубль, с баловства – пакостничество, с обмана – подлость.
У Чепеля была удобная позиция: повернулся спиной, готовил стенд для сдачи сменщику.
– Никак стукачи у тебя завелись, Николаич? – что-то там раскладывал-перекладывал. – Не Булгак ли?
– Стукачей при себе не держу, Константин. А с Булгаком на этот счет даже разговора не было. Это чистое умозаключение. На основе завязавшейся дружбы. Скрепленной коньячком.
Гайка валялась на полу, Чепель отшвырнул ее ногой – под соседний стенд. Подлепич нагнулся, поднял: брак; отнес туда, где сваливали бракованный крепеж.
К Чепелю он возвращаться не стал: что сказано, то сказано, а теперь очередь за Чепелем, коли соизволит что-нибудь добавить.
Чепель догнал его возле должиковской конторки.
– Слышь, Николаич, – забежал вперед, преградил дорогу, – ты меня не оскорбляй. Ты вот за всяким дерьмом нагибаешься, после меня убираешь и тем оскорбляешь.
– Вот как! А говорил же: мети метлой, мастер.
– Сам буду мести! – ударил себя кулаком в грудь Чепель. – Слово! А с гровером – то была шутка. Совпало так: комиссия! И в субботу, – шмыгнул хищным носом, будто прослезился, – тоже совпало. Жизнь, Николаич, построена на совпадениях. А у меня – так вообще…
– Что – у тебя? – спросил Подлепич с горечью, с горькой насмешкой и махнул рукой, пошел в конторку.
Стоило труда перевести стрелку, не наговорить Чепелю того, что всякий на его, Подлепича, месте наговорил бы, или он сам – на своем месте – мог бы наговорить. Это было лишнее – навязываться зрячему в поводыри; он придерживался такого правила: не навязываться. Зрячий должен до всего дойти сам, а с поводырем ни до чего не дойдет. Горечь вскипела, горькая насмешка: было бы Чепелю на что жаловаться! Да ты, мил человек, и горя-то не хлебнул, еще нахлебаешься – тогда узнаешь, на чем жизнь построена. Греби не греби, мети не мети – лед под снегом. Простая философия. Ну и покорись, подумал он, легче будет. Не велено! А кем не велено? Жизнью. Той же философией. Значит, жизнь-философия сама же роет яму тебе, подумал он, и сама же велит не падать. Жизнь, подумал он, есть непрестанная, каждодневная борьба с этими ямами, с этими глыбами, которые громоздятся на пути, с этими стенками-перегородками, но все равно ты должен сам их ставить. Ты обязан, подумал он, сделать жизнь закономерной, а не случайной. Это каждый сказал бы Чепелю, но он, Подлепич, не должен был уподобляться каждому. Хочешь одолеть Чепеля, не говори того, что каждый скажет, подумал он, ищи свой путь. Глыба на пути? Ищи. Машинист прет себе, куда рельсы ведут, а стрелку переводит стрелочник. Ты стрелочник, подумал он, переводи.
Он пошел в конторку закрывать наряды.
Было еще темновато на дворе, осень, он включил свет и так сидел, копался в нарядах при свете, пока не явился Должиков, не выключил. Накануне как раз говорилось – тут же, в конторке – про сон молодой и стариковский. Должиков был мужчина в расцвете, но тоже, видать, не спалось ему: явился раньше времени.
– Да, не спится чего-то, – снял пиджак, надел халат. – Не в руку бы сон: захожу к Старшому, а там – гора рекламаций на нас. Откуда столько набралось? Вчера же не было! Вчера не было, говорит Старшой, а сегодня есть. Просыпаюсь, и так, знаешь ли, благостно на сердце, но заснуть не могу. Вдруг, думаю, вещий сон. Мы ж, Юра, на производстве, как на вулкане, – застегнул он халат, оглядел свое отражение в оконном стекле. – Ничем не застрахованы. – И добавил хмурясь, недовольный своим видом: – Да и на шарике нашем земном тоже как на вулкане. Ты как думаешь?
– А я закрываю наряды, – сказал Подлепич.
Кругом такое, а он закрывает наряды! – вроде бы не поверил Должиков, усомнился, подошел, посмотрел.
– Надают нам с тобой в итоге, Юра, по шея́м! – сказал он бодро и даже с гордостью, пожалуй. – Режут уж розгу, наготавливают. Это факт. И понимаешь, крыть-то будет нечем. Спускай штаны, подставляй задницу!
– А ты не спеши, – сказал Подлепич. – Одной задницы хватит.
Мне-то что, подумал он, этого ль пугаться; стрелка переведена, поезд тронулся, едем с Зиной в разных вагонах и пока едем – ничего, ехать можно, в дороге все стерпится, а вот приедем – что тогда? Где-то ж должна быть конечная станция, подумал он, и там-то спросят: куда приехали, зачем? Розга – что! Розга – пшик! У Должикова станция другая, подумал он, другой поезд, купейный вагон, – потому и пуглив!
Пугливым становясь, напускал на себя Должиков чуждую ему мужиковатость.
– Уж раз пошла такая свадьба, задницы штабелями ложат. – Он сам хвалился как-то, что умеет подстраиваться под любого – и под интеллигента, и под хама. Считал, что в этом сила. – В одной упряжке, Юра! – сказал он дружелюбно, дружески. – Обоим отвечать.
– Ну, так ответим, Илья. Не велика беда.
Неровность была в мыслях: то представлялся стрелочник этаким богатырем и утверждалась неограниченная власть стрелочного перевода, то думалось, что поезд обречен – и шпалы повыдернуты, и рельсы кривые, и буксы горят. Каждый пуглив по-своему.
– Ответим, – кивнул Должиков и руки засунул в карманы, халат на себе натянул. – Ответим, но чем? Задницу подставить – это не ответ.
– Ответ, Илья, – сказал Подлепич. – Начали квартал не худо. За прошлую декаду в среднем – сто три процента. Качество – тоже. Нареканий нет.
Опять, подумал он, стучать по деревянному? Сейчас скажет: стучи. Не сказал.
– Сегодня без нареканий! А завтра? На вулкане живем! – высвободил Должиков руки, выдернул из карманов, сжал кулаки, потряс кулаками. – Напряженно работаем! На пределе!
Как работали, так и будем работать, подумал Подлепич, пока сами себе не обеспечим надлежащих условий.
– Тетрадка моя лежит? Без движения?
– А ты хотел, чтобы пулей летела? – не то пошутил Должиков, не то подосадовал. – Это быстро не делается. – Смешливые морщинки собрались у кротких озабоченных глаз. – Я вот подумываю в отношении технологии. Упрощенной. Это можно бы с ходу провернуть. Как ты смотришь?
– А никак, – ответил Подлепич, хотя ту папочку перелистал: Ильи супруга приносила на участок. – Чего это мне у технологов хлеб отбивать? Пускай прогнозируют на основе практических данных: сядем в лужу с этой технологией или не сядем. Я лично считаю, что сядем: не готовы. Сборка, естественно, не готова, не мы.
– М-да… – протянул Должиков разочарованно, будто была надежда и не стало ее. – Это ясно. Это кому-нибудь, возможно, не ясно, а нам с тобой… Но производство производством, Юра… – крякнул он. – Не за то будут бить. За бытовые срывы. Пришьют либерализм. И будут правы. Пьянство и хулиганство в смене, – вытянул палец, указал, в чьей, – а мы… либо бездействуем, либо паникуем!
Это о нем, о Подлепиче, говорилось: и бездействовал, и паниковал. Вчерашняя вспышка, однако, теперь казалась минутной слабостью. Уволюсь! Уйду! Да разве уволишься? И разве уйдешь? Вспыхнуло и погасло – перевел стрелку. Должиков тоже, пожалуй, перевел: вчерашний утешитель сегодня сам нуждался в утешении.