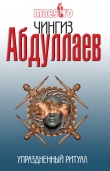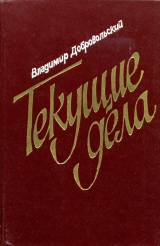
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
И Должиков забыл о том пятне и вспомнил только теперь, докапываясь до первопричины: отчего несимпатичен так Булгак?
Вот, стало быть, отчего. Как ни подпиливай, ни подшлифовывай мерку свою, чтобы сделать помягче, а она не поддается. Хорошо это или плохо? Хорошо, пожалуй, – впрочем, зачем же предвосхищать события?
После того собрания, рабочего, на второй день или на третий, он решил проверить, как восприняли речь Булгака другие – нейтральные лица. Технолог Табарчук была вполне нейтральным лицом.
Он называл ее Ланой, она его Люшей: большую часть своей короткой еще совместной жизни проводили они на заводе, в служебном кругу, и, вырываясь из этого круга, жаждали, вероятно, любым путем выразить друг другу чудесное ощущение взаимной близости. Для всех он был Илья или Ильюша, для нее – Люша; для всех она была Светланой или Светой, для него – Ланой; господи! – нежные прозвища, секретные словечки – это же так старо, за этим – тысячелетняя история; как в шашках или шахматах – начальная фаза, которую разыгрывает каждый; и есть теоретические пособия, учебники любви – художественные произведения, постановки, кинокартины, и будь он, Должиков, помоложе, смирился бы: да, игра, причем элементарная, детская, но в сорок восемь лет – какое же детство, какие же игры?
«Булгак? – прищурилась Лана; Должиков любовался ею, когда она щурилась. – Это тот, который плавает, как бог?» – «Если он так плавает, как плавал на трибуне…» – «А я не прислушивалась. И не присматривалась. Зачем ты спрашиваешь?» – «Несправедлив к парню, – сказал Должиков. – Стараюсь разобраться». – «Не разбирайся: примитив. Липнет к старшим. Фасонит. На участке я с ним не сталкивалась. А на отдыхе он из тех дураковатых болтунов, которые могут испортить отдых».
Характеристика выдана была чересчур строгая – даже по его, Должикова, мерке, но ему стало тогда спокойнее, как бывает, когда не подтверждаются какие-то смутные опасения.
Он шел из партбюро, от Маслыгина, и посмеивался над самим собой.
Прежде, в разгаре рабочего дня, у него не появлялось желания убыстрить время, и никогда не считал, подобно школяру, минуты до звонка. Какой звонок? Куда спешить?
Теперь повесил в конторке воображаемый звонок и сам себе звонил. Пора! И эта неслышная сигнализация, как ничто иное, хотя бы и музыкальное, услаждала слух.
Но рановато было наслаждаться: вторая смена только заступила. Он шел по участку, смотрел направо и налево. Что-то пустовали нынче стенды – один, другой, третий. И на площадке, возле цепного конвейера, громоздились снятые с ленты моторы – больше десятка. Значит, участок не успевал обрабатывать обычное количество, поступающее по конвейеру от испытателей. Что-то было неладно во второй смене.
Зина Близнюкова сидела за контрольным столиком. Он спросил у нее, где Подлепич, а она сказала, что – на тельфере. Тельферист не вышел, сказала она, Юрий Николаевич – за тельфериста. И еще Должиков спросил у нее, не было ли кого из чужих на участке. Комиссия эта могла уже и приступить. Но Близнюкова сказала, что чужих никого не было.
Подлепич, в замасленной безрукавке, с худыми сильными руками, плавно, расчетливо вел двигатель к стенду, нажал кнопку, опустил. Тише обычного было на участке, забранные металлическими сетками лампы-переноски недвижно светились там и сям. Тысячу раз говорилось: включайте по мере надобности. Должиков спросил, в честь чего иллюминация. Подлепич обтер лоб рукой, глянул из-под ладони, крикнул Чепелю, ближнему: «Выруби свет, Константин! И другим передай!» – «С меня две копейки за перерасход», – ответил Чепель, потянувшись к лампе, выключая.
Уже готов был приказ по цеху: лишался личного клейма. Должиков объясняться с ним избегал – на то есть мастер. Чуяло сердце, что брать его на участок – натерпеться горя.
– Дурной день, – посетовал Подлепич и пальцем пересчитал пустующие стенды. – Невыходов много. И дефекты идут, как назло.
Чего только не бывало за долгие годы; правильно сказано: не привыкать стать, а Должиков, хоть убейте, не мог привыкнуть к срывам, к неполадкам, – что ни срыв, то камень на сердце, это было уже в крови.
– То-то и оно, – усмехнулся горько. – Как назло.
– Знаю, – сказал Подлепич. – Комиссия.
Уже, стало быть, разнеслось.
– Да что там комиссия! Сменное задание срывать неохота. В третью никак не наверстаем.
– Да, – сказал Подлепич. – В ночь моторами завалят.
Странность была, давно уж ставшая нормой: ночные смены на сборочном конвейере систематически подчищали грешки предыдущих смен, в особенности – первой, самой, как ни удивительно, непроизводительной, и частенько выдавали моторы сверх задания.
Впрочем, на то были свои причины.
– Урви время, зайди ко мне, – сказал Должиков. – Обсудим, как быть. И заодно прихвати списочек, кто не вышел.
Лана работала до пяти – никак не получалось возвращаться домой вместе. Он предвидел, что сегодня придется стать к стенду и Подлепичу, и ему. Двое за полсмены всех дыр не законопатят, но все же останется их поменьше. Он прибегал к таким крайним мерам лишь в исключительных случаях, однако не из опасений уронить свой начальнический престиж, а из соображений, так сказать, педагогических: пускай слесаря не надеются на подстраховку.
По внутреннему телефону он позвонил в техбюро.
Ему всегда нелегко было туда звонить, он делал это через силу, и вместе с тем – влекло, и голос Ланы, телефонный, необычный, приглушенно гортанный, волновал его, будто в самом этом голосе было что-то потаенное, плотское, принадлежащее только ему одному.
Опять он услышал этот голос, резкий сперва, чужой, и потом приглушенный, близкий. Он огорчил ее, сказал, что задержится допоздна на участке. Он знал: она будет огорчена, но это огорчение было приятно ему, как и ей, видимо, приятно было огорчаться. Она сказала, что придет на участок и постарается помочь, чем сможет, а он, растроганный, попросил ее не приходить и, если затянется у него, не ждать, не тревожиться, ложиться пораньше. Она сказала, что не ляжет, будет ждать, и он увидел комнату, постель, полумрак, и эта заветная картинка, целыми днями не дающая ему покоя, вконец взбудоражила его. Опустив трубку на рычаг, он несколько минут сидел, словно налитый жаром, дивясь этому горячечному состоянию и страшась его. Страшился он потому, что оно было чересчур явным, накаленным и вечно продержаться такой накал не мог, а он жаждал постоянства, устойчивости, вечности – даже в этом, потаенном, плотском. И постепенно, пока он сидел так, налитый жаром, все прочее – заводское, служебное – отодвигалось на задний план.
Но вошел Подлепич.
Клочок бумаги, который он принес, был весь в масляных пятнах, и почерк неровный, поспешный: не разобрать.
– Это кто? – спросил Должиков, наклонившись над столом.
Подлепич взял карандашик, стал наводить фамилию. Булгак? Хворали люди – в самое неподходящее время, да и не сезон был еще хворать, осень только вступала в свои права, не грозила пока никакими простудами-болячками.
А Подлепич сказал, что на то и не похоже: у Булгака соседи по комнате – на главном конвейере, предупредили бы, если что. Хлопец в этом смысле порядочный, аккуратный, непьющий, и загулять, например, связаться с забулдыгами – исключено. А соседи говорят, что как ушел спозаранку в неизвестном направлении, так и не было его до самого обеда и теперь, в шестом часу, тоже нет. Подлепич туда звонил, в общежитие, потому что странно это: ничего подобного с хлопцем не бывало.
– Слушай, Юра, а за что его из комсомола погнали? – спросил Должиков.
Подлепич пожал плечами с таким видом, будто это к делу не относится.
– Как бы не стряслось чего, – сказал он, – у меня что-то душа не на месте.
– У тебя что-то душа стала того… – отчеркнул Должиков фамилию Булгака на клочке бумаги – Размягченная сверх нормы. Ты о сменном задании думай.
О сменном задании Подлепич ничего не сказал, а сказал, что и сам замечает за собой с некоторых пор склонность к дурным предчувствиям.
С некоторых пор…
Забывается, забывается, вот опять в рабочей нервотрепке забылось это на минуту, и уже хотел было Должиков отчитать Подлепича за его бабские причуды-предрассудки, но вспомнил. И у самого, не подверженного предрассудкам-предчувствиям, шевельнулось неспокойное: а вдруг? И чуть оно шевельнулось, вся накипь, от которой – при мысли о Булгаке – не мог отделаться, сразу осела на дно.
13
Никогда не был Булгак конспиратором, но – довелось, и свое намерение, не вполне осмысленное, однако твердое, держал в секрете от дружков по общежитию, от соседей по комнате: сочли бы чокнутым, объяви он, куда собирается и зачем. На озеро? На водохранилище? На базу отдыха? Да там же пересменка, санитарный день, санитарная неделя, генеральная уборка перед осенне-зимним сезоном, никого, кроме обслуживающего персонала, ни одной зацепки, оправдавшей бы эту поездку, ни одного заводского приятеля, навестить которого могла бы явиться потребность. Это же не ближний свет – база отдыха; электричкой – больше часа, да еще пешком от электрички, и погодка – не ахти, переменная облачность, кратковременные дожди по области, на озере давно уж никто не купается, пустота, тишина, осень. Рыбачить? Так Владик Булгак не рыбак, это всем известно.
Свое намерение он вынашивал долго – с месяц, но каждый раз, как собирался осуществить, что-нибудь препятствовало: то тренировка в бассейне, то политзанятия, то техучеба, то в первую смену работал, а ехать после смены неинтересно – пока доберешься, стемнеет; рано стало темнеть.
Наконец-то выбрался.
Соседи еще отсыпались, он украдкой оделся, наскоро сполоснул лицо, вышел из общежития по-воровски, чтобы не засекли, – будто с узлом награбленного на плечах, – и только в электричке избавился от этого узла, вздохнул посвободнее: любо было сознавать, что не догонят, не остановят, не вернут и некому выпытывать, куда собрался в такую рань и зачем.
Определенных планов у него, не было, но расписание железнодорожное с июля еще знал он напамять и рассчитал заранее, когда выезжать и когда возвращаться, чтобы поспеть на завод к смене.
В электричке, вздохнув посвободнее, он стал у раскрытого окна и всю дорогу с ревнивой придирчивостью присматривался к мелькающим рощицам и перелескам, – ему хотелось, чтобы все было точно так, как в июле, но точно так быть не могло, он и не надеялся на это и великодушно прощал придорожной зелени ее позолоченную пятнистость.
Еще ему хотелось остаться одному, чтобы подумать о себе и о своей жизни, однако в электричке ни о чем не думалось, и он лишь глядел во все глаза, будто задавшись целью ничего не пропустить из того, что мелькало перед глазами.
На станции, сойдя с электрички, он тоже придирчиво осмотрелся, прежде чем пуститься в дальнейший путь, и по сравнению с июлем не заметил никаких разительных перемен: по-прежнему зеленели тополи, акация, сирень, и только под ивами, на перроне, асфальт был усыпан стреловидными желто-зелеными с коленкоровой подкладкой листками, но и в июле, в жару, ивы тоже понемногу осыпа́лись, и, когда, обдавая теплым ветром и жарким запахом нагретого металла, проносился мимо станции проходящий дальнего следования поезд, эта рано опавшая листва желто-зеленой стайкой летела вслед за поездом.
В его распоряжении было достаточно времени, и потому он пошел на базу не прямиком, по шоссе, а вкруговую, лесом, – тогда, в июле, частенько ходили на станцию всей оравой именно так, через лес, по узкой тропке, зажатой с обеих сторон колючими кустами шиповника и боярышника.
Тропку эту, причудливо извилистую, уводящую в самую гущину чернолесья, открыл Маслыгин и гордился своим открытием, – мало кто знал ее, открывалась она не сразу, не с лесной опушки, а нужно было еще продраться сквозь кленовый подлесок и выйти на заветную тропку по неприметному ориентиру. Кто-то свалил там негодные шины от грузовика, но в дождливую пору поднялась крапива чуть ли не по пояс, и нужно было еще отыскать этот ориентир.
То ли понадобились кому-то негодные шины, то ли очень уж заросло – побродил, поискал, не нашел и набрел на другую дорогу. Это была проезжая дорога, но тоже узкая, лесная, с нависшими над ней ветвями столетних дубов, с пробитыми – глубоко и прочно – сырыми колеями, в которых кое-где застоялась пахнущая болотцем вода, а в ней недвижно лежали глинистые отражения узорчатой дубовой листвы.
Булгак пошел по этой дороге, пытаясь опять, как в электричке, подумать о важном и главном, но, как и в электричке, не получалось у него, и он лишь глядел во все глаза, будто бы для того и занесло его сюда.
А может быть, и для того.
Это лето, минувшее, было лучшим летом в его жизни, – так он наконец-то подумал, но ничего нового этим себе не сказал. Не стоило забираться в такую глушь, чтобы лишний раз возвеличить минувшее лето либо лишний же раз постыдить себя за корявую речь на рабочем собрании. Об этом он тоже подумал – о своем недавнем прилюдном позоре, но и это было старо уж, лучше бы вовсе не думать.
Водилась еще в лесу назойливая мошкара; он шел не спеша, отмахиваясь от нее, и уже, казалось, отмахался, отбился, но какая-то, самая настырная, не отставала, кружила назойливо, и это было очень похоже на то, как старался не думать о своем позоре, отмахивался, отбивался, и все-таки думал.
А дорога вела в низину, и тропка заветная, потерянная нынче, вела туда же, и, значит, направление взял он правильное – и шел, отбиваясь от этой назойливой мошки.
Как бы ни ставили его высоко на участке и как бы ни ставил он сам себя высоко – выше всех, – но это равнялось теперь нулю, потому что другие умели говорить с трибуны, а он не сумел, и никому никогда не завидовал так, как этим другим. Мошка настырная сопровождала его.
Отбиваясь от нее, он жадно разглядывал все по сторонам, как бы отыскивая июльские приметы в осеннем лесу, но по этой проезжей дороге тогда, летом, возвращаясь со станции, они никогда не ходили, – тут сумрачно было, дремуче и чем ближе к низине, тем туманней.
Поразить мир своим красноречием на собрании он не собирался, но и не предполагал, что опростоволосится, а вышло так, и поправочки не внесешь, вторично не скажешь того, что сказано. После собрания, правда, никто на смех не поднял его, и впоследствии больного места не затрагивали, а за критику попреков наслышался он вдоволь, но как раз это не трогало его нисколько. Он считал, что наживать недругов себе – самое мужское дело: если кругом одни друзья-приятели, значит, всех подряд ублажил, а такому мужчине – копейка цена. Ублажать никого не собирался он – ни Чепеля, ни Подлепича, ни Должикова, ни Маслыгина. В этом он был тверд, и это не зависело от того, как о ком думает – хорошо или плохо. Это также не зависело и от того, как они думают о нем, а они, даже тот же Чепель, которого он прохватил на собрании, не могли думать о нем плохо.
Много паутины завелось в лесу – обрывки марли были разбросаны повсюду, и какой-то крошечный искусник протянул тончайшую нить поперек дороги, соткал посередке затейливый узор. Проедут, пройдут, оборвут, а жаль: кружевцо на загляденье, – но он-то, заметливый путник, пощадил эту лесную пряжу, обошел ее. В стороне от дороги слежавшаяся прошлогодняя листва влажно пружинила под ногами.
Недругам своим новоявленным на их мещанские упреки отвечал он с вызовом: а вы, мол, тихони, представься вам такой удобный случай, не воспользовались бы? Каждый, мол, выдвигается, как может: одни план гонят за счет качества, другие разоблачают их в присутствии начальства. А как же! Иначе не выдвинешься. Он вызывал огонь на себя и засекал, кто первый стрельнет: тот, следовательно, и есть первейший олух.
Дорога вела в лощину, в туман, но стало светлеть в вышине, голубеть, и стало видно, что голубизна не чистая, а с пробелью, и враз засверкало все в лесу: марлевая паутина, мокрые листья, полеглые после ливней травы. Светло-зеленые пятна вспыхнули в чаще. Прожекторами высветился лес. Косые столбы дымного света пронизали его.
Ты, олух, состоишь при деле, закручиваешь гайки, и у тебя желание побольше моторов пропустить, а мотор этот пойдет на трактор, и люди потом мытариться будут. Он, Булгак, в четырнадцать лет уже вкалывал помощником тракториста и на своей шкуре испытал, что такое мотор с изъяном. Когда что-нибудь на своей шкуре испытаешь, тогда и лозунгов призывных тебе не требуется. Этого он никому не говорил, это каждый должен был сам понимать.
А дорога шла под уклон, пора бы уж расступаться лесу: там, в ложбине, раскинулся луг, и по косогору, мимо лесничества, рукой было подать до базы. Но лес почему-то ее расступался, и ложбина не показывалась, и дорога стала петлять, отклоняться куда-то в сторону. Зря, значит, доверился он этой дороге.
Недругов, конечно, у него не было: какие уж недруги! – это он сгоряча так назвал их, – а недовольные были, обиженные критикой, считающие, что теперь, после нее, произойдет какой-то переворот, нажмут на них, на слесарей КЭО, и житья им не будет. Они считали так, а он считаться с ними не собирался, и не потому, что было их немного и никакой реальной силы они не представляли. Да навались на него любая силища, он бы с ней не посчитался: издавна жила в нем уверенность в своих, собственных силах. Да навались на него все без исключения, он и один пошел бы против всех.
Эта лесная проезжая дорога вела не туда, куда ему нужно было, и он свернул с нее, пошел напролом через лес, словно бы один против всех.
В школе, в сельской, – а он кончал сельскую, – у него появилось твердое убеждение, что нету такой дороги, которой он не осилил бы. Иные не смели загадывать или терзались, не ведая, куда податься дальше, а он и не загадывал, и не терзался: была бы голова на плечах. Ученье давалось ему легко, и значит – способен был к наукам, но и к ремеслам был способен, и значит – в придачу к голове бог дал ему еще и руки. Правда, первым в классе он не был, не ставил перед собой такой цели, за отметками не гнался, в институт решил пока не поступать, – у него была на это своя точка зрения. Он вообще уважал людей самостоятельных, со своей точкой зрения, и считал, что если в чем-то еще не сложилась она, надо ее вырабатывать.
А в лесной чащобе очень уж разросся кустарник – трудно было идти напролом. Где погуще, он стал обходить эти дебри и, обходя их, сбился, видно, с курса.
Олухи не олухи, а будь его воля, он всех повыгонял бы с участка, с завода и еще бы вписал в трудовые книжки такое, чтобы повсюду давали им от ворот поворот. И первым делом выгнал бы он Чепеля, потому что Чепель пьяница, а к пьяницам он, Булгак, питал лютую ненависть, – это у него укоренилось издавна, – но никто объяснений от него не требовал, да и потребуй кто-нибудь, он не стал бы этого объяснять.
Он опять подумал, что такого июля уже не будет в жизни, – по всем статьям удался июль на славу, а в августе зарядили дожди, в лесу до сих пор тропинки были белесые, размытые, с песочной дождевой сыпью, с зеленоватой накипью глянцевой плесени.
«Чепель тебя учил, – говорили ему, – передавал тебе свой опыт, а ты – на Чепеля; нехорошо!» Что хорошо, а что плохо – он знал сам, в подсказках не нуждался. На эти подсказки он отвечал так: если бы всех учителей ученики носили на руках, некому было бы работать, руки были бы заняты. «Чепель, – говорили, – самородок»; и что отсюда следует? А Булгак – не самородок?
Он маленько заплутал в этом лесу, сбился с дороги, но не то его заботило, что не выберется к базе, а то, что теряет понапрасну время, – времени-то в обрез. Эти странствия по лесной глухомани доставляли ему удовольствие, он был ходок отменный и не прочь побродить так до вечера, до самой темноты, надышаться, насмотреться, но не затем он ехал сюда – ему нужны были места заповедные, памятные, июльские, а не эти, чужие для него.
Он не сомневался ни минуты: выберется к базе, сориентируется; на то он и деревенский, чтобы ориентироваться; горожанин, пожалуй, заблудился бы – леса тут были обширные, а он заблудиться не мог, хотя и вырос не в лесных краях и давно уж числился городским, привык к городу, обтерся там, и никто за деревенского не принял бы его. Летом, на базе, в той компании, которая так желанна была ему, он постоянно выставлял себя деревенским, как бы с гордостью или с вызовом, обращенным ко всем остальным, а подобрались все городские, и это позволяло ему выделиться среди всех. Тихо было в лесу, только желуди падали, словно крупные капли дождя, и шелестело изредка в зарослях: птичья возня. Это были синицы, он узнавал их по ярко-белым щечкам, по зеленой спинке, по черной полоске на желтом брюшке. Он узнавал среди них синичку-лазоревку, в голубой шапочке, с голубоватыми крылышками, и свиристель уже прилетел на зимовку, красновато-серый, с остроконечным хохлом. То темно было в лесу, то светло, и то зелено по-летнему, то проглядывала осень: при солнце кленовые рощицы светились, как под оранжевым абажуром.
Он не мог заблудиться, он был свой в лесу, как, скажем, Чепель – в людской толпе, а в лесу-то Чепель наверняка заблудился бы. Этой независимости, бойкости и прочему, что так и перло из Чепеля на людях, можно было позавидовать не меньше, чем умению некоторых складно говорить с трибуны. Многое претило в Чепеле, но кое-что годилось и для собственного употребления, – летом, на базе, сойдясь с новой компанией, Булгак даже как бы ставил Чепеля себе в пример.
Уже пунцовыми были осенние листья рябины, пурпуровыми – черемухи, розовыми – бересклета. Он шел, примечая все вокруг, и не наугад, а по солнцу, и лес подавал ему знаки, куда идти, чтобы выбраться к базе.
Его заботило не то, что летняя компания как бы ускользала от него, а то, что, прибившись к ней, он в общем-то отбился от прежней, своей, которая, как-никак, была ближе ему: сверстники, соседи по комнате, товарищи по работе. Летом он не думал об этом, – лишь бы прибиться! – да и на отдыхе все вроде бы равны, исключая, конечно, стариков. В новой компании люди были солидные, большей частью семейные, и верховодил Маслыгин – вовсе уж солидный человек, но летом, на базе, солидность эта не чувствовалась, и даже Булгак, самый молодой, готов был перехватить у него пальму первенства. Осень многое переменила, и прежние дружки приревновали к теперешним, хотя теперешние дружками быть ему, Булгаку, не могли, да и не были, и вышло так, что от одних отстал, а к другим не пристал, болтался где-тю посередке.
Опять сумрачно было в лесу, и опять засветилось впереди: опушка; она-то и вывела его к базе. С опушки, с вырубки, где строился новый корпус, завиднелись над кромкой прибрежного леса верхушки старых корпусов, и он посожалел, что не перед кем похвалиться: не сбила его с курса лесная глухомань, выбрался-таки. Понадобилось пристать к чужой компании – пристал, а от своих отстал – потеря! – но без потерь преграды не берутся.
И осень не бывает без потерь: разительно поредели липы вокруг спортивных площадок, грустно было смотреть. Тогда, в июле, долго держался липовый цвет, и до самого озера достигал его приторно сладкий запах и только там, на берегу, сменялся речными илистыми запахами. Теперь под липами пахло пыльной опавшей листвой.
Столбы стояли, а сетки волейбольной не было, и разметка стерлась. Его поразило вдруг запустение, будто не знал, куда едет и в какое время, но летнее многолюдье представлялось так живо, что эта пустота вокруг выглядела теперь нелепо. Он даже зажмурился, чтобы избавиться от нелепости, и тотчас услыхал тугие шлепки по мячу, трехголосую сирену судьи-добровольца, ободряющие возгласы неистовых болельщиков. Однажды играли, но в разных командах, а у него подача была направленная, планирующая, и несколько раз подряд он подавал на нее и выиграл для своей команды столько же очков. Она таких подач не умела принимать, и это грозило превратиться во всеобщую потеху, однако он вошел в азарт, остановиться уже не мог, и тогда она тоже стала смеяться вместе со всеми после каждой его подачи и каждого своего промаха, и смех у нее был такой заразительный, ребячий – до упаду, что казалось – промахивается она нарочно или не может совладать с мячом из-за смеха. Уже похоже было, будто не он потешается над ней, а она – над ним, и, оценив ее покладистость или находчивость, как и все остальное, он последним своим ударом направил мяч в сетку, окончательно выставляя на потеху себя самого.
Но осень не бывает без потерь: каштаны на аллее подгорали, клены были веснушчаты, он вошел в аллею, как в огонь. Скамьи стояли те же: решетчатые, с выгнутыми спинками, – и та скамья, особенная, скрытая кустарником, тоже стояла, но теперь видна была издалека, и дальше, далеко-далеко, видно было все скрытое прежде зеленью: киоск, где продавали мороженое, скульптуры у входа в центральный корпус, труба пищеблока. На этой скамье сидели как-то после ужина, был общий разговор о спорте, и она спросила – у него, наверно; у кого же еще? – трудно ли совмещать тренировки с работой, а он сказал, что трудно спать на потолке – одеяло сползает. Так Чепель говаривал по всякому поводу.
В музыкальном зале недавно белили – пахло еще, и тоже было запустение: ни кресел, ни рояля, а сюда однажды загнала их непогода, и кто-то сел за рояль – какой-то чижик-пыжик, – забарабанил что есть силы, и тогда села она, и это было совсем другое, из другого мира, – еще одно открытие, которое он сделал в ней.
Июль был месяцем открытий, и не было никакого Должикова, и все были равны, а если Маслыгин и верховодил, то никого это не угнетало.
За пищеблоком, на поляне, где после июльского покоса так задушевно пахло деревней, теперь желтела соломенная травка и высились уныло бодяки с бесформенными ватными головками.
Теперь был Должиков, муж, но требовалось еще доказать, был ли, есть ли: не воспринималось! Он, Булгак, так и подумал: из другого мира. Это было, как чижик-пыжик, а она играла на рояле совсем другое. Он и не подозревал – вначале, когда познакомились, – что она такая искусница и затейница тоже. «Давайте возьмем продукты сухим пайком, – предложила она, – и на веслах – до самой плотины; турпоход!» Судьба улыбнулась: им разрешили; но этой улыбкой и ограничилась: плыли они в разных лодках.
Тем не менее он помнил все подробности: и то, как готовились к походу, и как и где народилась на свет эта затея. Он пошел туда, – это было возле танцплощадки, – она сказала: «Давайте возьмем продукты…» – и вытряхнула песок из босоножек, а потом пригласил ее на танец Маслыгин. Он тоже собирался, но не пригласил, и так и не пришлось ему станцевать с ней ни разу.
Теперь он подумал, что это даже к лучшему: танцуя, он бы ляпнул что-нибудь душещипательное, а она вышла замуж, и ему было бы неприятно, если бы у нее – теперешней, замужней – осталось в памяти то, что мог он тогда ляпнуть.
Тут было противоречие: он поклонялся предприимчивости, напористости, но олухом не был и признавал противоречия, вполне допускал их как в других, так и в себе.
Противоречием было и ее замужество, и то, что замуж вышла она за Должикова, и то, что Должиков стал ее мужем, но это противоречие существовало только формально, как бы на бумаге, а в действительности она была прежней, июльской, незамужней, и Должиков – прежним, неженатым, и никакой ненависти к Должикову он, Булгак, не питал и никакого разочарования в ней не испытывал, – это было бы так же нелепо, как если бы увидеть во сне дружка лютым недругом и потом сторониться его, опасаться.
Противоречием было и то, что на базе царило запустение, и липой не пахло, и не спеша, изредка, словно соблюдая какую-то очередность, падали кленовые листья, а каштановые, подгоревшие, поджаренные валялись на дорожках свернувшись, как продолговатые медные ракушки.
Дома, в общежитии, у него хранилась настоящая, речная, перламутровая, – это она отыскала на берегу, полюбовалась и бросила, а он подобрал.
К озеру ходили и так: мимо летнего кинотеатра, мимо дубовой рощи, по асфальту, и было пестро на обочинах, белела хлопушка, белела дрёма, розовел вьюнок, краснел клевер, цвела малиновая смолка, и всюду, куда ни глянь, стелился сочный подорожник с тучными золотистыми колосками, а теперь колоски почернели, обочины поблекли, разросся репейник, кофейные лакированные листья дубов лежали в траве.
После волейбольного матча она сорганизовала культпоход на новый кинофильм, взяла билеты, но просчиталась – одного не хватило – и отдала ему свой. Это была маленькая жертва, которая, тем не менее, тронула его, хотя он, конечно, жертвы не принял. Стояли возле фонтана и совали друг другу этот билет. «Я хам, вам не дам, так вы ж сами возьмете», – сказал он, представляя себе Чепеля, который тоже сказал бы что-нибудь в этом роде. Маслыгин почему-то рассердился: «Сцена у фонтана!» – и вручил ему, Булгаку, свой билет, насильно протолкнул мимо контролерши. Уже в кино, расположившись всей оравой согласно купленным билетам, никак не могли рассудить, отчего рассердился Маслыгин, а судьба опять ограничилась скупой улыбкой: согласно купленным билетам он, Булгак, оказался вдали от нее; не везло.
Он постоял возле фонтана и пошел к озеру, но не по асфальту, не на пляж, а туда, где начинались и кончались его летние заплывы.
Можно было так сказать: скупо улыбнувшись, судьба произвела его на свет и тем ограничилась, – вообще не везло.
Он зачем-то разулся, поболтал ногой в воде: холодна! Топко было подальше от берега, а по самому бережку тянулась узкая, слепяще белая, сухая и теплая песчаная полоска, переходя затем в узорчато-мраморную желтизну, отпечатывающую скульптурный след набегавшей волны. Ближе к воде темнела сырая полоса, шоколадная, и, когда он ступал по ней, песок упруго поддавался, взмокая, как промокашка, и сразу же просыхая, покрываясь бисерной рябью.
Тут она крикнула ему: «Парень, сорви камышинку!»
Вообще не повезло: нокаут в первом же раунде; отслужил, возвращался из армии домой и не знал, что дома ждет его, а то бы и не возвращался. Это уже позже, на заводе, от Чепеля пошло: не распускать сопли! – а тогда распустил, сорвался, наслушался проповедей; попробовали бы они, проповедники, не скопытиться после такого нокаута!
Он присел на поросший сурепкой бугор, где сидела однажды она, просушил ноги, натянул носки, обулся и, как бы оправдываясь перед собой, сказал себе, что вспоминает себя – не кого-нибудь – и себя ставит в центр, и так и надо, иначе ничего не добьешься; а чего добиваться – не сказал и тотчас подумал, что добиваться нечего, да и не нужно; хватит с него честно жить и еще бродить по земле, смотреть во все глаза, вспоминать – это и есть жизнь. Его интересовало не то, что будет, а то, что было. Он не любил фантастики. Он был не романтик.