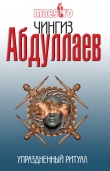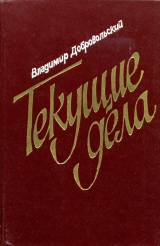
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
16
В комиссии, обследовавшей участок, оказалась бухгалтерша заводоуправления – проверяла финансовую документацию, – и, как на грех, при ней разыгрался скандальчик в смене Подлепича: одно к одному! Заинтересовалась: что за штука гровер, и с чем его кушают. А зачем это ей? Дело-то не в гровере. Да и скандальчик того не стоил, чтобы останавливать на нем внимание, и поскандалили не так уж. В основном Булгак разбушевался, а на соседних стендах – больше посмеивались. Застань эту перебранку кто-либо другой из комиссии, производственник, – прошел бы мимо: в цехах чего не бывает! А бухгалтерша возомнила себя блюстительницей порядка. Ну как же! – скандальчик или даже, выражаясь резче, скандал, неэтичное поведение, нетоварищеское отношение, – необходимо зафиксировать!
– Да ну вас! – отмахнулся от бухгалтерши Подлепич в его, Должикова, присутствии, пошел себе прочь.
И он бы, Должиков, отмахнулся, и он бы пошел, да ему нельзя. Ему нужно было заглаживать эти складочки, эти вмятины.
– Погоди, Юрий Николаевич! – крикнул он вдогонку Подлепичу. – Не сматывай удочки! Объясни товарищу, – кивнул на бухгалтершу.
– А чего объяснять?
Она была пешкой в своем отделе, но здесь выполняла официальное поручение, и нельзя было с ней – так.
– Вот народ! – красноречиво вздохнул он, относя этот вздох к Подлепичу, а в душе – и к бухгалтерше, и к Булгаку, затеявшему перебранку. – Выеденного яйца не стоит, но, видите ли, амбиция! – Он взял бухгалтершу за локоток и сам объяснил: – Гровер – шайбы такие. Так сказать, по-народному. А по технической терминологии: шайбы Гровера, разрезные, пружинящие, – для предупреждения самоотвинчивания. Да вот – посмотрите сами, нагляднее будет. Юрий Николаевич! – опять окликнул он Подлепича, на этот раз построже.
Кому бегать за гровером? Начальнику участка? Подлепич притворился, будто не слышит.
Лана как-то заметила, что он, ее супруг, при всей своей прямолинейности все-таки человек тонкий. Она сказала, что прямолинейность в нем преобладает, и ей это нравится, она сама такая, но прямолинейность где-то подходит близко к грубости, неотесанности, а это было бы ужасно для женщины, и этого, конечно, в ней нет. Она сказала, что при его холостяцком образе жизни сохранить тонкость, не огрубеть – это удивительно. «Тебя облагораживали женщины? – спросила она – Согласись!»
Он ответил ей тогда приблизительно так: нужно быть исследователем, специалистом или чем-то вроде хирурга, чтобы вскрыть в себе всю эту анатомию. Нужно систематически брать пробы, производить анализы. «Я не специалист по этой части, – сказал он, – мне затруднительно судить о себе. Но ты не сочти, – прибавил он, – что уклоняюсь от истины: женщины, конечно, были, а вот насчет влияния, благотворного, как ты говоришь, это я сомневаюсь. И насчет моей тонкости, – сказал он, – ты сильно преувеличиваешь». – «Нет, нет! – загорячилась она. – Как-нибудь, я разбираюсь в этом!»
В этом и он разбирался.
По его мнению, тонкость натуры была свойством настолько неуловимым, изменчивым, с размытыми, он бы сказал, краями, что закреплять ее навечно за кем-нибудь значило бы впасть в идеализацию. Он себя не идеализировал: у него была-таки холостяцкая закваска. В сорок восемь лет ломать уклад, привычки – вторично родиться. У него это прошло без натуги – вот что удивительно, а не то, что уживались в нем якобы грубость и тонкость. Ломать можно по-разному: с грохотом, с треском либо втихомолку, – он свое холостяцкое сломал скрытно, Лане даже невдомек было, что ломает. Не потому ли стала она отыскивать в нем какую-то особенную тонкость?
Он на это не претендовал.
И, оказывая любезный прием бухгалтерше, он тоже не претендовал на то, чтобы эти любезности принимались ею за чистую монету. Всякий понимает, где какая монета в ходу и по какой причине в подобных случаях берут тебя за локоток. Был бы Должиков членом комиссии на чужом участке, и его бы взяли. А уж Подлепич в свое время поперебывал в этих комиссиях бессчетно, – должен бы понимать. И понимал, разумеется, да, видно, заупрямился, надломленный домашними невзгодами, – стал демонстративно отмежевываться от Должикова: твоя, мол, служба – угождать официальным лицам, а моя – другого, рода. Тебе, мол, брать бухгалтершу за локоток, а меня от этого с души воротит.
Должикова тоже с души воротило, но на нем лежала ответственность за участок, а Подлепич, сменный мастер, отмахивался: «Да ну вас!»
Когда въедливая бухгалтерша, удовлетворенная, по-видимому, радушным приемом, погрузилась наконец в свою стихию – в финансовую документацию, он попытался представить себе, как мог бы обойтись с ней, с бухгалтершей, иначе, не роняя достоинстве перед Подлепичем. Держаться посуше, посдержанней, без грубости, но и без излишней учтивости? То есть выбрать среднее между тем и другим? Но этого он не умел, на среднее был не способен, – оно-то и требовало той самой тонкости, которую приписывала ему простодушная Лана. Он любовался этим простодушием, как и ее манерой, скажем, щуриться, хотя и простодушие, и скоропалительность суждений, и страсть выдавать желаемое за сущее были признаком внутренней пылкости, а манеры относились к внешнему. Он одинаково любил в ней внешнее и внутреннее, поражаясь себе: когда же успел полюбить? С ним никогда еще такого не бывало – такой цельности чувства; он любил ее первой любовью – в свои-то сорок восемь лет! Одно ему нужно было: чтобы и она любила его точно так же. За себя он не опасался – если и опасался, то только за нее.
Околдовала могуче, напоила приворотным зельем.
А он все пил и пил – по глоточку, сутра до ночи; хотя бы подсказали добрые люди: уймись, Должиков, пьян будешь.
Как бы очнувшись, он прошелся по участку, взял под локоток Подлепича, попросил зайти с Булгаком в конторку после смены.
Это движение – под локоток! – не ускользнуло от Подлепича: скосил глаз, усмехнулся; а так и предполагалось: посмеяться вместе.
– Надо, Юра, – сказал он Подлепичу. – Никуда не денешься.
А что́ надо, растолковывать было излишне: теперь-то уж, поостывши, Подлепич тем более понял. И вроде бы согласился: что надо, то надо.
Оно и подтвердилось: нехитрая бухгалтерия, в которой он, Должиков, правда, понаторел за много лет, не вызвала у ретивой ревизорши ни претензий, ни замечаний, а ведь при желании всегда можно придраться к какой-нибудь кляксе. К скандальчику-то придралась. Но и про то не говорили больше.
Он остался в конторке один, сложил свои бумаги, спрятал и стал дожидаться Подлепича с Булгаком.
Свадьба была скромная, но совершили обряд во Дворце бракосочетаний, – она настояла, сказала: из принципа. А Должиков, признаться, боялся, что будет это выглядеть смехотворно в его возрасте. Присутствовали все свои, глядели на новобрачных растроганно, поздравляли от души, усмешечек не наблюдалось, а тамошняя сотрудница, руководившая церемонией, даже засомневалась: не описка ли в брачном свидетельстве, где указывался его год рождения.
Заменить бы паспорт, предъявить медицинскую справочку о состоянии здоровья, уломать: сбавьте десятка полтора – не меньше! Перед свадьбой он и того боялся, что вызовет Маслыгин, спросит: «Ты что? Тебе сорок восемь, а ей? Двадцать лет разницы! Ты что?» Никуда его не вызывали. Только Зина Близнюкова сказала: «Смотрите, Илья Григорьевич, притянут еще вас! Статья такая есть: за совращение малолетних». Зина прежде была остра на язык, но после смерти мужа поутихла, и не столько юмора было в ее словах, сколько вдовьей желчи или зависти. Кроме Близнюковой, никто никаких уголовных статей не шил. Как будто не верили, что ему сорок восемь, забыли, выпустили из виду. Он сам забывал или не верил, и Лана не верила. Досадная описка допущена была в брачном свидетельстве.
И все-таки жил он тревожно; есть такое выражение: живет, как на вулкане. Примерно так. Он сравнивал себя с лазутчиком, который заброшен в расположение противника, и документы – липовые, ненадежные; проверят – схватят. Те женщины, которых знал он раньше, может, и влюблялись в него, но это быстро у них проходило. Опять он подумал о том же: а вдруг и у Ланы пройдет? Прежде и у него проходило, но теперь-то уж он твердо знал, что у него не пройдет.
Дверь конторки распахнулась, явился начальник БТК, командующий цеховым техконтролем, один из тех заводских, с кем Должиков был по-давнему, по-доброму знаком. Закурили. Явился не на перекур и не с контролем, а с частной миссией: звать в гости; какое-то семейное торжество.
Тогда, после бракосочетания, выпили в банкетном зале по бокалу шампанского, и он, приглашенный в числе немногих, произнес веселую речь. Его пригласили, как бы выделив из многих, и он, отвечая Должикову тем же, выделяя из многих, всякий раз приглашал.
Та речь, в банкетном зале, была шутлива, и Должиков, пока не кончилась она, сидел как на иголках. Подмечать смешное в людях он был не прочь, но пуще огня боялся показаться кому-то смешным. Ручательства, что не найдется других пересмешниц кроме Зины Близнюковой, никто ему не давал, – вполне могли найтись и пересмешницы, и пересмешники. Он жил в постоянной тревоге еще и потому, что страшился людской молвы, прилипчивых взглядов, въедливого надзора: ну-ка, предъяви, Ильюша-Люша, документик! Да он у тебя подложный, никакой ты не Люшенька, а Илья Григорьевич, старый холостяк.
– Так что за событие? – спросил он у начальника БТК.
Когда ходил в холостяках, не теребили, не тянули к себе, не набивались к нему, и в этом смысле было золотое время. Усвоили: Должиков нелюдим, не находит удовольствия в хождении по гостям, а может, и ходит куда-то, но не туда, куда все, и потому в их обществе не нуждается. Так оно и было. Женатого – стали приглашать наперебой, и главным образом – из-за Ланы: красивая, умная, веселая, одно слово – душа общества. Она считалась светской, но, конечно, в современном понимании. А он светским не был, и все эти приглашения угнетали его.
– В субботу? Вечерком? В субботу что-то есть у меня, – приврал он, пытаясь увильнуть. – Что-то намечено. – И даже, для правдоподобия, порылся в записной книжке.
Как раз теперь, когда была с ним Лана, он полюбил свой дом, стал домоседом, никто ему не нужен был, кроме Ланы, и о каждом старом или новом знакомом вспоминал с унынием: вроде бы каждому задолжал, и каждый вот-вот потребует с него должок – навяжется в гости или пригласит к себе. По счастью, Лана предпочитала принимать приглашения: этак дешевле и меньше хлопот, – у нее был реестрик, куда заносила она домашние расходы, экономила, собиралась что-то дорогое покупать. Ее бережливость умиляла Должикова. Он и в компанию Маслыгина не ходил, ему было неинтересно там, а ее отпускал: все, чем тешилась она, тешило и его.
– Новость? – спросил он. – Какая?
– Да, собственно, по крупным масштабам и новостью не назовешь, – сказал начальник БТК, – в моем это ведомстве, не в твоем: Близнюкова уходит с работы.
– Легка на помине.
– А что?
– Да ничего, – сказал Должиков. – Пускай уходит.
– Жаль. Толковая баба. Или ты против толковых на контроле?
От ответа Должиков уклонился, а после, поразмыслив, пришел к заключению, что действительно – жаль. Хоть и не в его это было ведомстве, и случалось иной раз конфликтовать с контролерами, с той же Близнюковой, придирчивой до невозможности, но полоса наступила такая, что вернуть былую репутацию, утвердившуюся за участком, возможно было только при помощи строжайшего контроля. Должиков рассудил здраво: пока шурует комиссия, необходим надежный заслон от малейшего недосмотра, и тут уж придиры, вроде Близнюковой, незаменимы. Этот заслон, если идти дальше, должен постепенно стать устойчивым психологическим барьером – вот как! – для тех, кто до сих пор не слишком жалует регламенты технологического режима. А вы как думали? Не говоря уже о том, рассудил он, что у Близнюковой – богатый производственный опыт и она другой раз способна присоветовать слесарю такое, чего и мастер не сообразит. Толковая баба. Кто-нибудь, возможно, и порадуется ее уходу, а ему, Должикову, радости будет мало, несмотря что языката. Жаль, конечно, жаль.
Явились Подлепич с Булгаком.
Не дожидаясь, пока усадят, Булгак сразу присел к столу, как подсудимый, который знает свое место и торопит суд, чтобы долго не тянули. Подлепич сел в сторонке, принял покойную позу благодушного наблюдателя: торопиться некуда, готов до вечера блаженствовать в удобном креслице. Креслиц таких, клубных, Должиков понатаскал на участок из красного уголка, когда там меняли мебель.
– Ты хотя бы подстригся, – окинул он Булгака критическим взором. – Я, как вижу тебя, за пуговку хватаюсь.
Это у деда его была примета: встретится поп – не к счастью, и, чтобы не вышло беды, берись за пуговку.
Он ждал, что спросят, к чему тут пуговка, и настроился рассказать, а также их, Подлепича с Булгаком, настроить на свой лад, нестрогий: действительно не стоила выеденного яйца эта история, раздутая бухгалтершей. Но Булгак и Подлепич молчали. Будто не для них говорил, не им, или считали чудаком, привыкли к его чудачествам. Это задело его, как ни странно, – настроило по-другому.
– Ну, докладывай, – строго сказал он Булгаку.
Теперь не стриглись коротко, и бог с ней, со стрижкой, и бороды отпускали, гривы, – кому как нравится, но в Булгаке это раздражало. Он, Должиков, признавал строгость и не признавал раздражительности: умей владеть собой! Умел. Любимчиков на участке не было у него, но и в другую крайность, противоположную, не бросался. Симпатии, антипатии – держи при себе. Держал. Разумеется, отрадней иметь дело с людьми, на которых глядишь и видишь все насквозь – до того чисто это, прозрачно, кристально. Чистый – весь как на ладони, хоть листай его анкету, хоть беседуй по душам. И если даже проштрафился, видно, почему проштрафился и как это ложится ему на душу, отражается в сознании. У Булгака ни черта не было видно.
– Да что тут докладывать, – нехотя, поджимая губы, сказал Булгак и вниз куда-то глядел, ботинки свои рассматривал. – Двигатель с дефектом: вой распредшестерен. Не было зазора. Юрий Николаевич сходил на конвейер, сделал уведомление о браке. А я устранил дефект, и отправили мотор обратно к мотористам. Вдруг смотрю: возвращают оттуда по стуку. Что за чудеса? Стука-то не было! Снимаю дощечку с коллектора, а там – гровер. Три штуки. Вот и стучало.
Чудес на свете не бывает, и значит – кто-то умышленно набросал туда этого гровера, чтобы напакостить Булгаку. Кто? Со сдержанной, но все-таки язвительной иронией Должиков сказал, что это нужно следствие вести, отпечатки пальцев снимать, а мысленно выстроил смену Подлепича по ранжиру, как солдат на поверку, и обошел строй, командирским глазом прощупал каждого: нет, нет, нет, а вот этот – да!
– Чепеля работа, – сказал он, объявил, что следствие закончено.
Потерпевший, однако, Чепелю иск предъявлять отказался: на такое, мол, Чепель никак не способен. На какое такое? На пакостничество? И Подлепич в качестве, что ли, свидетеля, отозвавшись из своего угла, поддержал Булгака. Единодушие было бы похвальным, кабы у доверчивых поборников справедливости не оказалась память коротка: кто сжульничал, поставив личное клеймо на бракованном двигателе? Кого лишили личного клейма? Подлепич сказал, что жульничать и пакостничать – разница все же есть. Нет разницы! Где жульничество, там и пакостничество: переплетаются.
– Но не будем теории разводить, – сказал Должиков, – клякса налицо, еще одна клякса в нашей тетрадке, которую недавно – хоть на выставку выставляй! По нашим тетрадкам учились, – сказал Должиков, – а теперь что?
– А теперь что? – обратился он к Подлепичу, вдруг представив себе эту выставку, будто действительно существовала, и эти тетрадки – будто тоже существовали, будто действительно учились по ним; аж досадно стало. – А теперь катимся! По наклонной плоскости. Что, не так?
– Да не так, – возразил Подлепич, и тоже с досадой, но не скрытой, как у него, у Должикова, а явной. – Мерещится тебе, Илья Григорьевич.
Мерещится? Если бы! Закончит комиссия работу, понапишет всякого в своем заключении, ее бы и охладить: берите, мол, писульку назад – померещилось! Кто смелый найдется на предмет охлаждения? Подлепич?
– Ну, я пойду, – привстал Булгак, всю эту кашу, по сути-то, и заваривший.
– Нет, посиди, – строго сказал Должиков. – Действующие лица, пока не закроется занавес, со сцены не уходят. А ты – лицо главное, с тебя узелок завязался. Насколько я разбираюсь в этой арифметике, здесь присутствуют два главных лица: ты и Юрий Николаевич.
Себя Булгак утвердил в этом звании, привстал опять, будто поклон отвесил, а Подлепичу дал отвод:
– Мимо, Илья Григорьевич! Опекунов ко мне не приставляйте и с них за чужие кляксы не спрашивайте. Взрослые люди, арифметику в школе проходили.
Иной бы, нахальничая, воспламенялся, а этот, наоборот, как бы леденел, и в глазах, чуть выпуклых, сероватых, появлялась ненавистная Должикову сонливость.
– Ну, я тебе поясню, – сказал Должиков – и пояснил. Не требовалось особой склонности к анализу, чтобы установить, с чего и с кого завязался в действительности узелок. С Булгака? Да. Но прежде того – с Подлепича. Сигнал о технологических нарушениях поступил? Поступил. От кого? От Булгака. К кому? К Подлепичу, к сменному мастеру.
– Вот бы и собрать тебе смену, Юрий Николаевич, как заведено, – сказал Должиков, – побеседовать, обсудить. Я говорю в присутствии Владика и надеюсь, что ты не обидишься. Авторитет закаляется в критике, Юрий Николаевич, а мы люди взрослые, арифметику в школе проходили.
Потирая ухо по привычке, Подлепич ответил:
– Видишь ли, собирать смену – громкий разговор. Я привык – потише. С каждым в отдельности. Больше отдачи. Ну что ты сделаешь! – не умею митинговать.
А умел же. В свое время столько этим занимался, что работать было некогда.
– Ты, Владик, не помнишь и помнить не можешь, – сказал Должиков, – тебя на заводе не было, а Юрий Николаевич в свое время гремел, и фамилия гремела, и заслуженно, и отдача была – колоссальная!
Этот умник Булгак сонно глянул на Подлепича – не поверил, что была отдача.
– Вы бы, Илья Григорьевич, ближе к делу, – как бы посоветовал по-дружески, как равный равному. – Время-то идет.
– А тебе – куда? На Ассамблею ООН опаздываешь? – спросил Должиков, – Так еще полчаса до самолета. Успеешь. Разобрались бы сами, говорю, помитинговали бы в своем кругу, и не было б необходимости выносить это на широкий круг, и не пожаловала б к нам комиссия. Но ведь недаром говорится: по которой воде плыть, ту воду и пить. Ты понял меня, Владик?
Не понял. Сказал, что пословица, может, и хороша, но не к месту. Другая, сказал, пословица есть: воду толочь – вода и будет.
– Ты, герой, не забывайся, – одернул его Должиков. Речь вели вполсилы – служба так велела Должикову, и она же повелела в полный голос речь вести. – И предупреждаю: воду толчем в последний раз. Может, некоторые считают: гровер сегодняшний выеденного яйца не стоит, а я считаю: показатель морального климата на участке! Делать погоду мы тебе не позволим! – жестом руки показал Должиков, что с Подлепичем они заодно. – А какую погоду, сам знаешь. Мы еще не всех твоих выкрутасов коснулись. Мы еще соберем народ и об экспорте поговорим. Ты забывчивый: куда экспорт идет, а? Что такое престиж на международном рынке?
– В гости ходят – ноги моют и носки меняют, – сказал Булгак. – А дома можно и немытым ходить. Так вы понимаете престиж?
– В гости выходной костюм надевают, – ответил Должиков. – Так я понимаю. А дома – по-домашнему. Это всем известно. Ну, теперь иди. Самолет улетит.
Булгак обрадовался, вскочил:
– Бегу. Надо ж еще ноги помыть, носки сменить. Спасибо за внимание.
Он повернулся, как солдат по команде, и чуть ли не строевым шагом, на потеху публике, направился к дверям. А какая же публика? – один только Подлепич, напрасные старания, да и тот вслед ему даже не глянул, сидел в своем креслице задумавшись.
– Артист! – сказал Должиков. – И дурачка сыграет, и умника. Кого хочешь. Я уже с ним – и так, и этак… Ты заметил? И в твой огород камешек – при нем. Специально. Чтобы до него дошло. К кому только ключики, Юра, мы с тобой не подбирали, а вот к нему, похоже, никак не подберем.
– Замки теперь не те, – сказал Подлепич и задумался. – А мы стареем. Мы скоро станем друг от друга запираться.
– Ну, это брось! Поругиваю тебя, есть за что. Но любя.
Подлепич усмехнулся вроде бы, но как-то неопределенно.
– Про любовь и я хотел тебе сказать однажды. Как раз на том собрании. А после собрания – и пошло́!
– И пошло́, Юра. Но ничего, мы остановим. Нам сейчас не дай бог где-то требовательность снизить, на одном хотя бы двигателе мелочишку пропустить… Ты про свою куму слыхал? Про Зинку. Расчет собирается брать.
– Какая она мне кума! – нахмурился Подлепич, будто оскорбили его. – У нас дети некрещеные.
– Ну, это так говорится. А вообще-то… Мне тоже с БТК не детей крестить, сами выкрутятся, но, понимаешь, обстановочка… Слушай, Юра, сделай доброе дело. Уговори Близнюкову повременить покуда.
У Подлепича резко поднялись брови, и оттого вся хмурость исчезла, но в глазах просверкнуло тревожное.
– Я? – напугался он чего-то до смерти.
– Ты, ты. А кто же? В одной вы смене. Сработались. Тебе же и будет без нее трудновато.
– Мне? – удивлен был Подлепич, словно с луны свалился либо из упрямства не пожелал учесть обстановку.
– Тебе, тебе. Нам, скажем так. Тут ведь не по службе надо просить, а по дружбе. Иначе не выйдет. А кто еще это может? Маслыгин? Так у него же свои обстоятельства, сам понимаешь.
– Уволь, Илья, – твердо сказал Подлепич; и тревога улеглась, и хмурости больше не было, только решимость осталась. – Это совсем не к чему, и не вижу необходимости. И не мастак я уламывать. И нет у меня права влезать в чью-то личную жизнь. – Он еще, видно, хотел прибавить доводов, набрать их побольше, но не набралось, мотнул головой. – Уволь!
– Ну что ж, – сказал Должиков. – Видать, ты прав. Запираемся друг от друга.
– В этом – да, – решительно подтвердил Подлепич. – Запираемся.
В этом ли? А если именно в этом, то почему? Он, Должиков, готов был признать, что свет клином на Близнюковой не сошелся – пускай себе рассчитывается, не это важно: важен принцип, важны сотрудничество, содружество, но Подлепич сотрудничать отказывался, отмежевывался-таки, отдалялся, и чем дальше, тем заметнее было, как отдаляется, удаляется. Куда только? Некуда ему, бедному, заблудится. Хотел подумать об этом с сочувствием, а подумалось с торжествующим чувством сегодняшнего, душевного и житейского, прочного превосходства над ним.