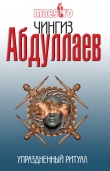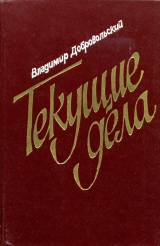
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
5
От острого глаза ничто не ускользало: Маслыгин за столом президиума был угрюм и непривычно скован; Булгак – в своем репертуаре – получил записку, пущенную по рядам тем же Маслыгиным, и это была проборка за длинный язык, надо полагать, потому что притих; у Подлепича личная жизнь трещала по всем швам, хотя и бодрился, и ясно было, никакая медицина Дусю излечить не может; и даже физиономия Чепеля, не в меру багровая, кое о чем говорила, и жди теперь новых трюков от него, раз уж со вчерашнего, явного, за полдня не сошла печать.
Свой острый глаз Должиков хранил в тайне, если так можно выразиться, или держал в резерве на крайний случай, этак точнее.
Как сказал докладчик, наряду с недостатками имеются определенные достижения, наряду с достижениями – отдельные недостатки; как ни тасуй, словом, карты, а тузы и шестерки в колоде останутся, и пока что, слава богу, КЭО – при тузах, о чем свидетельствовало также сегодняшнее собрание.
Выступать он, Должиков, не собирался по двум причинам: во-первых, время ограничено и надо дать рабочим выступить, а во-вторых, КЭО – участок вспомогательный и – при тузах; пускай отчитываются, у кого шестерок полно.
Он, между прочим, не обольщался: для него вычуры барометра этого, производственного, были в порядке вещей. Нынче гладко, завтра кочковато, послезавтра – вовсе колдобины, конь хром, колеса немазаны. Не будь постоянных перепадов погоды, а будь она от сезона к сезону раз и навсегда установлена, декретирована, на что тогда сдались синоптики? Какой в них толк? Какая им самим радость в их работе?
Аналогично на участке: если только и требуй от себя заводить часы утром, а дальше задвижутся стрелки сами собой, – не нужна такая должность; аннулировать! Он был необходим участку, как синоптик – земледельцам, рыбакам, транспортникам и вообще всем зависимым от погоды. В этом находил он наибольшее рабочее удовлетворение, хотя, по-видимому, выскажись он так, обвинили бы его в однобокости, узости, упрощенчестве и тому подобном.
Сидя на собрании, он думал как раз об этом.
Производственный барометр дает показания, умей их читать. У Чепеля, к примеру, еще и мысли не зародилось напиться, на работу не выйти, еще назревает эта пакостная мысль, а ты уже предвидишь такой поворот и, как синоптик – о надвигающемся ненастье, предупреждаешь того же Подлепича: будь начеку, готовь резерв.
Пример, конечно, грубый.
– Чепель небось вчера на свадьбе гулял?
Подлепича, видно, удивило, что начальник участка все знает про всех.
– Было, – буркнул.
– У него, – сказал Должиков, – на неделе по пять свадеб. Четверг – четвертинка, пятница – пьяница, суббота – не работа. А ты веришь!
Подлепич виновато, что ли, опустил голову; шея жилистая, в золотистых волосках, а затылок стрижен под машинку – по старинке, и воротничок того-с: не следит за собой, хорошо хоть, морально устойчив, кристальной чистоты человечина, такой ни при каких поворотах не уронит себя, с кругу не сопьется, работу не запустит.
Как бы заглаживая некоторую колкость в своих словах, Должиков легонько, невзначай, положил руку Подлепичу на плечо, – вроде бы некуда девать ее, тесновато, или оперся, чтобы поудобней усесться.
Но так и сидел.
Пока там, с трибуны, лилась не блещущая новизною речь о разных мелких недоделках, он все не мог избавиться от гнета: давила судьба Подлепича. В старину говаривали: крест нести. Крест, конечно. И несет, не ропщет – вот уж столько лет; что значит – Подлепич, кристалл, рабочая косточка! Грешно так рассуждать, да и те, кто с сердцем, тут вообще не рассуждают, а все же, глядя даже издалека на Дусины страдания, нельзя не согласиться, что для Дуси было б легче – как Геннадий Близнюков! Для супруга, для детей – легче не было бы, а для нее – легче. Смерть легка, а человек боится смерти по недоразумению: воображает, будто страшно будет примириться с ней, со смертью. Смерть сама примирит, у нее это мигом делается. У нее такой выключатель, какого в технике еще не придумали. Безотказный. Человек воображает, будто перейти роковую границу – мука. Не зря попы пугали адом, играя на этой ложной струнке. Тогда уж и рай не краше: душа-то нетленна и будь трижды праведной, а страдает.
Подлепич страдал, а Дуся – трижды.
Нет, краше смерть, чем тление, гниение, – всякий скажет. Перелом позвоночника, травматический артрит, полиартрит на этой почве, окостенение суставов, – он, Должиков, диагнозов не читал, не вникал в них, слыхал, что говорили, за точность не поручился бы, но и без диагнозов видно было, куда идет болезнь, и вот пришла, и дальше вроде бы некуда, однако конца не видать, а медицина еще и в заслугу себе ставит, что болезнь – без конца.
Да ей, болезни, давно уж конец настал, давно страдалица из списков вычеркнута, но люди – медики, немедики – никак не отучатся лгать друг другу: вот же в чем беда! Уже, казалось бы, вранье заклеймено, истреблено, – ан нет, просачивается! Не в том, так в этом. Не в ту лезет дырку, так в другую.
Он, будь на то его воля, сказал бы Подлепичу следующее: «На́ тебе яду, бери, ступай к Дусе и сделай доброе дело».
Решился бы? Он, между прочим, и на малое пока не решался: дескать, будет, Юра, тебе бодриться, обманываться и других обманывать, – все знаем, все видим. Ну?
Словно бы понукая себя, он посмелее прижал рукой плечо Подлепича, а острым глазом приметил движение в задних рядах и отвлекся: вставали, пропускали кого-то, кто слова просил, пошел к трибуне, – Булгак, вот кто!
– И здесь, Юра, смена твоя тон задает! – сказал Должиков, как по плечу потрепал, и самому не понравилось, как это было сказано.
В работе, в службе, в технике, в расстановке людей, в надзоре за ними, то есть во всем, что составляло содержание заводской его жизни, он был силен и никогда ни перед кем не прибеднялся – также и перед самим собой. Всякий овощ знай свою грядку! – он свою грядку знал и на чужой огород не зарился. Солдат тот, кто верен солдатскому долгу и, если хотите, призванию, а кто спит и видит себя генералом, у того – стремления выскочки. Этому, между прочим, потакали. Прочно и с пользой для общества сидит человек на своем стульчике, а на него уже смотрят косо: засиделся! Ему уже подсказывают: собирай манатки, перебирайся повыше – в кресло. Специалист – не мотылек; чтобы производить опыление, приносить пользу, ему не обязательно порхать от цветка к цветку. Выдвиженцы, конечно, должны быть, без этого нельзя, но не трогайте тех, которые корнями своими растут, а не кроной. Каждый ищет не просто почву, плодородную, удобренную, но и пригодную именно для него. Вырвешь из этой почвы, нарушишь звено – и забарахлила вся цепочка. Он, Должиков, видел причину большинства заводских неполадок в превратном понимании профессионального роста. На него уже тоже смотрели косо: засиделся! А куда ему расти? В замы к Старшому? Нет, не его грядка. На своем участке он крепко пустил корни: пробовали насильно пересаживать – не вышло. И не выйдет. На своем участке он был бог – все умел, что требовалось. А чего не умел, того уж не умел, и признаться в том нисколько не стеснялся.
Сочувствовать он не умел. То есть уметь тут нечего, приличие соблюсти всякий сумеет, а надо – иначе! Как? Словно бы потрепал он Подлепича по плечу и сам застеснялся. У тебя, мол, Юра, и смена такая выдающаяся, и сам ты выдающийся, и вот, гляди, как я тебе сочувствую!
Булгак пошел к трибуне вперевалку: куда спешить? подождут! Эх, манеры, манеры; за это б и спросить с Подлепича! Пока шествовал через зал, по проходу, нашлись бузотеры в крайних рядах, исподтишка задергали его, а он еще и остановился, обернулся, выбрал кого-то наугад и сдачи дал легонько, щелчком по макушке.
– Детвора! – сказал Должиков. – А трезвонят: акселерация!
– Вспомни нас, – отозвался Подлепич. – Тоже. Дурили.
Трибуна Булгаку пришлась не по росту – согнулся, чтобы с микрофоном вровень, и локти положил, а потом и прилег – на локтях. Прочие, предыдущие, тоже похожую позу принимали, но тех Должиков миловал, казнил – своих. Кому ж их казнить, как не ему?
К Булгаку он был вообще не расположен – предубеждение какое-то существовало. Манеры? Ну, этого не позволил бы себе: о нутре по манерам судить. Но что-то было такое – не явное, а скрытое, безотчетное: талант, не придерешься, а так и подмывало придраться.
– Давай-ка послушаем, – сказал он Подлепичу. – Чего там твой рабочий класс преподнесет нам новенького.
– О личных клеймах будет говорить, – предположил Подлепич, да так, словно заранее это ему известно.
Однако не складывалась у Булгака речь. Он был мастер подпускать шпильки, а на трибуне, как и в слесарном деле, шпилька, бывает, тянется, резьба негодная, да и не пришлось, видно, ему напрактиковаться в ораторстве.
Но как-никак – свой, представитель участка КЭО, а Должиков был патриотом и не скрывал этого.
– Он у тебя всегда так мекает? – спросил у Подлепича.
А у того по глазам нынче ничего не прочтешь: пусты, льдисты, – поковырял пальцем в ухе (привычка после ушной хвори), тряхнул головой, будто в ухо вода набралась, сказал как бы примирительно:
– Ничего. Выпутается.
Эх, не рядом был Должиков, а то бы помог: коль помянута сознательность, дальше веди – к трудовой дисциплине, к рабочей чести. Начал Булгак с личных клейм, – Подлепич, кстати, как в воду глядел, – но затем занесло его, Булгака, куда-то к черту на рога, забыты были клейма, и тут уж сам черт не разобрал бы, что Булгак предлагает: то ли усилить контроль, то ли ослабить, и выходило у него, что на участке КЭО только слесари-дефектчики работают в полную силу, потому что после них возвращается двигатель на испытательную станцию, и там сразу видно, устранен ли дефект, а слесарям контрольного осмотра можно – тяп да ляп, авось БТК пропустит и на контрольно-испытательной станции, на КИС, двигатель не подпадет под выборочную проверку.
Маслыгин заерзал в президиуме, отодвинулся от стола, вновь придвинулся, выложил ладони на стол, пальцы у него зашевелились, словно наигрывал, барабанил по клавишам, – и враз кончил играть, оторвал руки от клавиш, не вытерпел, вставил свое слово:
– Разреши, Владик, перебью. Вернемся-ка к личным клеймам, а то неясно. Ты против, что ли?
Со стороны поглядеть – держался Булгак доблестно на трибуне, но голос выдавал его: так певец незадачливый пускает петуха.
– Наоборот! Наоборот, Виктор Матвеевич! – прокашлявшись, сказал он тверже. – Из чего вы вывели?
– Из того, что клейма эти у тебя не прозвучали, – ответил Маслыгин, шевеля пальцами, перебирая невидимые струны, и голову набок склонил, будто вслушиваясь, звучат ли. – У тебя недоверие и к формам контроля, и к формам доверия, извини за неуклюжую форму. Я пока еще тоже не готов возражать тебе членораздельно, но, по-моему, личное клеймо рабочего и есть взаимосвязанность, или, можно сказать, единство этих двух, которые я назвал, противоположных друг другу форм. И еще, мне кажется, у тебя, Владик, что-то наболело, а ты скользишь по касательной, по периферии. Ты спокойнее, мы тут – в своем кругу.
Он, Должиков, Маслыгина недолюбливал за это самое порханье от цветка к цветку. Был человек на месте – на испытательной станции, а ушел в техбюро – мотористов убавилось, технологов не прибавилось; теперь – партработа, ответственное поле деятельности, почет и уважение, но спрос особый, не порхай, не суетись; ну ясно, за широкой спиной Старшого все сойдет.
– Дайте человеку высказаться! – бросил гневную реплику Должиков. – Не прерывайте! А ты, председатель, веди собрание.
При всем честном народе отчитал он секретаря партбюро, а также предцехкома, и никого это не озадачило – привыкли. Он вовсе не добивался дешевых аплодисментов, не выставлял себя, независимого, завоевавшего чрезвычайные права, напоказ народу. Ему иной награды не требовалось, кроме той, которой удостоили его: резкую реплику приняли как должное. И предцехкома принял ее так, и Маслыгин.
В своем кругу, в своем доме.
Еще год назад, да что там год! – месяц! и месяца не прошло! – дом этот был у него единственный: не станешь же величать домом пустую квартиру, – а ныне (приснилось, ей-богу, приснилось!) прибавился дом другой, и уже, черт возьми, обжитой, проснешься, и в жар бросает: не приснилось же!
Это он вознесся на минуту в небеса, оторвался от земли, а Подлепич – рядом, на земле, и несет свой крест. Стыдно было возноситься при Подлепиче.
Говорил Булгак, что не хватит регламента, – так и вышло.
– Продлите ему! – потребовал Должиков, как бы от имени масс – Товарища сбили! Ставьте на голосование!
6
Где-то она работала, на каком-то заводике, а училась с Маслыгиным в вечернем институте, и, когда закончили, получили дипломы, Маслыгин перетянул ее на моторный, – это потом выяснилось.
А Должиков столкнулся с ней впервые в цехе, в том закутке, где двоим не разойтись: цепной подвесной конвейер, подающий испытанные мотористами дизели на участок КЭО, был закольцован, и некоторые отрезки этого кольца пролегали в узком ущелье подсобных цеховых пролетов.
Он сразу приметил: да-а! Ничего не скажешь, шикарная девица, – откуда взялась? Стоял февраль на дворе, вьюжило, и если бы – из управленческого корпуса, то в одном халатике, рабочем, не пришла б. Халатик был на ней коротенький, кокетливый, облегающий, по заказу, что ли, шитый, и туфельки – на том еще, тяжеловесном с виду каблуке, и ножки, и коленки, и все такое прочее, – по высшей категории. Ему простительно было: свободен, не стар, женщин всяких повидал на своем веку и знал в них толк. Такой нескромный взгляд, нескрытый, откровенный, грубоватый, он всегда себе прощал. Он не был груб в обращении с женщинами, – напротив! – а мысли всякие – что ж! – это оставалось при нем. За мысли не судят. И за то, как поглядишь, – тоже. И вряд ли она заметила, как он поглядел на нее.
У него получалась странность: женат никогда не был и женщин – заводских, по крайней мере – упорно сторонился, и на заводе считали его закоренелым женоненавистником и черт знает кем еще, и он поддерживал такое мнение о себе, поносил женскую породу за болтливость, коварство, ограниченность, превознося всяческие мужские достоинства, но на самом деле высоко ценил истинно женственное, душевное, легко обнаруживаемое, что из мужчин приходится выкачивать, как нефть из глубокой скважины. С мужчинами он был сдержан, осторожен, зря близких знакомств не заводил, а с женщинами сходился легко, без разбора, – лишь бы на стороне, чтобы не попасть в поле зрения заводских кумушек. А не женился он по своей вине и, уж конечно же, не по вине тех многих, на ком собирался жениться: искал свой идеал и не находил; кто слишком долго ищет, обычно тот и не находит.
Вот такой он был идеалист, когда впервые эта новенькая стала у него на дороге в узком проходе между глухой стеной и тихонько плывущими, мерно покачивающимися на крюках дизелями.
Он был джентльмен, прижался к стене, уступил ей дорогу.
Теперь ему близко видно было ее светлое, с мягкими, вызывающе правильными чертами лицо, и светлые, смеющиеся и оттого, наверно, узкие глаза, и губы, не накрашенные, но яркие, вырезанные, как по лекалу. Да-а! На уровне мировых стандартов! Была она, однако, слишком уж молода для него, он сразу это увидел, и даже по-пустому пошутить с ней, сделать вид, будто заигрывает, служило бы не к его чести.
Ей что! – могла и пошутить: протиснувшись кое-как, с трудом проскользнув мимо него, она покачала головой, рукой описала полукружие, глазами смеющимися показала, что надо ему худеть.
Он тоже, и в шутку и не в шутку якобы, ответил ей горестным кивком: что надо, то надо. Она пошла себе, – да-а! ничего не скажешь! – он посмотрел ей вслед, вздохнул и тоже пошел.
Зеркал у них на участке не водилось, он специально отправился в соседний корпус, в туалетную, и там, ставши боком, оглядел себя: не так уж, чтобы очень, но брюхо выпирало. В обед он первого взял половинку и, против обыкновения, на хлеб не налегал. А отобедав, подсел к Маслыгину за столик, осведомился о новостях, спросил, кто эта синеглазенькая новенькая, что шастает по цеху. Маслыгин сперва не мог сообразить, о ком речь, но все же догадался. «Светлана, – сказал он. – Табарчук. Вот сватаю технологам, не знаю, приживется ли». – «Гляди, сват, Нина задаст тебе перцу». – «Безопасно, – сказал Маслыгин. – Я красавицами любуюсь, но влюбиться не способен». – «Красавица, говоришь? – схитрил Должиков. – А я и не приметил. Приметил только, что пацанка еще и кольца на пальце нет». – «Старая дева, двадцать пять уже, – сказал Маслыгин. – А ты чего это? Лед, что ли, тронулся?» – «В моих годах, Витя, – ответил Должиков, – вечная полярная ночь».
Потом на досуге он задал себе задачку, которая, ей-богу, никогда прежде во главу угла им не ставилась, и – больше того – реестры такие он как мужчина презирал.
А задачка была непростая: подвести баланс – когда, с кем, и как, и с чего это началось, и какие вспыхивали чувства, и долго ли пылали, и почему недолго, и что вообще под этим подразумевается, на чем она держится, любовь-то.
На чем держится? Где-то он читал или слыхал от кого-то, – нет, точно: читал! – что любовь, настоящая, как солнце в небе, неизвестно на чем держится, хорошо ли, плохо ли, а сказано! – он тоже сказал бы так.
Встречались ему мужчины, которые за рюмкой или мимоходом для забавы не прочь были пофорсить своими подвигами любовными. Иные, правда, невезучие, не ради форса открывались, а чтобы душу отвести. В таких дурных беседах он становился глух: и форс ему претил, и всякие переживания. Где женская честь замешана – и сам молчи, и уши затыкай. Молчи, хотя бы и под пыткой.
Да и реестр его личный, в принципе презираемый им, оказался не так уж велик. Те, хвастуны неисправимые, потому, видимо, и хвастались, что подводить баланс было отрадно. А он перелистал свой реестр без отрады и даже с неприязнью, будто не его это касалось либо подсунули ему вместо бывальщины небылицу. Никогда не вел этих реестров и, значит, правильно делал. Проходит время, и то, что мило было, теряет цвет и запах. Любая музыка, самая длинная, когда-то ж должна замолкнуть.
А совесть?
Этот вопрос он задал себе для порядка, как в суде, скажем, заставляют привлеченных называться, хотя истец, ответчик и свидетели суду известны. Бессовестно с женщинами он не поступал. Кончалась музыка – и все. Кого ж винить в том, что ничего вечного на свете не бывает? А может, удача нужна: найти свою иголку в стоге сена.
Несколько лет назад он думал было, что уже нашел.
Ему везло на вдовушек, а впрочем, возраст был такой: девчонка – уже не пара ему, постарше – замужем, замужних же стерегся, греховодничать не желал.
И эта была вдовушка, врачиха из поликлиники Фаина, – он с ней и познакомился благодаря простудному заболеванию. Другие при таком знакомстве считают козырем обман, а он привык придерживаться правды и лишь потом убедился, что правда – самый верный козырь.
На правде и сошлись они с Фаиной: друг другу не мешать, претензий не иметь, жить так же, как жилось, и порознь, разумеется. Она была его ровесницей, овдовела рано, воспитывала сына, привыкла к своему укладу, – зачем ломать? Вот кабы настоял он, и сломала бы, возможно, во он и позже не настаивал, когда уверился, что найдена иголка в стоге сена. Он к ней не часто приходил, изредка, она же никогда к нему не приходила. Была ли у них настоящая любовь – та, что как солнце в небе, – он затруднился бы сказать, но тайна у них была, а это уже немало. Жить тайно – не то же, что жить ложно.
А в феврале, после того вьюжного дня, с ним сотворилось что-то неладное. Он заявился к Фаине поздно вечером, но заходить не стал, вызвал ее на мороз, стояли под навесом во дворе, где малышня из детского садика здешнего укрывалась в летнюю пору от непогоды. «Ты врач, – сказал он, – а не видишь, что у тебя под носом творится». – «Что?» – «Да вот же: человек жиреет, брюхо – барабан, диета нужна, специальные предписания». Посторонняя заметила, своей – до лампочки. Он этого, однако, не сказал, хотя картина – в закутке, у подвесного конвейера – была перед глазами.
Врач терпелив с больными, этому их, врачей, учат, а он был больной в тот вечер, однако Фаина не стерпела, сказала, что нужен ему психиатр, не терапевт. Она сказала, что все у него в норме, ожирения не наблюдается, упитанность средняя, обмен не нарушен. А брюхо? А брюха нет, над ним посмеялись.
Над ним не посмеялись.
Фаина озябла, звала его в дом, но он не шел.
Вот так пошутить, как эта Светлана Табарчук – с незнакомым, с немолодым! – на то смелость нужна, особого рода веселость, бойкость, легкость, независимость характера – то, что он ценил в людях: независимость! На это к тому же нужны были женский глаз и женское чутье: с кем допустимо так пошутить, а с кем нельзя. Доверчивость нужна была: этот не нахамит, не обидит.
– Я псих, – сказал он, – ты права.
Они стояли под этим дурацким навесом. Она спросила у него, долго ли так простоят, а он – у нее: долго ли так проживут, как жили до сих пор. Она была женщина консервативная, боялась житейских перемен как черт ладана:
– Боже мой! Истек срок договора?
– Истек!
– Почему?
– Потому, – ответил он, – что жить тайно значит жить ложно.
– Переменился во взглядах?
– Выходит, что переменился.
А когда – вчера или сегодня, в один ли день, в один ли вечер – это роли не играло. Ежели уж он в чем-то убеждался, разубедить его было невозможно.
Она сказала, что подумает, взвесит, посоветуется. С кем советоваться, с кем? Это касалось их двоих и больше никого. Сын? Тот уже девок в подъезде щупает и сам, наверно, примеривается, какой дорогой ближе прошмыгнуть к Дворцу бракосочетаний. Боже мой! Дворец!
– Мы, – сказал Должиков, – без дворцов обойдемся, нам и районный загс подойдет.
Он знал, почему она боится этого, упирается: у нее было родственников – куча, и по мужу покойному в том числе, и со всеми ладила, поддерживала связь, принимала их у себя, а они его в свой табор не принимали. Он знал, чего она боялась. Пойди он с ней в загс, они бы его съели, а ею закусили.
Но он-то не боялся ничего, ему теперь море было по колено: ешьте, закусывайте, ставьте палки в колеса, объявляйте бойкот, блокаду, войну, а он своего добьется.
Он стал психом, требовал немедленного соглашения – сейчас же, сию минуту; старый договор – в огонь, новому – заздравную.
Она пришла в изумление, да и было с чего: что за спешка? Спешка, подтвердил он, завтра будет поздно. Объяснить этого он не мог и, когда она потребовала от него объяснений, наотрез отказался давать их, но убежден был: завтра будет поздно. Он твердил свое, она – свое, разругались, нагородили с три короба, и она ушла, убежала, хлопнула дверью в подъезде.
Больше он не видал ее, не ходил к ней, писем не писал, с праздниками не поздравлял, забыл туда дорогу. Кончилась у них музыка – враз, в один вечер, будто чем-то тяжелым, огромным всех музыкантов насмерть пришибло.