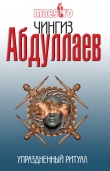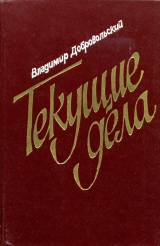
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Был такой сон, повторялся: новая квартира – по обмену, и хуже прежней, досадно, что сменялись. Кто надоумил? Неизвестно. Комната проходная, в смежной – какая-то красотка. Вы кто? Я, отвечает, здесь живу. Как так? А так, говорит, будем жить вместе. Да что за обмен, на черта он сдался?
– Спит, – повторила Зина и осторожно, чтобы не разбудить, поправила одеяло на спящей.
– Ну, пускай спит, – мучительно было стоять и смотреть, а не смотреть – зачем же пришел, и кто надоумил, и чья это женщина, и что за обмен, и на черта сдался?
Это была не та Дуся, которой когда-то одолжил он свой пиджак на трамвайной остановке, и не та, которая шесть лет назад, перед самым Новым годом, напросилась в подшефный колхоз подстригать хвосты по культмассовой работе, и не та, которую знал он столько лет и узнал бы хоть в бреду. Этой, спящей, он не знал, и не узнавал ее, и, если бы не палата, не койка, так и не распознал бы среди остальных, то ли лежачих, то ли сидячих, но одинаково сочувствующе глядящих на него. Ему было мучительно это сочувствие, и он сказал: «Ну, пускай спит».
Вышли.
Терпеливая. На редкость. Но криком кричала. Жуткий вид после таких боле́й. Это Зина пыталась что-то объяснить ему, а он и не слушал. Сволочь хвороба, и ничем не поможешь, думал он, бейся головой об стенку – ничем! Промедол. Дальше что? Дальше, сказала Зина, сведу тебя с новым завотделением, тут они поменялись. «Вы кто? Я здесь живу. Как так? А так – будем жить вместе На черта сдался такой обмен?» Она сказала, что с завотделением нужно держать крепкую связь. Счастливого пути! Она передавала ему свои обязанности. Та дверь, к которой они подошли, была заперта, но это ничего, сказала она, мы обождем, зав скоро будет. Ему было все равно.
– Ты можешь обождать? – спросила она его. – Или спешишь?
Куда ему спешить!
– Куда мне спешить? – опросил он.
– Мало ли куда! По хата́м. – И не по ха́там, не по квартирам, а по хата́м – презрительно! – Ты ж как районный врач. Только без вызова. Как участковый. – Чем он ей не угодил? – К Чепелевой жинке, – стала перечислять. – К папаше того, кто в солисты подался. К этому… тельферисту, которого на слесаря учишь. Всех учишь, за всех переживаешь, всем опыт передаешь, на всех время есть. Сюда иди, – как бы приказала она. – Тут сядем. Если не погонят. Обождем.
Обед, больничный, прошел уже, до ужина было далеко, а тут стояли столики – вроде столовой для ходячих, и стульчики, такие же, с пластиковыми спинками, и кадка с фикусом, и пара мягких кресел у окна, за кадкой. Когда бессилен чем-нибудь помочь, подумал он, это пытка. Когда вообще бессилен.
– А столы-то не мыты, – провела она пальцем по пластику. – Где, где, а в больнице… Разболтанный персонал!
– Иначе я не умею, – сказал он. – Чтобы иметь дело с людьми, я должен вникнуть. А чтобы вникнуть… Вот с Костиной супругой покалякали… Я, понимаешь, если гляну сам, как человек живет, чем дышит, мне легче с ним. Художник тоже, чтобы нарисовать портрет…
Она поглубже села в кресло, натянула юбку на колени, прикрыла сверху полой халата.
– Ну, ты художник! – засвидетельствовала желчно. – Ты художник! В твоей картинной галерее только нас, грешных, нету.
– Кого это – вас?
Неужто, подумал он, сердита на него за то, что избегал ее в эти дни? Так и она же избегала его. Был же уговор. Или не было?
Она не ответила, потеребила отворот халата, примяла сперва, потом пригладила.
– Меня так не учили, как ты учишь, – пожаловалась кому-то, не ему. – Сама до всего доходила. До каждого болтика. А это ж труд! Завидно, знаешь, как посмотришь на других. Им в рот положат и еще разжуют.
– Ты не слесарь, – сказал он.
– Да, я не слесарь. Мы в слесаря не годимся. Но мы должны быть выше слесарей, средних хотя бы. Будем ниже, они нам на шею сядут и поедут.
Она дело говорила, и на шею не садились – с ней арапа заправлять никто не решался, – а случалась загвоздка по дефектам, не гнушались призывать ее в советчицы. Опыт. Она этих дефектов видала-перевидала. Сообразительность! Таких контролеров – раз, два и обчелся. Воздать бы ей по заслугам, да он промолчал. Не то чтобы скуп был на похвалы, но своих в лицо хвалить отчего-то язык не поворачивался: Дусю, скажем, или Лешку. И ее тоже. А может, скуп был. Может, за эту скупость она и укоряла его.
– Мои погрешности перебирать – смысла не вижу, – сказал он. – Отнюдь не злоба дня. А злоба дня: Наташка тебя дожидается с превеликим нетерпением. Перемена в твоей жизни. Так вот: с нетерпением ли дожидается? – отважился наконец он спросить. – И с превеликим ли?
Он спросил, а сам глядел в окно. Было сыро, мокро там, внизу, расплавленно чернел асфальт, а под деревьями – светло, оранжево: все еще не угасала опавшая кленовая листва.
– Ну, не знаю… С превеликим ли… – Она махнула рукой, отмахнулась.
– И дожидается ли, – добавил он за нее.
– Ты, Юрочка, не по земле, что ли, ходишь, – сказала она и тоже поглядела в окно; желты были лужи – там листья мокли. – Какая дуреха, с новорожденным, откажется от бабки! К тому ж – родная дочь!
Он мог бы выразить сомнение: дитя-то еще в проекте, и бабка, по его сведениям, имеется – вторая, и не так уж просторно у родной дочери.
– Не надо играть в кошки-мышки, – сказал он. – Бежишь! Так и говори: бегу.
Она поежилась, но взгляд словно прикован был к окну. Серебристая «Волга» задом выползла из гаража – как пасту выдавили из тюбика.
– Бегу? От кого же? От тебя, что ли?
– От меня, – сказал он.
Она зарделась, как девочка, но взглядом от окна не отрывалась. То, что сказал он, не возмутило ее; напротив, показалось, будто снял с нее тяжесть, и ей теперь не за что сердиться на него.
– Юрка, идол, иди ты вон! – рассердилась она, но притворно. – Бегу, не бегу, а разжевывать это – трепать себе нервы. – Сердитость ее притворная пошла по нисходящей, и оживленность тоже – следом, книзу. – Ты слесарям своим разжевывай истины. Меня избавь. Хотя б из уважения. – И тут-то это сердитое, истинное, видать, прорвалось: – Я если побегу, никто меня не остановит!
– Спору нет, – сказал он, глядя в окно. – Побежишь – поздно будет. Останавливать. А ты послушай меня: не беги.
Там, где обильно осыпа́лись клены, асфальт был звездный.
– Ты что это спохватился? – спросила она, тоже глядя в окно. – Не сегодня решено. Ты что же думал – шучу? Проверяю, как отнесешься?
А все еще зелено было в больничном парке – среди горчичной желтизны, среди ржавчины рано состарившихся дубов, среди черноты оголившегося кустарника.
– Я думал головой, а надо бы этим… сердцем, что ли, – трудно выговорил он. – И мне бы бежать, да некуда.
Она ухватилась за боковины кресла, будто упираясь руками, чтобы встать, но только выпрямилась, не встала, голос у нее ослаб.
– Ну вот, – оказала она и запнулась. – Сам говоришь. А сердце за наши глупости не ответчик, – и снова запнулась. – Так уж заведено: чуть оступился – на сердце сваливаем. Давай уж не будем и мы – по этому примеру. Давай уж голове доверимся.
Он был на все согласен – затеплилась надежда, и с этой надеждой, не выдавая, однако, себя, сказал:
– Можно и так. Только не бежать!
Она помолчала, сидя недвижно, и вдруг откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза рукой, будто свет из окна слепил или брызнули слезы.
– А как? – спросила глухо. – Как, если не бежать? Ты знаешь? Скажи! – она таки плакала, и он растерялся. – Молчишь? А на мне живого места нет! Все ноет! – вытерла она глаза, но он не смотрел на нее… – И не за себя ноет… За все сразу… – зашептала, обернулась; никто не стоял, не подслушивал. – И где завели, где! Это ж с ума сойти! Других условий не нашли! А это ты завел! – пальцем показала она на него. – Завелся! Теперь пойдем! – встала, отдышалась, словно поднимались в гору. – Я здесь не могу… Выйдем куда-то, поговорим.
Они пошли по коридору мимо ординаторской, мимо умывальной, мимо Дусиной палаты. Спит. Пускай спит. Все сразу – нельзя, подумал он, все сразу не решишь.
– Будет, как было, – сказал он на ходу.
– Нет, – сказала она. – Вранье. Долго так не может быть. Так не бывает.
– Бывает, – сказал он.
Они дошли до лифта, она нажала кнопку, но лифта не было, и стали спускаться по лестнице. Молоденькие фельдшерицы обгоняли их.
– Оставаться – подлость, – сказала она. – Бросать тебя – подлость. И подлость – вранье. Кругом. Если бы ты не завелся…
– Сама завелась.
– Сама. – У нее одышка была, хоть и спускались вниз. – Теперь-то бросить тебя не смогу.
– Не бросай, – сказал он.
Внизу оделись – молча, он сдал халат, она сложила свой, завернула в газетку. Вышли. И только вышли – подкатило такси, приехал кто-то, распахнулись дверцы, она подбежала, заглянула в кабину, спросила, видно, шофера, подвезет ли, и тот, видно, сказал, что подвезет. На черта ей сдалось такси?
Да, впрочем, он и сам бы соблазнился: подкатило ведь! Пусть жизнь немного покатает, подумал он, ноги-то натружены, катала ведь, баловала, пускай – еще немного: Пусть выдвинут на премию, подумал-загадал, и пусть присудят. Загадывают с трепетом душевным, а он – с душевным холодком, как будто кто-то посторонний приставал к нему: не чванься, загадай! Да что мне эта премия, подумал он, мне б только сил набраться – сразу все решить.
Он влез в такси – покорно, вслед за Зиной, и вдруг почувствовал, как необходима ему эта покорность, и как он стосковался по ней, и как прекрасно покоряться, когда не брошен, не покинут. А Зинино намерение он зря назвал бегством – она нашла другое слово, повернее. Бегут и от самих себя, и от славы, и от счастья: бросать – не то, подумал он, бросать – рвать узы, и этим верным словом она подтвердила: узы существуют, – и он был благодарен ей за это. Теперь не от него она бежала, – бежали вместе; она затем и бросилась к такси, чтобы бежать. Безумцы, подумал он, куда? Скорее, скорее; подальше, подальше.
Они сидели сзади, рядом, и так близко друг к другу, будто теснил их кто-то третий. Ее рука была в его руке, а как это вышло, он понять не мог. Они бежали – вместе, а двоим бежать рука с рукой, наверно, легче. Такое было у них впервые, он, жалкий трус, боялся этого, считал, что это низко, стыдно, страшно, а это было и не страшно, и не стыдно. И только нужно было ни о чем не думать: сущий пустячок, – но пустячка-то сущего ему и не хватало.
Ехали молча, как заговорщики, которым при шофере звука проронить нельзя, и так и доехали до самого ее дома, до самого конца: тут был конец, тупик, а дальше уже неизвестно было, как им жить.
И неизвестно было, выходить ему с ней или ехать к себе: немой вопрос; он молча спросил у нее об этом, но она не ответила, не знала, значит, что ответить, и он бы не ответил, спроси она его о том же. Была минутная заминка, и тогда уж, как бы очнувшись первым, он заплатил за проезд, распахнул дверцу и выбрался из машины. Затем уж – с трудом, словно потяжелев, обессилев – выбралась и она. Как заговорщики, прошли они по мокрой дорожке к ее подъезду. Дом был заводской, последний в ряду новостроек, за которыми пролегла городская черта. Дальше ничего уже не было: вплотную к городу подступали – в тумане – окрестные поля. Дальше уже неизвестно было, как жить.
Молча, оцепенело, обреченно дошли они до подъезда, а оттуда – прямо на них – выскочил краснолицый горбоносый Чепель, в кургузом плащике нараспашку, без шапки – как молодой, и сигаретка в зубах. Тут и Должикова можно было встретить, и кого угодно.
– О! – выдернул Чепель изо рта сигаретку и руку завел за спину – спрятал, словно грешный ученичок, застигнутый врасплох суровыми учителями. – Здравия желаю! Погодка, а? Обещано бабье лето! Где оно? Бабские обещания?
Стали у самых дверей, Зина смолчала, Подлепич спросил у него, куда путь держит, – надо же было что-то сказать. Чепель скривился: мол, сам того не ведает. Да так, ответил, по азимуту. Не лишне было ему напомнить, что, между прочим, их смена сегодня – в ночь. Чтобы не позабыл.
– Ни-ни! – как бы украдкой приложился Чепель к сигаретке и руку опять завел за спину. – По гудку. Как наши отцы и деды. Что было, того не будет. А за бывшее никак не выберу момента извиниться. Тебя, касается, Зинаида. – Она и не поглядела на него. – Тебя, Николаич, тоже. Кому-кому, а тебе мои виражи выходят боком. – Он снова курнул, и снова украдкой, будто бы опасаясь, что запретят, отнимут сигаретку. – Сам отношусь отрицательно к лихачам, которым любо на чужой резине виражи выделывать…
Ясно, сказал Подлепич, примем к сведению. Чепель шмыгнул хищным носом – словно бы растрогался. А ты, Николаич, куда, спросил, в наш монастырь или по пути? По пути, ответил Подлепич; сразу свободней стало. Если бы промедлил с ответом, не так бы это было убедительно, а он, молодчага, – без малейшего промедления. Можешь, сказал, сопроводить до автобуса, коли не против.
Это было к добру, что подвернулся Чепель, и вместе с тем – досадно. Досада была особенная: как рана – тупой ломотой отдавалась повсюду. У Зины все видно было на лице: и облегчение, и та же досада, и что-то еще, женское, ревнивое.
– Счастливо, – будто бы так и предполагалось – разойтись, кивнула она одному, а другого, Чепеля, смерила уничтожающим взглядом.
Но разошлись, словно так и предполагалось.
Стало свободно, однако свобода эта была тяжелая, постылая; он не просил ее, Подлепич, – навязали. Да ведь к добру, подумал он, как бы оправдываясь; голове доверишься – все к добру. Пошли с Чепелем напрямик, через детскую площадку; асфальт был жирный, и листья, палые, втоптаны, впечатаны; словно узор вырисовывался на асфальте.
– А ты, Николаич, хитер, – сказал Чепель. – Тишком! – и оттопырил палец, тыча им за плечо. – Пасешься?
Чуть было голова не подвела, горячо ей стало, но сдержался.
– Опять, Константин, извиняться будешь? Или рассчитываешь, что рукам волю дам, и мне придется извиняться?
– Что ты, Юрий Николаевич! – сник сразу Чепель. – Я ж не хотел… Зря обижаешься. Я, например, на такие вещи смотрю просто.
– Ни для кого не секрет, – сказал Подлепич, – ты на все смотришь просто, а вот секрет: ветреность это или позиция?
Должиков, припомнилось, дал задание, и тогда еще бульдозер фигурировал в разговоре, а ему, Подлепичу, никакие задания в голову сейчас не лезли. Себя сломай, подумал он, потом уж за других берись.
– Или позиция? – переспросил Чепель, как тот же грешный ученичок, который тянет время в надежде, что подскажут. Не подсказали, однако; сам ответил и горд был, что сам: – Позиция, Николаич.
Так-то лучше, достойней, хотя и шаткая позиция. Но тут еще секрет: оправдывает ли она себя? Украшает жизнь? Или, на худой конец, скрашивает ли? Интересуюсь, сказал Подлепич, честно говорю, без подвоха. Он честно говорил, – его давно уж подмывало присмотреться к Чепелю поближе. Золотой характер. Теперь еще можно было добавить: позиция! Может, так и следует жить? Важно было это именно теперь.
– Ну, если без подвоха, – с живостью сказал Чепель, – то и я тебе, Николаич, отвечу прямо: позиция ничего еще не говорит. Мы все в этой жизни на сдельщине: наш заработок помесячно выводится. С позицией тоже так: судья не ты, и не я, и не главный бухгалтер. Время покажет.
– Время, говоришь, – задумчиво произнес Подлепич. – Это, пожалуй, верно. В общем если подойти. А в частности: ждать-то нет охоты. Долго ведь ждать. Жизнь пройдет.
Чепель усмехнулся.
– А куда торопиться? Так и так она пройдет. Жди не жди.
– Тоже верно, – сказал Подлепич. – Но я опять же в затруднении. Хочу, допустим, твою позицию примерить к себе. И видеть результат, А результата нету. Дожидаться, стало быть? Чего? Некролога? Черной рамочки?
Чепель ответил с той же усмешкой:
– Та рамочка ничего тебе не откроет. Стандарт. Брешет безбожно та рамочка. Время, говорю, показатель. А ты, Николаич, торопишься! – иначе сказал Чепель: с укором. – Лидку мою настраиваешь против меня же в мое же отсутствие. Это не по-советски, Юрий Николаевич. В чужой монастырь со своим уставом…
Чем дальше уходили от заводского дома, тем меньше верилось, что хватит сил уйти. И вместе с тем ликовала душа: друг друга поняли! И вместе с тем терзалась: как жить теперь?
– Как жить, Константин? – спросил Подлепич. – С твоим-то уставом! Я со своим – еле телепаюсь, а с твоим… Заметь: позиция – не то, что устав. К позиции твоей примериваюсь, а устав отвергаю: сивухой отдает!
– Ну, это другой разговор, – без прежней живости, вмиг похолодев, сказал Чепель. – Про рюмку – надо за рюмкой, на сухую не идет.
В автобусе трясло: вверх – вниз, вверх – вниз, – и состояние было под стать: трясучка. Вверх – благодать, вниз – смертельная тоска, хоть с Чепелем покалякали, подумал он, все же малость отвлекло от чертовой трясучки, а дома – ни души. Он слез на третьей остановке и пошел в рабочее общежитие.
22
По азимуту.
Была идея заскочить куда-нибудь, промочить горло, и рублик тайный был в наличии – обыщи, не найдешь! – но, видно, кошка черная перебежала дорогу. Поехал автобус, Подлепича повез. Как жить, Константин? Да проживем, были бы гроши.
Знакомого увидал возле автобусной станции: на «Москвиче», на фургоне, почту развозит. Это из тех, которые бесполезны в практической жизни: что есть они, что нету их – в итоге тот же ноль. Малоприятная личность – непьющий. По старой памяти, однако, тянуло к шоферам.
Уперся Чепель руками в задок, качнул машину, испытал амортизаторы – по старой памяти. Хорош аппарат. Сколько прошел? Резина его? Родная? Да что ты, что ты, на заводе куда веселей! Коллектив! Трудящиеся массы! Они тебя и направят, и вооружат идейно. «Как же! – был недоверчив этот знакомый. – Что ни день, то накачка!» А я на те накачки чхаю, сказал Чепель, нам, массам, абы хлеб с маслом.
Хлеб у него в доме был, а вот на масло, случалось, не хватало.
Он потому и выскочил из дому, что Лида, забежав домой в перерыве, стала потихоньку скулить. Черт дерни Подлепича еще разок наведаться, напичкать трезвыми идеями – хоть вовсе из дому сбегай. Сейчас еще тихий скулеж, а там, гляди, зазвучит на полную мощность.
Однако Лиду можно было понять. Всех можно было понять – и Подлепича, непьющего, и прочих, бесполезных в практической жизни. Его, Чепеля, позицию то и отличало, что себя не обелял и других не очернял. Те газетные корреспонденты, которые изо дня в день печатным словом клеймили пьющих, тоже были приличные люди, а не изверги рода человеческого. Такая служба. Старшой получал нахлобучку от директора, Должиков – от Старшого, Подлепич – от Должикова, и нужно было Подлепичу бросать свои дела, тратиться на автобус, ехать в микрорайон, проводить с Лидой общеобразовательную беседу. Служба. Лиде нужно было кормить троих, причем обе девицы в том возрасте, когда давай и давай. Быт. А получку либо не донесешь, либо нечего нести: режут, режут – прямо по живому. За каждый вираж – минус икс, игрек. Садился решать это уравнение – шиш в кармане. Но и тех можно было понять, которые резали: закон, приказ, инструкция.
Часов у него не было: сняли с руки в трамвайной толкучке, – версия для Лиды. На самом деле он оставил их под заклад в одном заведении, где расплатиться было нечем и братия подсобралась неимущая. Потом он подсчитал: часы того не стоили, что было выпито; выкупать не имело смысла. Жили деды без часов, проживут и внуки.
Он сделал крюк – до универмага: там, на углу, висели – электрические; нет, Лида до́ма еще, смекнул он, гуляй покуда, Костя. Упрекнули бы его в бессердечии – было бы незаслуженно: зачем возводить напраслину? Он, может, скорбел, глядя на Лиду: прижимало безденежье. Но это жизнь прижимала, не он. Ему бы, с его аппетитом, – директорскую зарплату: и волки были бы сыты, и овцы целы. Из директорской сколько ни вычитай – на бутылку останется. А тут – мало что зарплата не та, еще и злая фортуна. Возьмите – на выбор – любой случай, хоть этот, чтобы далеко назад не забираться, – могло бы обойтись? У иных, кто поудачливее, обходилось, и по живому не резали. Возьмите второй случай, третий или еще какой: то алкаш на дороге подвернулся, то по-дурному совпало, а потом иди докажи. Той же Лиде. Он теперь – на сильном взводе – слезу даже пускал в окружении сочувствующих: бедная Лида, несчастная, бедный Подлепич, бедные все, которым приходится расхлебывать…
Теперь, вышагивая по главной улице своего микрорайона, он заново проникся скорбным чувством, но Подлепича, конечно, исключил из этого поминального списка и прочих, косвенно страдающих по его милости, тоже, – оставил одну Лиду. На законном основании.
Что свято для пьющего? Семья. Ни один алкаш, которых немало было в поле зрения, не отрекался от своей семьи. Семья отрекалась от него, а он – ни-ни! Жизнь – океан, семья – родная гавань. Начхать на коллектив? Нет, не начхать. Без коллектива тоже нельзя. Но с коллективом проще: дал два рубля профвзносов, дал еще пустяк – на ДОСААФ, на Красный Крест, и будь здоров. Семье, однако, выдай все до копейки. А что себе?
Он шел по главной улице, засматривался на витрины. Чего только не было выставлено – то, пятое, десятое; были бы гро́ши! Любая тряпка Лиде пригодилась бы, любая миска-сковородка. В хозяйстве всегда так. Когда-то вел он хозяйство и вел исправно, но бросил: некогда было этим заниматься. Хозяйство засасывает – болото! Выпивка, говорили, – тоже болото, но он был с этим не согласен.
Он шел и думал, чем бы выразить Лиде свое уважение, свою преданность, свой сердечный порыв. Букетик домой принести, поставить в вазочку? Этим здесь не торговали. Что купишь за рубль? Ни хрена не купишь. Разве что шоколадку. Шоколадкой рублевой – выразить? А почему бы и нет? Дорог не подарок, говорят, – дорога любовь. Он опустил руку в карман, – там еще и серебро бренчало. На сто граммов как раз и на кружку пива. Но черная кошка ему сегодня дорогу перебежала: Подлепич. Это точно.
Чепель шел и думал, как бы наладить Лидину жизнь, чтобы не скулила, не мыкала горя, не считала копейки. Как бы так сделать, чтобы всем было хорошо – и Лиде, и детям, и ему, и Подлепичу, и Должикову, и Старшому, и директору. Что бы такое сотворить. Это было просто. Взял, скажем, обязательство, подписал соцдоговор. Встречные планы в ходу. Это запросто. Нытик-маловер, стоящий под горой, смотрит на ту гору с ужасом: не взобраться, не осилить! Ерунда. Скулеж. И взберешься, и осилишь, – только не скули.
Как жить, Константин? А вот так и жить – чтобы всем было хорошо. Немного шума – почин какой-нибудь, новаторский; немного выдержки – не нарываться на неприятности; немного удачи – чтобы не резали по живому; немного теплоты – чтобы Лида почувствовала; и будет хорошо. Всем. Пускай маловеры скулят, пасуют перед трудностями, уповают на черную рамочку. Черная рамочка ни чести не прибавит, ни совести, ни жизненных удовольствий. Ничего этого она никому еще не прибавляла. Пока жив-здоров, живи, как у тебя намечено, не сдавай позиций.
Он шагал бодро.
Немного того, немного этого, не лей через край, не переливай, знай меру. Где меры нет, там перебор, а перебор-то и ведет к различным отрицательным последствиям. Ну, красота, Константин Степанович: заживем! Без переборов – немного того, немного этого!
Смущало только, что некуда себя девать, – это он недавно заметил, прежде такого не было. Прежде и вечерами скучать не приходилось: с детьми возился, с Лидой – в кино или на танцы, гостей принимали. Общие были гости – его и Лидины. Потом это поломалось, произошло разделение. К Лиде заявятся, он – прочь из дому: с ними тоска. К нему ввалятся, Лида – бегом куда-нибудь. Разные гости, совершенно противоположные по своим культурным запросам. Впоследствии, когда очень уж зачастили к нему и запросы свои стали выставлять в категорической форме, Лида гнала их вон без всякого стеснения, и семейный раскол усугубился. Пропала охота домовничать или шляться по гостям. В кино – скука; танцульки – не по возрасту; музкомедия – не по настроению; драма – не по вкусу, цирк – старье; только время гробить. Без бутылки дела не сделаешь, но теперь уж и дел никаких не было, а все равно бутылка играла первейшую роль. Нету ее – время пропащее; она-то и диктовала: куда, где, с кем. Никогда бы он не согласился жить под чью-то диктовку, но это вроде бы сам себе диктовал. А сам себе когда диктуешь, всегда можно подкорректировать, если заврался.
Шагая по главной улице, он подумал: подкорректируем, это просто, черная рамочка – далече. Успеется.
Но пока что некуда было себя девать. Он когда женихался, нечто подобное наблюдалось: какие бы ни зарождались идеи, самые разные, Лиду не затрагивающие, несло их, словно по желобу, – к Лиде. Или взять пучок света, направленный в одну точку. Но то Лида, то свет, а то – бутылка. Он о ней и не думал, а она, как художественный образ, маячила перед глазами. Дали б ему слово на каком-нибудь заводском собрании, он бы этим примером хотя бы повеселил народ. Самому было смешно: ну что в ней за сила – в бутылке? Из-за нее, пустяшной, такую шумиху поднимать? Общественность мобилизовывать? Газеты? Радио? Телевидение? Меньше бы кричали, больше бы толку было. Чуть забудешься на день, на два, оторвешься, не тянет, а они тебе обязательно напомнят: водка – яд! Ну, тогда давайте-ка его сюда – яду-то! Сами пьют втихаря, а другим не велят, агитируют. Алкашу это до лампочки, тот газет не читает и радио не слушает, а нормальному, пьющему, – обидно: фельетоны, шаржи, запреты, наценки! Вот она и протестует – психика.
Некуда было себя девать.
Он зашел в магазин, осмотрелся стесненно, будто – из глубинки, черт-те откуда, таежный житель, сроду в городе не бывавший. Тот отдел, привычный для него, он обошел стороной, чтобы даже не глядеть туда, не расстраиваться, а кондитерский – никак найти не мог, и спрашивать ему, мужику, было неловко. В том отделе, обычном, мужском, все он знал – и цену, и сорт, и качество, и знал, как подойти, куда, чтобы по-быстрому, а в кондитерском не знал ничего, и его там не знали, могли накрыть, сбыть лежалое или посмеяться над ним, с его рубликом.
Он нашел-таки, что ему нужно было, и шоколадки красовались – такие, этакие, конфет полно, печенья. Большой выбор. Он потолкался возле, долго прицеливался, серебро свое вытащил, подсчитал и прицелился, наконец пошел в кассу платить. Но там была очередь: смех! – еще за этим в толкучке маяться. Он постоял, однако, а подошла его очередь – вдруг раздумал: все же рублик в кармане, затравка. Без рублика вовсе гол человек, бесправен, ни в какое сообщество не примут его. А до дома еще добраться надо; неровен час попадется кто по дороге, внесет конкретное предложение.
Обошлось.
В палисаднике, чуть поодаль от подъезда, Зинаида, простоволосая, раскрасневшаяся, выколачивала ковер. На ней была безрукавка, подбитая жиденьким мехом, потертая, мужнина, видимо, с тех времен еще сохраненная, а руки голые, и платьице цветастое, летнее – по колени. Распарилась, распахнулась, выколачивая. Ковер был большой и, видать, тяжелющий. Вдовья доля – некому подсобить. Из-за нее он погорел тогда – на участке, опять в приказ попал, в проработку, опять скостили премиальные, но зла на нее не таил. Она была не такая – таила.
– С праздничком! – подошел он, будто не виделись, – С наступающим!
Она сворачивала ковер, пыхтела, подняла голову.
– С каким?
– А я знаю? – сказал он. – Давай подмогну.
Праздники далеченько, но у нее какой-то праздник был-таки. Он всегда присматривался к ней – не так, как к другим, и сейчас присмотрелся. Была она – хоть и простоволосая, домашняя, в мужниной безрукавке, но не обыденная, что-то в ней за эти полчаса переменилось.
– Ну, давай, подмогни, – сказала Зина. – С паршивой овцы, говорят… – Но сказала без злости, скорее – дружественно, а он так привык к ней, хмурой, строгой – не подступись! – что даже утерял свою постоянную нить, которой придерживался в обращении с нею. – Пыли-то было! – сказала она. – Век не чищено!
Подняли этот ковер, свернутый, – и верно: тяжелющ! Что, пылесоса нет? Нет, сказала она, собирались приобрести да не собрались. Еще при муже, значит. Это мне простительно, сказал он, с моим отсталым хозяйством: режут по живому; а тебе, Зинаида… Она промолчала. Подняли, понесли. Хуже нет, когда – в ночь, сказал он, некуда себя девать. А ты дежурь по дому, сказала она, будешь на подхвате.
У нее в квартире был кавардак, генеральная уборка. Он помог ей навесить ковер, а потом не ушел сразу – заморился вроде бы, сел передохнуть, закурил. Она разрешила ему – посидеть, покурить, окно было раскрыто, и тянуло влажной, земляной, лиственной осенней свежестью из окна. В чистом поле живем, красота, сказал он, а есть же несчастные – в самом пекле, в центре, загазованном. Всюду люди живут, сказала она, и ничего, а несчастных еще хватает на свете, никуда не денешься.
Ему было любо сидеть тут, покуривать, посматривать на нее: хороша собой, все, что надо, есть. Все, что надо, есть, да не про нашу честь. Он ни о чем не сожалел.
Уже не про то говорили, а она оторвалась от работы, тоже присела на креслице, прямо на тряпки какие-то, повторила:
– Несчастных еще хватает. Что у кого – то одно, то другое. Наш бог, Костя, который дары раздает, от рожденья незряч. Не может поровну раздать.
– Что-то ты, Зинаида, в зрелом возрасте за букварь взялась, – сказал он. – От кого ты справедливой раздачи ждешь? От природы, которая – наш бог?
– Это букварем не считаю, – ответила она. – Какой же это букварь, если над ним великие умы ломали головы? Это не букварь.
Ну, положим, не над этим они головы ломали. Природа пока что поровну не раздает. И заставить ее нельзя, – то все сказки. Общество – может, природа – не может, Это он подумал так, а сказал иначе.
– Не мудри, Зинаида. У меня был кореш – любитель драить машину. До того додраил, что краска с кузова слезла. Домудрил. Голое железо ржавеет. Так и человек. Не мудри, Зинаида. Не сдирай краску.
Праздник у нее был-таки, надвигался, по крайней мере, – видно было по ней. Но невеселый. Неспокойный какой-то праздник. Не такая она была, как всегда, – возбужденная, что ли.
– Да давно уж содрана краска-то! – сказала она запальчиво. – Вот и мудрю. Справедливости требую, От природы твоей.
Ему льстило, что она с ним – так, начистую, но он не подал виду, что польщен.
– Ну и дура! – нащупал нить свою, утерянную поначалу. – От кого ты требуешь? От бога незрячего? Справедливости в природе нету и быть не может. Ею же самой установлено следующим образом: один родится в сорочке, другой – голенький. Один – Наполеоном, другой – хреном моржовым. И ничего не сделаешь. Никак не переиграешь. Это справедливость? – спросил он, как бы подражая ее запальчивости. – Калеками родятся – это что? Какая может быть справедливость! Я тебе, Зинаида, каплю воды преподношу, а ты уж, если способна, смотри, что в ней отражено.