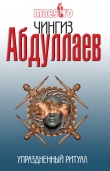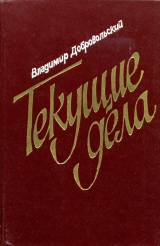
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
34
Интересующихся наперло – полон зал; кому срам, кому потеха. На выходе, когда уже окончилось представление, такая возникла пробка, что еле пролез. Внизу, возле табельной, сочувствующее меньшинство подбросило идею. Идите вы знаете куда послал их Чепель, у меня жинка безработная и детки кушать просят. А Лиду сам уговорил уволиться: от греха подальше. На ту работу нужен мужик, да еще с характером; куда уж Лиде! Уволиться уволилась, но ничего подходящего пока на горизонте не светило. Были две зарплаты, стала одна.
А тут еще суд этот, товарищеский, предупредили. Какой? Товарищеский? Соли они мне на хвост насыплют, сказал он Лиде, не переживай. Предупредили, чтобы готовился. Ну, как же, сказал он, два выходных на это употреблю, с уголовным кодексом спать лягу.
Он заранее решил держаться посвободнее, веселить интересующихся, дать дрозда, как он умеет, чхать на этот суд и на председателя, который был такой же слесарь, как он, ничем не лучше, а хуже – это точно, потому что – с узловой сборки, где всю дорогу суют один и тот же болт в одну и ту же дырку; тебя бы – на дефекты! Пятеро их было, судебных представителей, сидели за столом на сцене, а двоих он вообще не знал – неизвестно откуда, наверно – с доукомплектовки, они на отшибе, вечно – особняком.
Человек предполагает, а суд располагает: посадили в первый ряд – и не на виду, и тоже – особняком; кого веселить? интересующихся? так они оттуда из дальних рядов, ничего не расслышат, для них надо через микрофон кричать, а те, что за столом, – при исполнении обязанностей, их повеселишь – себе дороже выйдет. Не бывал он прежде на этих судах, не приходилось, хотя и приглашали, а побывал, посидел в первом ряду – нет, невесело. Никакого энтузиазма нету – проявлять себя с этой жизнерадостной стороны. Слава богу, представление окончилось.
Там, на остановке, сразу выросла толпа – ждали автобуса; он обыкновенно в толпе не терялся, а теперь что-то не было энтузиазма – двинулся своим ходом.
Значит, с этим ясно: у Должикова лопнуло терпение. Так и отметил в своей обвинительной речи: накалялось, мол, набухало и лопнуло. Худую траву с поля вон – так и сказал. Так и заявил: вот о чем, дескать, и осмеливаюсь просить товарищеский суд. Товарищеский!
Дурака кусок! С кем же ты останешься? С пацанвой, которая только то и может, что вкладыши менять? Где твои кадры? Выгони еще и Булгака, будет совсем просторно.
Обвинитель покрикивал, подсудимый помалкивал. Попрут с завода – не беда, работа всегда найдется. Плохо только, что Лида без работы. Он когда подумал об этом, сразу смутно стало: хвататься за первое попавшееся – не с руки, а пока примеришься да присмотришься, такие пробоины образуются в бюджете, что потом не зацементируешь.
На Булгака тоже было совершено покушение: каюсь, оказал Должиков, моя промашка, теперь не поправишь, сосватали Чепеля в наставники к Булгаку, а каков поп, таков и приход. У каждого попа своя обедня, подумал Чепель, чего там требовать еще от Должикова.
Булгаку надо было не так: сиди молчи, бери в пример наставника, хотя и бывшего, а он поперся на трибуну доказывать, что не верблюд.
Дурака кусок, между прочим: кого судят? Чепеля или Булгака? Судят Чепеля, вот и клепай на него, а он стал клепать на себя, самокритику развивать не к месту, завоевывать авторитет у широкой общественности, которая уже на часики поглядывала: сколько можно! Раз уж Должиков предложение внес, так тому и быть, а что Лида без работы – никому дела нет.
Булгак, однако, свое доказывал: не ваш, мол, промах, Илья Григорьевич, а мой собственный, то есть Владика Булгака, который, будучи приставлен учеником к Чепелю и набравшись у него сполна слесарного искусства (это точно!), вместо того чтобы большое спасибо сказать (а кому оно нужно?), в пояс поклониться за науку, за выучку, за передачу опыта (мама ро́дная), разругался с ним (кто, между прочим, с кем?), отказался от него (кто, кстати, от кого?), покинул в беде (в какой беде?) и не попытался даже повлиять, воздействовать, подзаняться перевоспитанием. Так и прыснули в зале, когда Булгак сам себя в генералы произвел. «А вы не смейтесь! Учитель и ученик – это диффузия, если вспомнить физику. Учитель не только дает, вкладывает, учит, но и берет, воспринимает, учится. По-моему, – сказал Булгак. – Америк я не открываю». Был на участке профессор трепологии – Должиков; еще и Булгак прибавился, – ну, в крайнем случае, доцент. «Ты лучше поясни, что у тебя с комсомолом! – крикнули ему. – Почему из комсомола выбыл?»
После драки кулаками не машут; поздно Должикову кулак показывать, надо было раньше. На трибуне слезу пускал и под эту слезу поносил Чепеля, как только мог. Сердце кровью обливается, говорил, но приходится констатировать. Что констатировать, что? Кого Чепель позорит? Участок, да? Цех? Завод? Трудовой коллектив? И рабочий класс тоже? И еще и семью? Да ты, профессор, хотя бы семью не тронь! После драки кулаками не машут.
И Маслыгина, как на грех, не было – где-то в командировке. Тот бы вникнул по-человечески: жили на две зарплаты, осталась одна. Довести семью до ручки? Чтобы вообще – ни одной? Вообще без ничего жить? Маслыгин был человек и пользовался авторитетом, – дал бы человеческое направление суду.
У Должикова была записная книжка, и в ней, сказал, весь участок, как на ладони. Ну, весь не весь, а Константин Степанович Чепель был отражен там в полном объеме. Такого-то месяца, такого-то числа… «Ясно! – крикнули из зала. – В Шатровку его!». Его – в Шатровку? Чепеля? В Шатровке было заведение, куда засаживали алкашей – работать и лечиться. Его – в Шатровку? Прежде говорили, что Чепеля и пулей не пробьешь: броня на нем. А как током ударило. Нервы. Это водочка, выпитая за все последние годы, выходила наружу.
Вот Булгак, чудило, ввязался. Некоторые запротестовали: не Булгака, дескать, судят; другие все же настаивали: пускай, мол, пояснит, что у него с комсомолом; и председатель наконец вмешался в эти разногласия, дал установку, что к делу, что не к делу. «Обождите! – сказал Булгак председателю. – Я по делу говорю». Тогда крикнули из зала, слесарь с конвейера: «Если по делу, то доложите, товарищ, с какой политической целью вы срывали портреты передовиков в партийном кабинете!» Тогда Подлепич встрял: «Это провокационный вопрос! На такие вопросы Булгак отвечать не будет!» Расписался за неграмотного.
Пулей не пробьешь, а слово валит с ног. На том собрании, знаменитом, когда Булгак при всех обделал Чепеля, тоже было такое: как током! Сволочные звоночки, предупреждающие, дребезжали назойливо: стоп, Костя, красный свет. Ну и что? Вроде бы на красный не ездят? Он всю жизнь на красный ездил и доездился, докатился. Нервы.
Поставили Булгака к стенке, навели на него ружья: ослеп, оглох, онемел. Безаварийно мало кто ездит, где-то что-то всегда сотворится, не ты кого-то стукнешь, так тебя кто-то стукнет, но на кой черт с передовиками связываться? Висят-красуются? Ну и пускай себе. Тебе жалко? Ты ж генерал, не теряй достоинства, это Чепелю бы простительно: разжалован в рядовые, сам себе яму выкопал и не вслепую копал, сознательно, видел, что копает и для кого. Яма, думал, неглубокая – выкарабкаюсь, но человек предполагает, а бутылка располагает.
«Про комсомол скажу, – пришел в себя Булгак. – Про остальное – мне мой мастер не велит». – «Да, не велю, – подтвердил Подлепич. – Про то с меня спрашивайте, но не здесь, а в другом месте». Крикнули из зала, слесарь с конвейера: «Есть, между прочим, свидетели! Портрет был сорван! Светланы Ивановны Табарчук! Из техбюро!»
Кого судят? Кто подсудимый? Слушайте, что за кино? Давайте кончайте, нечего нервы трепать!
Там он помалкивал, на суде; тут, за проходной, где не перед кем было выступать, разошелся. Человек руководит бутылкой или бутылка – человеком? Если бутылка, давайте с этим кончать. Все разом – по добровольной договоренности. Все кончат, и Чепель кончит, А одному – обидно! Кого он агитировал? Давайте, давайте! Нет, друг, давай-ка ты кончай.
«Мне про это говорить невозможно, – выпрямился на трибуне Булгак, поставленный к стенке. – Но скажу. Перед всеми – еще невозможней, но потому и скажу, что перед всеми. Насчет комсомола».
Он тогда подумал, Чепель, что и ему придется говорить перед всеми. А что он скажет? У него фирма была такая: ждали – повеселит. Но как же веселить, когда энтузиазма нету?
«Меня неправильно поняли, – сказал Булгак. – Насчет комсомола. Не так это было. Не выбывал я, а исключили. Как раз перед армией, перед призывом. А исключили не за хулиганство, это можно проверить, протоколы в райкоме есть. Исключили потому, что был под следствием, и в колхозе считали, что посадят, но не посадили, дальше следователя не пошло».
У Булгака не пошло, а у Чепеля пойдет: сам себя осудит. Этот суд – представление, мероприятие цехкома; тот суд будет суд! Что, спросит, за фирма? Дурачка строишь? Закрыть к чертовой бабушке! Ты ж не дурачок, не дурнее других, не дурнее профессора Должикова. Но Должиков наверху, а ты в яме, и пока ты в яме, веселых песенок не пой, пой себе отходную. Это сговорчивый бухгалтер может кое-что списать под хорошее настроение, а жизнь на сделки не идет: с характером, зараза!
«Работали в колхозе, – рассказывал Булгак, – и было б все нормально, но стал отец попивать. Сначала понемногу, потом побольше, вроде Чепеля, и еще побольше. Втянулся, засосало, я по делу говорю».
Ты деда притяни сюда и для комплекта – прадеда, всех родичей собери в кучу, направь агитбригаду против Чепеля. Он уже лежит, а ты лупась его, – это, говорят, в культурных слоях так положено: пинать лежачего.
«Примеров подобных немало, – сказал Должиков. – Не будем отвлекаться. Какое следствие велось? За что привлекали?» – «За избиение, – ответил Булгак. – За нанесение тяжелых телесных повреждений. В армии спрашивали – не мог говорить. Свежо еще было. И на заводе – тоже не мог. Не могу. Есть в жизни такое, которое надо забыть. Только это и спасает: забыть, вроде бы не было. Я восстанавливаться в комсомоле не мог, хотя, думаю, восстановили бы. Но восстанавливаться – значит опять пройти через это! То, что с таким трудом забыто, а может, и не забыто, а только похоронено. Значит, опять вспоминать много раз, повторять в свое оправдание, доказывать, что чистенький, формально, по закону не виноватый. Но у меня же свой закон! Я же руку поднял на родного отца! Вспоминать – могилу раскапывать!» – «Могилу? – переспросил Должиков. – Ты уж договаривай». – «Материнскую, – сказал Булгак, – Не стало матери. Отец ее – топором. В пьяном виде».
Ну, это уж зверство. Это уж… Кого судят? Какого черта тут, в здоровом коллективе, приводить такие случаи? А судьи, лопухи, развесили уши! Булгак нашел, где исповедаться!
Сразу же после него дали слово Подлепичу.
Кого судят? Чепеля. Подлепич про Булгака ничего не сказал, – ждали, что скажет, с этого начнет, а он вообще сделал вид, будто не было такого разговора. Да и что сказать? У Булгака, мол, на жизненном пути капитальное потрясение, но какого ж черта, паразит, молчал? Потрясен, мол, с юных лет, и, значит, выдергивай перышки у передовиков, срывай портреты?
А про Чепеля? И про Чепеля говорить – черпать воду решетом: все сказано. Лопухи сидели интересовались: как, мол, суд решит? Суд сидел придуривался: мол, трудна задачка! Да вы глаза-то раскройте: давно уж готов ответ. Где? А вон – на бумаге записан. Да не на той, что сверху – сверху не ищите, там оно никогда не ложится, а ищите снизу, под самым спудом. Ухватили? Точно! Вот это и есть ваше решение, товарищеское, два часа назад или даже раньше в той комнате, цехкомовской, составленное, и печать цехкомовская стоит либо еще какая, потому что, к сожалению, Маслыгина нету – в командировке, а Маслыгин не позволил бы так делать. Маслыгин велел бы сперва разобраться, подсудимого выслушать, а тогда уж выносить приговор.
Маслыгина не было – был Должиков, тот знал, что говорит: по бумаге, цехкомовской, шпарил, и как сказал, так оно и будет. После должиковской песни Подлепичу – только припев повторять, а припев у всех был один.
Припев один, куплеты разные; не сомневайся, Костя, куплетиком добавочным теперь уж обеспечен: о топоре куплет. Не просто так, по глупости, исповедался на трибуне Булгак – тоже не дурачок: куплет был с моралью. И к стенке ставили, и ружья наводили, а все перетерпел, лишь бы исподволь подвести певцов к этому куплету. А те уже прокашливались, прочищали горло: дойдет, мол, Константин Степанович, и у тебя до топора. Что ж, может, и дойдет. До гровера дошло ведь?
«Вот, говорят, у Чепеля золотой характер, – сказал Подлепич. – А я добавлю: был! Стерлась позолота. Чем-то смыло ее».
А чем – не сказал, не упомянул про эту жидкость. Про гровер тоже не упомянул – придерживался краткости. Вот у кого привычки не было тянуть резину.
Дойдет до топора, – ну, напугал же! Да кто пугал? Никто покамест не пугал, – разве что сам себя пугнул, так это уж от нервов. Но позолота стерлась-таки? Чем-то смыло ее? Чем смыло – не секрет; секрет – как жить-то в дальнейшем. Аж дрожь прошла по телу, чертовы мурашки: бутылка властвует, и власть эту не сбросишь. Как в древние века – рабов приковывали к этим самым, как их… Он это видел в кино, тогда не трогало: века-то древние. Теперь аж пот прошиб, как будто приковали уже.
«Илью Григорьевича поддержу, но не полностью, – сказал Подлепич. – Мое расхождение с ним существенно меняет конечный пункт, к которому должны сегодня прийти. Все ли исчерпано, что в наших силах? Не все. Мы еще больше в одиночку действуем, разрозненно, а надо бы – гуртом. Всей сменой мы еще и не пробовали. Вот почему я против увольнения, а не потому, что Чепель – слесарь-таки и котелок у него варит».
Осечка! Подлепич, значит, не читал бумаги, которая лежала под спудом, не предъявили ему судьи, упустили это. Или не уразумел: как сказано Должиковым, так и будет.
Теперь, когда все уже осталось позади, те пушки смолкли, а тогда застреляло в ушах: салют из ста орудий. Начхал Подлепич на какую-то бумагу! Бумага, правда, так или иначе верх возьмет, но разве в этом дело?
«Мне будет легче без Чепеля, – сказал Подлепич. – Меньше мороки. Мне будет легче, Костя, – повторил. – Но и трудней, конечно. Так что думай, Костя, сам».
Народец в зале был настроен по-должиковски, Должиков настроил, но настройки вдруг пошла насмарку: повеяло из зала теплым ветерком. Подобрели. Купил их чем-то Подлепич, хотя и не старался; всех, кажется купил, но кроме Должикова, – того задешево не купишь. «Есть рапорт по Чепелю, мастером смены подписан! Или не твоя подпись, Юрий Николаевич? Подделка?» – «Подпись моя, – подтвердил Подлепич. – Об увольнении в рапорте не сказано». – «Так это ж вытекает! Это же как следствие! Я лично твою обтекаемость, Юрий Николаевич, понял именно так». – «Неправильно поняли», – сказал Подлепич. «Возможно, – сказал Должиков. – Мой личный недостаток: плохо понимаю обтекаемых людей. Но раз уж сменный мастер ручается за слесаря, не в моих правилах с этим не считаться. Я предложение свое снимаю».
Чуть было не поцапались, – из-за кого? Из-за Чепеля! А Чепель кто? Пропащий человек! Увидели бы девочки, куда отец посажен! А мог бы и не тут сидеть, будь человеком. А мог бы там, где эти судьи – за столом, не будь бутылки. Бутылку что судить, бутылка не подсудна, подсуден человек. А мог бы там сидеть, где Должиков и где Подлепич. Он вдруг подумал, что, наверно, правы те, которые живут по заповедям, писанным для всех. Наверно, правы те, что считывают жизнь с готовых заповедей, общих. Наверно, в заповедях этих есть нужный ответ на его вопрос: как жить в дальнейшем? Он вдруг подумал, черт его дери, что нужно заповеди эти взять и положить в основу. Ну, продаюсь, подумал он, задешево купили.
И не подмасливался к судьям, но что-то им пришлось по вкусу. Теперь, когда уж это было позади, попробовал восстановить – по камушку, по зернышку. Я Николаичу, сказал, отвечу. Или не так сказал? Я грамотный: на снисхождение ответить должен обещанием. Так, что ли? Обещанного сколько ждут? Три года? То многовато. Я б не хотел, чтоб столько ждали. Хотя вообще-то обещать – легче всего. Наобещался уже, имею опыт. И если бы не Николаич – вот клянусь: пообещал бы! Кому-либо другому – за милую душу. Илье Григорьевичу, например. А Николаичу – не могу.
Тогда председатель напомнил: «Тебя не Николаич судит, а товарищеский суд, коллектив». Товарищеский! Так для меня ж, сказал он, Николаич и есть коллектив! Не то сказал? С языка сорвалось? Спросили, как, мол, понимать отказ от обещаний. А он ответил, что пора уж на старости лет по правилам ездить; не уверен, говорят, не обгоняй. И не подмасливался к судьям, – не против был бы и подмаслиться, да погас огонек: все стало безразлично. Погонят ли, оставят ли, найдется ли работа, пригодная для Лиды, и где он сам окажется назавтра, – все сдвинулось, поплыло, уплыло. И не подмасливался он к судьям, но что-то им пришлось по вкусу; наверное, насчет обгона.
И присудили его к лечению, а не к увольнению, – еще по-божески! И не Шатровку присудили ему, а заводскую амбулаторию, – то можно было чхать! То юмор – эта амбулатория, кабинет – и не выговоришь! – нар-ко-ло-гический. Оттуда выходили, сразу же соображая на троих. Он сам был этому свидетель и участник. Там зубы заговаривали, в той амбулатории, а пьющему не заговоришь. На этот счет можно было быть спокойным. Там птички ставили для отчетности, а пьющий эту птичку обмывал. «Обмоем?» – пошутил Подлепич, когда все закончилось. «Нет, рано, Николаич, погодим». Они стояли в проходе, Должиков прошел поодаль. «Надо бы ему доказать, – сказал Подлепич. – Неплохо было бы» – «Чем черт не шутит, Николаич; может, и докажем». Кому собирался доказывать? Должикову? Ты себе докажи, подумал он, а Подлепичу спасибо скажи, пока суд да дело. Не сказал. Лида встретила его, как будто побывал, в аварии:
– Ну что?
Как будто на костылях или перебинтованный и неизвестно еще, выживет ли.
– Порядочек! – ответил он, гордясь, что жив-здоров и не в бинтах. – Это же тебе не ваша торговая сеть, где хотишь – трудись, а не хотишь – катись. Рабочим классом, знаешь, ли, не разбрасываются. Это тебе завод, а не шарашкина контора.
35
Маслыгин был в отъезде всего лишь неделю, и его недолгая отлучка для многих, пожалуй, осталась незамеченной, но ему-то казалось, будто месяц, не меньше, минул: как из отпуска вернулся. Что значит свежий глаз! – принарядилась площадь перед заводоуправлением, – это уж к праздникам, и выставка фотолюбителей – в сквере – пополнилась новыми снимками, а клены были голы, и листва опавшая сметена в кучки. Он задержался на минуту возле доски цеховых показателей, отыскал привычную строку в графе соревнующихся цехов: сборочный был впереди. Словно бы что-то могло измениться за неделю!
Взаимосвязь между пространством и временем, подумал он, в наш век упростилась до крайности: завтракают в Москве, обедают в Париже, но у каждого свое – и мерки свои. Вчерашнее – мокрый снег, вокзальные огни в тумане, Нина – и нынешнее, утреннее, заводское никак не стыковались, и между тем и другим образовался разрыв – грустноватый, признаться.
Он в цех не заходил еще, но встретил кое-кого на заводской аллее, и эти встречи приободрили его, – он даже устыдился своих наивных чувств: нет, не осталась незамеченной его недельная отлучка. И просто поздравляли с благополучным возвращением, по старому обычаю – с приездом, и обращались по делам, скопившимся в ожидании его. Он подумал, что у этих дел – побочных, неиссякаемых, текущих – своя особенность: когда вращаешься в их гуще, – это бремя, а отойдешь, – становятся желанны, необходимы. Переступая порог партбюро, он ощущал уже, как бремя наваливается на него, и не отстранялся – успел соскучиться по этой тяжести.
Его заместитель был приверженцем оперативной скрупулезной информации: незамедлительно посвятил его во все мельчайшие подробности произошедших за неделю цеховых событий. Он выслушал все это со вниманием, а кое о чем попросил рассказать обстоятельней – о товарищеском суде, например. Его не столько интересовало судебное разбирательство, сколько некоторые психологические неожиданности, открывшиеся в прениях. Там, кроме того, упоминалась мельком и Светка, что вновь навело его на размышления, которым недавно дал толчок Подлепич. Но он подумал о Подлепиче не в связи с Булгаком или Чепелем, а в связи с неприятностью, подпортившей ему приятную поездку. В поездке и теперь, по возвращении, об этой премиальной катавасии он и не думал иначе, как о неприятности, а потому гнал прочь ее в поездке и Нине предпочел вообще не говорить о ней.
Его заместитель был больше информатор, чем аналитик, и больше громовержец, чем психолог: злодеяние Булгака в комментариях не нуждалось. Сорвал Булгак фото? Сорвал!
– И правильно сделал!
Эта, несомненно, безрассудная реплика, брошенная в сердцах и, стало быть, непроизвольно, заставила громовержца встряхнуться: уж не ослышался ли?
– Я говорю, каким образом Табарчук попала еще и туда? – спросил Маслыгин. – В эту портретную галерею!
Старательный информатор на сей раз развел руками, но и съязвил при этом: вам, дескать, известно, что у Светланы Табарчук большие организаторские способности. Почувствовав себя в неловкой роли подстрекателя, Маслыгин эту тему оборвал.
Времени на то, чтобы идти в партком, не было у него ни минуты, и позвонил туда, попал как раз удачно, спросил, когда можно будет встретиться, имея в виду разговор о Подлепиче, но у секретаря парткома тоже не было ни минуты: прикатила представительная комиссия по поводу аттестации тэ-шестого на государственный Знак качества. Тут уж и говорить было не о чем: в таких исключительных случаях вся заводская верхушка с утра до вечера привязана была к этой комиссии.
Он боялся опоздать – неделю уже потерял; если так, то и день потерянный ничего не изменит; впрочем, все равно не в его власти было высвободиться из пут нахлынувшей текучки, – это, не дававшее покоя ему, он отложил на завтра.
Он отложил на завтра также и свой, задуманный еще в поездке, визит на участок Должикова, в смену Подлепича. Он назвал это визитом, потому что другого слова сразу не нашлось, а в сущности, ему нужно было еще и еще присмотреться к Юркиной смене – еще и еще убедиться в том, в чем, возможно, придется кое-кого убеждать. Он подумал, что, пожалуй, и не стоило бы идти к секретарю парткома, не утвердившись окончательно в своем убеждении.
Без него должны были наконец-то завезти в подшефный жилой микрорайон обещанное оборудование для детской слесарной мастерской, но не сделали этого, не сумели столковаться с начальником транспортного цеха, а он сумел и на том же грузовичке съездил в микрорайон, чтобы заодно уж посмотреть, что там делается.
Съездил он не зря: делалось не столько, сколько хотелось бы, и не так, как хотелось бы, и теперь у него было полное представление о том, что нужно делать. Поколесив по микрорайону, он зашел еще – напоследок – в пионерскую комнату и, пожалуй, зря зашел: там была Светка.
Там был шум и гам, девчонки и мальчишки, Светка – среди них; никак не ожидал ее увидеть. Поскольку, впрочем, цех был шефом, сюда, конечно, захаживали цеховые активисты, а Светка принадлежала к их числу, и ничего странного не было в том, что она оказалась тут. И, может быть, не стоило язвить насчет ее организаторских способностей, – ведь домыслы, не более!
Тем не менее он попытался незаметно уйти, но это ему не удалось. Одинаково по-взрослому, даже с избытком неуместной парадности она представила его подросткам и детворе, а те, в свою очередь, не без ее помощи стали представляться ему. Она так уверенно суфлировала, что никак уж не казалась случайной гостьей тут.
– А ты, вижу, умеешь с ними! – похвалил он ее, когда отошли в сторонку и сели.
– Я все умею! – беззаботно оказала она, словно бы перенимая эту легкость тона у детворы, и с той же бойкой ребячьей нетерпеливостью потребовала: – Ну, докладывай! Как съездилось? Как Нинуся?
О Нине она, разумеется, спрашивала из деликатности, а он вовсе не считал это пороком, но так же, как в день отъезда, Светкина внимательность покоробила его.
Нисколько не греша против истины, он сказал, что Нина благодарна за гостинец и ждет поручений, которые, по ее разумению, в этом гостинце подразумеваются. Подобно своему свекру, она Светку недолюбливала.
Он мог бы не говорить этого, но сказал, потому что так был настроен и не видел доблести в том, чтобы скрывать от Светки эту настроенность.
Откинувшись на спинку стула, запрокинув голову, она по-ребячьи звонко расхохоталась:
– Но ты же знаешь, Витя, что я не тряпичница!
Ну, что-нибудь по хозяйству, сказал он, мало ли какие бывают у дам заказы. Она со смехом сказала, что надо подумать, раз уж все равно у нее репутация подлизы.
– Нина меня не жалует, – добавила она с сожалением, и лицо ее смеющееся вмиг омрачилось. – А я к ней отношусь с исключительной нежностью.
На это он ответил скептической усмешкой и сказал, что для такой нежности не видит оснований.
– А я вижу, – заявила она вызывающе. – Нина – твоя жена!
Он приложил руку к сердцу, сказал, что польщен, и затем они примолкли, с преувеличенным интересом, как ему показалось, наблюдая за веселой возней детворы.
– Кстати, я подобрала мировую кандидатуру в шефский совет, – вновь оживилась Светка. – Нет, нет, не себя! Не запрягай! – погрозила она ему пальцем. – Председатель – производственник, загружен сверх головы, а это пенсионерка, пробивная старушка, бывший работник Дома культуры, свой человек в райкоме. Замом ее, а? Дашь добро?
– Ты мировой организатор, – словно бы похвалил он Светку, – и, кстати, объясни, каким это образом твоя фотография попала в парткабинет.
Светка пожала плечами.
– Обыкновенно. Попросили.
– И не могла отказать?
– Тогда не могла. Сейчас отказала бы. Вообще, это какая-то муть! – вдруг взорвалась она. – Я этого Булгака теперь просто боюсь. Какой-то ненормальный. Патологический тип. Наследственность, Витя! Там, говорят, в семье разыгралась кровавая драма! И что он хотел этим сказать?
– Да ничего. Наверно, ты ему понравилась, – Маслыгин усмехнулся. – На той фотографии.
Она не смеялась.
– Господи! Да обратись ты по адресу! Я бы ему десять не пожалела, лишь бы не ставил меня в такое положение!
– Впредь будешь умнее, – буркнул Маслыгин, – будешь знать, к чему приводит реклама.
– Господи, – вздохнула Светка, – я же не виновата, странная терминология: по отношению к другим ты называешь это пропагандой и агитацией, по отношению ко мне – рекламой.
– Саморекламой, – сказал он.
– Ай брось! – переменила она позу, нагнулась, разгладила складочку на брючках. – Я ишачу не меньше других, с которыми ты носишься и не считаешь зазорным поднимать их авторитет. Но они топчутся, а я иду, в этом вся разница.
– И даже не идешь, а скачешь. Галопом, вперегонки.
– Естественно! – усердствовала Светка, разглаживая складочку. – Не поскачешь – отстанешь, упустишь инициативу. Это жизнь, Витя!
А он подумал, что Булгак не безголов, но потерял голову; кому отдуваться-то? Опять Подлепичу?
– Да, жизнь – аргумент железный, – сказал он хмуро. – Пригодный для самообороны. Чуть где-то с ней расходимся, с жизнью, и ею же оправдываемся: это жизнь!
– Я не оправдываюсь, – сказала Светка, – я подчиняюсь ее требованиям.
Он был настроен агрессивно и потому, пожалуй, позволял себе злоупотреблять Светкиным терпением.
– Пойдем, однако? – предложил он, словно бы замиряясь с ней. – После своей поездки я как-то отвык от таких дневных нагрузок.
– Сейчас пойдем, – кивнула она, вскочила, побежала в ребячью толпу и так же легко смешалась с этой толпой, как и вскочила, побежала.
Сегодняшний день был закончен; он подумал о завтрашнем; не поскачешь – отстанешь, упустишь инициативу, – его же собственный девиз, а вернее сказать, универсальная формула; зависит – какие значения в нее подставить вместо символов.
Он подумал о завтрашнем дне и, когда вернулась Светка, спросил у нее, что слышно с премиальным списком и как много времени остается на то, чтобы побороться за кандидатуру Подлепича, а она, как бы почувствовав себя в своей стихии, мгновенно воодушевилась, присела вновь к нему, заговорила увлеченно:
– Время еще есть. До техсовета. Там будет утверждаться тайным голосованием. Но что я тебе советую: не разворачивай кампании! Не мобилизуй общественного мнения! Ни в коем случае – не в лоб! В лоб – ничего не выйдет.
Да он и не собирался – ни разворачивать, ни мобилизовывать, но собирался, конечно же, – в лоб; а как иначе?
– Дипломатическим путем, – объяснила она, придвигаясь к нему поближе, потише изъясняясь. – Найти какой-то ход к этой комиссии, которая проверяла участок. На парткоме это еще не рассматривалось, и надо, чтобы они сгладили формулировочки. Касающиеся Подлепича. И если сгладят, формальных препятствий не будет.
– Каких препятствий? – хмуро спросил он.
– Подлепич – скомпрометированная фигура, – сказала она, движением руки закругляя эту фразу. – Как ты не понимаешь?!
Он понимал, недаром рвался на участок в смену Подлепича – увериться хотя бы, что производство не хромает. У самого копошилась такая мыслишка: там неурядицы, в смене, оплошал сменный мастер, а с премиальным списком катавасия, вот и вычеркнули. Он сам того же опасался: могут вычеркнуть; и, стало быть, предвидел такой оборот, и это стереотипное предвидение сердило его, он, кажется, старался даже не признаваться себе в этом, а теперь, признавшись, снова вспомнил ту притчу, не без повода рассказанную ему Подлепичем: как обводила дочка карандашиком картинки, воображая, будто бы рисует.
Опять он обводил – не рисовал.
– Но это же нелепость! – возмутился он. – Человека выдвигают на премию за полезное дело и отводят его кандидатуру по причине, совершенно не имеющей к делу отношения: комиссия сформулировала что-то не так! Суть дела, объективная истина, неоспоримая заслуга человека ставятся в зависимость от случайной формулировки!
Он спорил не с нею, Светкой, и не ее нелепыми действиями возмущался, но она почему-то приняла все это на свой счет, загорячилась даже:
– Формулировка не случайная! Подлепич обанкротился!
– Но если он действительно обанкротился, то как же можно скрыть это банкротство? Подчистить документы? Ты, стало быть, легализуешь подлог как средство восстановления истины?
– А, брось! – скривила она губы. – Громкими словами ты ничего не добьешься. Тут надо – тихо. – Лицо ее грубело и грубело, а руку положила ему на плечо: привычный знак особой дружественности. – Доверь-ка это мне.