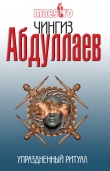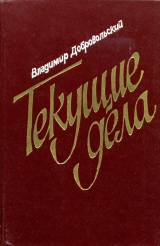
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
27
Берите в мужья старых холостяков: они вам постирают, погладят, сготовят, подадут и еще посуду перемоют. Ну, стирка у него была налажена в прачечной – с доставкой, обедали на заводе, по выходным – в кафе, а все остальное он делал скрытно, не подчеркивая своего трудового энтузиазма, не ущемляя женского достоинства. Зато уж, если Лана бралась за что-нибудь, он обставлял это так, что впору бы по телевизору показывать, как жены создают семейный уют.
У них, у технологов, была гулянка в ресторане, а Должиков тем временем надраивал санузел. Пока нет Ланы. Она бы задала ему баню. А ей копаться в грязи позволить он не мог. «Балуешь?» – «Балую!» Кого же еще было ему баловать?
Человек в жизни, как солдат в походе. Каждому выдается персональный НЗ – неприкосновенный запас. Всякое такое: сухари, консервы, любовь к ближнему. Неприкосновенное раздаче не подлежит, но некоторые – по складу характера – не выдерживают, поедают или раздают. Он постоянно следил за своими чувствами – словно бы градусник совал под мышку: не переменилось ли что? Не переменился ли к Лане? Тот ли вольтаж? Все тот же был, ничего не менялось. Стрелка застыла на красной отметке, а дальше уже перегрев, аварийный режим. За себя он был по-прежнему спокоен и по-прежнему не спокоен за Лану. Это беспокойство он теперь формулировал, исходя из своих рассуждений о неприкосновенном запасе: Лана – раздавала, он – берег. Она, конечно, раздавала не то, что принадлежало ему, но все-таки раздавала: теплоту, ласку, заботу, участие. А он, как исправный солдат, всю жизнь хранил свой НЗ в запечатанном пакете, ждал команды – распечатать – и дождался. То, что хранится всю жизнь и не растрачивается по мелочам, то уж надежно, как срочный вклад в сберкассе. Лана была далеко не транжирка – в этом смысле, материальном, но душевные свои капиталы на сберкнижке не держала. Он не порицал ее, да и можно ли за такое порицать? Он только объяснял себя в беседе с самим собой.
Беседа затянулась, – еще разок протер он унитаз, отошел, глянул издали: блестит. Это как раз было не нужно, чтобы блестело, чтобы бросалось в глаза. И кафель блестел – тоже чересчур. Между тем пора бы и честь знать гулёнам, – он уже заволновался. Прежде был страх перед людскими толками, насмешками, грубостями на манер Близнюковой. Теперь он страшился другого: какой-то беды. Когда Ланы не было с ним, ему становилось тревожно. Она приметная: пристанут, нахамят, обидят. Эти рестораны – ну их к бесу! Она была порывиста, рассеянна порою, – на улицах движение, водители лихачат. Она была доверчива, легко сходилась с людьми, а люди разные; бывает, носят маски; доверчивому – не разобраться.
В своей тревоге он становился брюзглив, покряхтел, повздыхал: «Эх, маскарад, маскарад!»
К чему это ворчание? Да ни к чему. Стараясь все же оправдаться, он подумал, что ничего так не желает в жизни, так не жаждет, как уважения к себе, и уважают, да только – честно ли, не делают ли вида?
Сомнения ушли вместе с тревогой: звоночек был короткий, отрывистый, Ланин. Она всегда так звонила, будто уверена была, что ждет, прислушивается и, значит, услышит.
– Вот… тебе! – с порога протянула ему пучок оранжевых кленовых листьев. – Последние дары золотой осени.
А он засуетился. И дар принять, и снять с нее пальтишко, и руки обогреть; в такую пору – без перчаток? Не уследил, когда уходила. Букет? Куда же мы поставим? Он, впрочем, не был сентиментален и этих пыльных листьев, подобранных на улице, в квартиру не тащил бы. Но ей прощалось все; поцеловались. Она и не пила!
– Что там у вас, – спросил он, – не давали?
– Чуть-чуть, – сказала она, – шампанского. Я если выпью, умираю спать, а у меня еще работа.
– Ну, активистка!
– Нет, по другому профилю, по основному, – сказала она. – На завтра нужно кое-что подредактировать.
Она взяла халатик, пошла в ванную, дверь не прикрыла, рассказывала:
– Ай, жуткая толкучка, сумасшедший дом, обсчитывают, жулят, оркестр – пародия, шашлык – карикатура, ты ничего не потерял. Но именинница была на седьмом небе, и я довольна: сделали дело. Люша! – крикнула она. – Ты, кажется, опять выступал в этом жанре? Ну да, я же вижу! Я же просила ни к чему не притрагиваться! Я же сказала, что разделаюсь с делами и сотворю грандиозную чистку!
Она – разделается! Он мягко улыбнулся. Она и развлекалась в общем-то по-деловому, и с этой своей гулянки вернулась, как с очередного заседания, где не все было на деловом уровне, однако провели, сделали дело.
– А глазки спят! – заметил он, все так же улыбаясь мягко, когда она появилась в домашнем халатике.
– Ну, ну! Не агитируй! – обняла она его. – Завтра выходной.
Он тоже не лег еще, уселся в кресле, развернул газету, сегодняшнюю, читаную, но читанную наспех. Теперь уже покойно было, благодатно, Лана рядом, раскинула свое бумажное хозяйство по столу, – в мире беспокойно. Ну, это уж как водится: едва лишь унималось пожарище на одном краю земли, как разгоралось на другом. Теперь бурлила Африка. Стреляли, убивали. Но это было где-то далеко. Лана закинула руки за голову, прищурилась. Размышляла вслух или спрашивала совета? А если мы сделаем так, размышляла, введем в техрегламент визуальный осмотр поддона. Спрашивала? У него на коленях была газета, и в мире было неспокойно, но где-то далеко. Мысль, разумеется, он ухватил: осмотр поддона – самоконтроль; могу, сказал, только приветствовать, но что за спешность – техрегламент! – на ночь глядя?
Как будто заседание у них было, и кто-то нарушил порядок: она постучала карандашом по столу.
– Мне нужно, Люша, уходить из цеха.
Из цеха уходить ей было совсем не обязательно, да и куда же уходить? Достаточно было перейти на другой участок, об этом вскользь уже говорилось, но до поры откладывали это.
– Ай, брось! – поиграла она карандашом, покатала по ладони. – А перспективы?
Да ежели нет их во владениях Старшого, то где же они есть? Она сказала, что при Старшом не обанкротишься – цех твердо держит первенство, но и в космос не взлетишь. А хорошо б смотрелась на портретах! Я, кстати, не фотогенична, сказала она, и в крайнем случае пошла бы в ОГТ. Что же, это фирма! Но есть ли там вакансии, в отделе главного технолога? И возьмут ли ее?
– Возьмут! – поиграла она карандашом: подбросила – поймала. – Меня? Возьмут! В конструкторскую группу – хоть сейчас. Но по наладке или по нормалям я бы не хотела. Мне ближе технологический подотдел. Лишь бы куда я не пойду. Надо смотреть на несколько ходов вперед, и главное – чей ход. У нас есть парень в техбюро, который с утра излучает счастье только потому, что вечером по телеку будет какой-то хоккей. Можно ли так жить? Ты знаешь, Люша, – сказала она без передышки, – мне не хотелось бы появляться в техотделе с пустыми руками. С пустыми – ход не мой. А раз не мой, то перспектива не ясна. Мне нужно, Люша, что-то принести с собой, – нарисовала она это прямо на столе: какой-то эллипс. – И положить перед начальством как визитную карточку. Вот почему я спешу.
И эту мысль он сразу ухватил, но мысль-то была несерьезна: менять технологию или повременить – ОГТ и решает; ну и неси туда, сказал он, без них-то все равно не сделается, а козырнуть этим – не козырнешь: мероприятие-то всем известное, давно уже запланированное, и ход, ей-богу же, не твой, ты ж исполнитель.
– А производственный эффект? – пристукнула она карандашом по столу. – А то, что с вводом новой технологии исчезнет дефицит рабочей силы? А то, что можно будет ликвидировать ночную смену? А резонанс? Но надо ввести-таки ее, технологию, добиться, и я добьюсь, – не повышая голоса и не хвалясь, пообещала она. – Тогда это и прозвучит. На деле, донимаешь? А не на бумаге.
Ну, что он мог сказать ей? Вот здесь уж ход, сказал, не мой. Не твой, не твой, сказала она, мне надо уходить из цеха.
Как-то нехорошо подействовал на него этот разговор. Газета лежала перед ним, он уткнулся в газету. Ах, Лана, Лана, золотко, бесценный дар судьбы, неугомонное дитя. Ребенок. И золотая осень; букет стоял на этажерке. Ему бы, взрослому, попридержать ребенка, чтобы резвился в меру, а у него, сказать по совести, проскальзывала робость. Тогда, еще зимой, весной, не тушевался, резал правду в глаза, но это ж не ради правды, а ради избавления от колдовства. И, слава богу, не избавился, иначе весь свой век себя же клял бы. Жизнь. Да разве это жизнь была бы – без нее? Вся жизнь теперь уж в ней. Газета лежала на коленях, он читал про Африку. Несоответствие: стреляли, убивали, но это там, а тут стоял букет на этажерке. Нет, нужно было поделиться этим, безотчетным и бессвязным, настроившим его на необычный лад.
– Вот я тебе прочту, – сказал он вслух, – может быть, поймешь. Вот что творится на белом свете, а мы с тобой…
Она писала, черкала, опять писала и головы не подняла.
– К чему это ты прочел?
Ну, раз не поняла, то и не надо. Он отложил газету.
– А что, собственно, надо? – повернулась она к нему. – Ты против ОГТ? Считаешь, рано? Не доросла?
Теперь и он не понял: к чему же ОГТ? Какая связь?
– А связь такая, – прищурилась она, рисуя завитушки на бумаге. – Сейчас объясню. Есть радиус чувствительности, – объяснила, – у каждого. Когда мы чем-то омрачены, радиус резко увеличивается. И вот уже – Африка, ты выбрал африканца, которого там терзают, пытаешься страдать за него или вместе с ним. Но все-таки твой радиус не так велик, чтобы достичь туда. Пытаешься и не можешь.
Да он и не пытался. Он думал о ней и о себе. О том, сказал он, что для меня все начинается с тебя и на тебе кончается. А это как расценивать, спросил он, как силу или слабость?
– Фу, дурачок! – улыбнулась она. – Тебе мал радиус! Ну, говори, что стоны твоего африканца не дают тебе покоя. Что просыпаешься ночью и слышишь эти стоны. И говори погромче. Тебе, конечно, не поверят, но выдадут квитанцию: моральный счет оплачен, И с этой квитанцией ты будешь спать спокойно.
Да не было у него никакого африканца. Он это выдумал. Квитанции – другое дело. Квитанции-то были. Но нужно было, чтобы верили ему, а не квитанциям.
– Я что-то стал издерган, – признался он. – Мерещится всякое. Тебя долго не было – ну, думаю, случилось что-то.
Она пожурила его: нельзя же так; все было тихо-мирно, за исключением, как выразилась она, одной пацанской выходки.
Булгак? Милиция? А старшие куда глядели? Маслыгин, например! В командировке? В какой командировке! До вечера был на заводе и завтра собирает у себя пропагандистов.
Но верно: суть не в том.
Суть в том, что не было Маслыгина и драка – не при нем, и он теперь раздует это, а если бы – при нем, пожалуй что не раздувал бы. Такой был ход – первоначальный – мыслей. Но Лана к этому добавила еще, будто бы вызвали туда, в милицию, Подлепича, и якобы Подлепич в курсе всех событий.
Ну, рок!
– Да ты куда? – всполошилась Лана. – Взгляни, который час! Оденься, не лето!
А он схватил с вешалки шляпу и в пиджаке, без верхнего, побежал звонить Подлепичу. Не лето, да, но и не зима, и автомат был рядом – возле подъезда. Ну, рок! Последние дары золотой осени! – по щиколотку нанесло в телефонную будку сухих кленовых листьев. Он позавидовал Подлепичу: вот у кого был крепок сон – не откликался. Вот до кого не доносились стоны африканца. А мой африканец во мне, подумал Должиков, – хоть верьте, хоть не верьте. Уже собрался вешать трубку, как в трубке щелкнуло, голос был сонный. Конечно, разбудил.
– Ты, Юрка, извини. Что там с Булгаком? В двух словах.
– А хрен его знает, – ответил Подлепич. – Романтика, Илья.
– Романтика или мордобой?
– Мордобой, – сказал Подлепич. – А в протоколе: хулиганство.
– Дошло до протокола? Не зря, значит, мерещилось.
– Дошло, – ответил Подлепич. – А как же! Все честь по чести.
– Хороша честь! Очередной подарочек! Бесплатное приложение к выводам комиссии. Ты хоть разобрался? Что думаешь предпринимать?
– Да спать, Илья, – сонно ответил Подлепич. – Со временем, возможно, разберусь.
– Ты, Юра, в своем репертуаре. Ну, спи. До завтра.
Был, значит, протокол. Будет, значит, и официальное уведомление. Подарочек солидный – со штампом и печатью. Ну, рок!
Валилось и валилось на Подлепича – одно за другим, но был бы, право, грех еще и от себя присовокуплять к этому свое негодование. Подлепич, слава богу, не пешка, – разберется, выправится; вчера еще могли не посчитаться с ним, сегодня уж – не выйдет!
28
На семинар он не поехал: была телефонограмма, отменяющая вызов, а так надеялся повидаться с Ниной и, разумеется, огорчился, но затем сообщили, что семинар отложен и вызовут чуть позже.
Тридцатого, таким образом, ничто не мешало ему преподнести Светке сюрприз, нагрянуть в зафрахтованный ею «Уют», однако, собравшись, настроившись, он все-таки передумал: поостерегся вроде бы чего-то.
Стеречься ему было нечего, а как бы уступил распространенному предрассудку, согласно которому в его положении посещать рестораны было неприлично. Предрассудки порой обретают силу неписаных законов, но поскольку они не писаны, да к тому же, как правило, относятся к не стоящим обсуждения мелочам, с ними не спорят. И он не спорил, хотя в принципе отвергал их.
Все это были мелочи.
В предвкушении отъезда, в дорожных сборах он многое важное отложил до своего возвращения, то есть, попросту говоря, на день-другой выбился из рабочей колеи, но раз уж и отъезд был отложен, пришлось наверстывать упущенное.
День-другой – такая малость, что можно ею пренебречь, но оказалось иначе: он ощутил на себе, как это много сто́ит – день-другой! Это словно в ледоход: чуть дошло до затора, и громоздятся льдины, воцаряется хаос, река выходит из берегов. Чтобы не захлестывало быстротекущее время, он должен был рассчитать себя по дням и по часам. Именно себя, а не только работу, которую намеревался выполнить. Именно себя, – он повторял это себе в назидание; понравился неожиданный оборот: себя! Поспевать за временем, гнаться за ним – это теперь, во второй половине двадцатого века, смахивало на патриархальщину; нужно было идти со временем вровень либо даже опережать его. Встречный план.
О встречных планах, о соревновании предстоял серьезный разговор на партбюро, но помимо того задумано было собрать партгрупоргов совместно с профсоюзным активом, и еще маячило кое-что в пределах ближайшей недели. Он подметил такую психологическую особенность, – по-видимому, она была присуща не только ему одному, и потому стоило над ней призадуматься: заседательская суетня, когда она действительно становилась суетней, да еще и чрезмерной, угнетала его, ибо отвлекала от живого дела, но как только принимал он на себя инициаторскую, главенствующую роль в этой суетне, чувство меры изменяло ему, и суетня чудодейственно превращалась для него в живое дело. Других он порицал за это, себя – оправдывал. Других призывал не растекаться мыслию по древу на трибуне, а сам, увлекаясь подчас, уподоблялся им же, растекающимся. Ближайшая неделя сулила ему несколько запланированных разными инстанциями совещаний, – он полагал, что инстанции эти в своем заседательском рвении явно перехватили через край или, по крайней мере, не удосужились согласоваться друг с другом, но в то же время он сам у себя в цехе загромоздил ближайшую неделю не менее ретиво. Призрачное сияние личной инициативы, видимо, гипнотизировало его.
Положа руку на сердце, он мог сказать, впрочем, что не склонен упорствовать в своих заблуждениях или, вернее, не позволяет себе этого и, поддаваясь всяческим гипнозам, всегда готов бороться с ними.
Вот только бы не ограничивалось это декларациями, – нет ничего вреднее пустых деклараций: они усыпляют бдительность.
Он требовал от себя немногого – практического воплощения своих добрых намерений, но это было бы совсем не мало, если бы в его работе неограниченно восторжествовал такой принцип.
Пока что – в частности – дело сводилось к тому, чтобы разгрузить ближайшую неделю. Он взвесил поочередно, с предельной тщательностью одно, другое, третье. Встречные планы остались на первом месте. Выводам комиссии, обследовавшей участок Должикова, пришлось потесниться. Он перенес этот пункт на вторую декаду. К тому же у него была надежда, что за это время Должиков непременно блеснет, – должна же существовать прямая зависимость между прилагаемыми усилиями и их результатами!
Однако после выходного с утра стало известно, что снова набедокурил Булгак. Оперативно откликнулась на это прискорбное событие заводская сатирическая «Колючка». Щит с карикатурой, как всегда, расположен был неподалеку от проходной. Местные карикатуристы изобразили Булгака в плавках и боксерских перчатках.
Перед этим-то щитом и довелось посожалеть, что не преподнес сюрприза Светке, не удостоил ресторанное общество своим присутствием, поддался гипнозу предрассудка. Окажись он там, не допустил бы никаких эксцессов.
Это запоздалое сожаление странным образом связалось у него с навязчивой мыслью о своей вине перед Зиной Близнюковой. Сравнения были неуместны, но в том и другом случае он как бы уходил от личной ответственности, – так ему теперь казалось. Он уходил от нее невольно, без всякого умысла, но все-таки уходил. Об этом смешно было говорить всерьез, – это велась еле слышная – шепотом! – перекличка со своей собственной совестью, а в такой перекличке, считал он, вполне допустимы преувеличения.
Пока он стоял у щита и хмуро рассматривал карикатуру, со стороны проходной подошла Света, удивилась, увидев его. Не уехал? И не появился в «Уюте»? Так точно: не уехал и не появился; спасовал, – такое подвернулось неопределенное словечко, а определенней было бы выразиться: струсил. Она тем временем тоже рассматривала карикатуру, улыбнулась сначала, даже рассмеялась, но потом, перехватив его хмурый взгляд, нахмурилась, как и он.
– Честно говоря, с точки зрения твоего реноме, ты правильно поступил. – Она кивнула на карикатуру.
Честно говоря, плевать ему было на это самое реноме, но сказать так – значило бы щегольнуть пустопорожней фразой, и он промолчал. Они пошли через сквер по направлению к цеху. Она еще спросила его: «Ты в цех?» – «В цех, – ответил он. – Куда же!» Уже, видно, зачастили ночные заморозки, трава была обесцвечена, склеена, и опавшая листва тоже поблекла – сплошь в клею, и тропинки зализаны клеем. «Реноме, – сказал он, – плохое слово». – «Да, – согласилась она, – словечко с привкусом». Они шли через сквер, и сухие тополевые листья дружными стайками обгоняли их.
– Ты, говорят, крупно выдал кое-кому в дирекции по поводу крепежа, – то ли похвалила она его, то ли осудила. – Безобразие! Требуем соблюдения технологии, а не обеспечиваем самым необходимым. – Нет, не осуждала – Но не надо было акцентировать на экспорте. – Все-таки осудила. – Это, знаешь, какая аудитория попадется: дуб и воспримет дубово.
Он не об экспорте говорил, а о том, что нельзя дискриминировать серийную машину. Которая, кстати, аттестуется по высшей категории. Будет аттестоваться.
– Все равно, – сказала она. – Ты не рядовой работник, у тебя свой статус. Когда поднимаются по лестнице, лучше держаться за перила.
Она уже не впервые проявляла такого рода заботу о нем. Он напомнил ей, что у него должность выборная, а он не из тех, которые слепо держатся за выборную должность.
– Все это так, – сказала она. – Но ты уже набрал высоту. На тебя уж привыкли смотреть, задрав головы кверху. И любое твое, даже запланированное приземление будет воспринято как вынужденная посадка. А на вынужденную посадку идут не от хорошей жизни.
Он действительно не держался за должность, но и не мыслил себя теперь без нее. Было бы несправедливо лишать его работы, которой он увлекся и в которой только пробовал свои силы, копил их, разворачивался и далеко еще не развернулся. Светка ни черта в этом не смыслила. Светка предостерегала его от каких-то мифических катастроф.
– Пойми, Витя, если ты спустя какое-то время вернешься туда, откуда пошел на повышение, тебе будет кисло. Тебе нельзя возвращаться. Ты должен обеспечить себе перспективу.
Гарью запахло, горьковатым дымком, окалиной, – они шли мимо термического цеха, и еще не близко было до сборочного: сборочный замыкал растянувшуюся заводскую аллею.
– Да не пугай ты! – рассердился он, прибавил шагу: надоело выслушивать всякую дребедень. – Что на тебя нашло?
Ничуть не винясь перед ним в своей назойливости, она взяла его с таинственным видом под руку и как бы принудила приноровиться к прежнему, не слишком резвому шагу.
– Ты слушай меня, – сказала она доверительно. – Никого не слушай. Я знаю, что говорю. Слежу за этим… барометром. Стрелка, Витя, опять качнулась в твою сторону. До некоторых товарищей наконец-то дошло: подножку ставить, фу! И кому? Маслыгину! Это же свинство высшей марки! – Она говорила о свинстве, а лучше бы сказать о несправедливости. – Не стану скромничать: меня заело; давай, думаю, капну им на мозги. Ну, в общем, провела работу. Среди актива. В кулуарах. И, кажется, дело на мази.
– Какое дело? – спросил он грозно, и потому грозно, что сразу понял, о чем речь.
Она, как видно, в этом не сомневалась, заговорила жалобно:
– Сейчас начнешь ругаться… Предашь меня анафеме. И скажешь, что дело закрыто, и с этим покончено, и ты меня не уполномочивал, а если нет единогласия, то и не надо. Сейчас будешь отгораживаться от меня своей гордостью.
Это не гордость, сказал он, это здравый смысл. Но сказано было бессмысленно или, во всяком случае, неубедительно, – он и себя не смог убедить в том, что должен разругаться со Светкой, отчитать ее как следует. Ему противны были кулуарные интрижки, но, черт их бери, может, это вовсе и не было интрижками.
– Вот, вот! – подхватила она. – Здравый смысл! Ты слушай меня. Я знаю, что говорю.
– А что ты говоришь? – спросил он грозно, хотя ничего грозного в себе не ощущал.
– Я говорю: не вольничай! – сказала она с таинственным видом. – Сиди себе тихо. Недельку – можешь?
Черт-те что она говорила, склоняла его к какому-то мелкому сговору, толкала на какой-то жалкий путь, а он не дал ей отпора, превратил это в шутку: подумаешь, неделя! стоит ли говорить! Но он ведь не собирался ни шуметь, ни вольничать, – с чего она взяла? Он собирался на семинар и к Нине и вдруг подумал: это доброе предзнаменование, что семинар отложен. Опять блеснула надежда: порадовать Нину.
Но он сейчас же отмахнулся от этой мелочной надежды и от всего, что наболтала ему Светка, отгородился от нее не гордостью, так здравым смыслом, и тон переменил:
– А может, все-таки закончим? Закроем дело? И больше возвращаться к этому не будем, как договорились?
Они, положим, буквально и не договаривались, но Светка не пустилась в буквоедство, возражать ему не стала, и так, отгороженные друг от друга, они дошли до цеха, и там, прежде чем подняться на свой этаж, она сказала ему возле лестницы, что подготовлен упрощенный техпроцесс для КЭО, пора бы вводить в действие, это даст большую производственную выгоду, однако тормозят перестраховщики, а он, Маслыгин, не перестраховщик, и было бы желательно, чтоб ознакомился и подтолкнул.
– Поможем, подтолкнем! – пообещал он с неожиданной для самого себя готовностью, с внезапной живостью, хотя заглазно обещать, пожалуй, и не следовало бы.
Не всякий день, разумеется, заводская «Колючка» уделяла внимание сборочному цеху, и утро началось не так уж весело, но вслед за тем над этой хмуростью возобладала живость.
Он потому и заглянул к Должикову.
Сидели друг против друга Должиков и Подлепич, однако – не по рангу, как бы поменявшись местами: Подлепич – в кресле за столом, по-хозяйски, а Должиков – сбоку, гостем.
– И класть в основу надо, Илья, комплексную систему контроля качества, – говорил Подлепич, а Должиков слушал.
Эта картина в конторке КЭО, не совсем обычная, и живость, с какой говорил Подлепич, а Должиков слушал, показались Маслыгину знаменательными, да к тому же вполне соответствовали его собственной живости, возобладавшей над хмуростью. Не присаживаясь, расхаживая по конторке, он сказал, что утро было плохое, промозглое, но вот, кажется, распогодилось, – и подошел к окну: да, ясный будет день. А мы опять того… прогремели, заметил Должиков, на весь завод, – но в голосе слышались не уныние, не растерянность, а те же ясность, живость. Распогодится, сказал Маслыгин, нам не привыкать. И тут же он подумал, что становится зависим от настроения: на прошлой неделе был крут с Подлепичем, хоть и отверг потом свой утилитаризм, но положение-то в смене у Подлепича не изменилось! Подлепич изменился – так, что ли? А может, это лишь казалось? Что им, троим, не привыкать – говорено было не раз: самоуспокоение в некотором роде. Он перестал расхаживать, присел, но не к столу, а поодаль, в сторонке, как бы показывая этим, что вмешиваться больше ни во что не будет.
Должиков, кстати, так и понял: не к нему обратился, а к Подлепичу:
– Пиши, наверно, рапорт, Юра. И перебросим твоего Булгака на низкооплачиваемую работу.
Подлепич покачал головой.
– Нет? – придвинулся к столу Должиков, как бы заглядывая Подлепичу в глаза. – Ей-богу, Юра, сделали бы дело. Пускай месяцок посливает масло. – Не требовал, а уговаривал. – Или повывозит брак.
– Я против, чтобы ставить в угол, – опять качнул головой Подлепич. – Вообще я против, Илья, чтобы наказание унижало.
Должиков был в это утро терпелив, покладист: согласился.
– Вообще-то да. Но тут, понимаешь, такое: теория нас учит, а практика переучивает. Карикатуру вывесили… Это что, не унижение?
– Карикатура – это артогонь, – щелкнул Подлепич пальцами, нажал воображаемую гашетку. – Война. Но только тут не обойтись без артразведки. А то, неровен час, и по своим пульнешь.
– Эх! – вздохнул Должиков. – Нашлась бы добрая душа и убедила бы меня, что гарантировано: свой!
Подлепич – за столом начальническим – пожал плечами.
– А то чей же? Фамилия такая – Булгак. Вот и булгачит.
– Ты это Виктору втолкуй. Что всякие скандалы и переполохи – это от фамилии. На той неделе – партбюро. Чтоб зря меня за них не пропесочили.
Был брошен вопросительный взгляд на Маслыгина, и Маслыгин подтвердил это – насчет бюро, но больше ничего не сказал.
Потом, когда вышли с Подлепичем из конторки, он как бы возвратился к их недавнему разговору:
– А вот сегодня почему-то, Юрка, ты мне нравишься.
– Сегодня я и сам себе почему-то нравлюсь, – усмехнулся Подлепич. – Бывает. Но редко.
Пошло, видать, что-то на лад у него с Булгаком, стронулось, а он, Маслыгин, на себе испытал, как это существенно, и даже не в том существо, что стронулось что-то с Булгаком или с кем-то еще, или явилась счастливая мысль, возникли притягательные планы, а в том, что наконец-то произошел какой-то сдвиг, и раз уж стронулось – теперь покатится. Однако настораживала ирония Подлепича, его слова, произнесенные с усмешкой. И он, Маслыгин, видно, нравился себе сейчас, что тоже с ним бывало редко, и оттого-то все вокруг видел в розовом свете. Быть может, ничего существенного с Подлепичем и не произошло, а с ним, с Маслыгиным, и подавно. Карикатура в «Колючке», опять прогремели на весь завод, – этим, что ли, тешиться? Был чересчур снисходителен со Светкой. Этим?
– Мы миротворцы, – сказал он, осуждая то ли себя, то ли Подлепича. – Ты не находишь?
– Парень вступился за женщину, – насупился Подлепич. – Романтика замешана.
Как видно, этим-то пытался прошибить Должикова, да так и не прошиб по-настоящему. Как видно, этим Должикова-то и не прошибешь.
– Да нет, и не пытался, – ответил Подлепич не сразу и словно бы стесненно. – Лишнее. Кого-кого, а Илью этим прошибать совсем не след. Потянутся подробности – вытянется сплетня. Я, знаешь, не сплетник.
Похоже было, что не романтика тут замешана, а Светка. Романтика и Светка! Теперь уж это было как-то несовместимо.
– Булгак темнит, и ты за ним?
– Мои, Витя, версии, – стесненно сказал Подлепич. – А я не провидец. Могу и ошибиться. Ты не выпытывай: не я темню. А кто темнит, у того на это права. Душа – не форточка, свое – не наше. Я эти права уважаю! – с чувством произнес Подлепич. – Сдружиться – значит уважать. Булгака критиканам не отдам.
Ну, раз уж стронулось – теперь покатится. Подлепич был бодр, и он, Маслыгин, под стать Подлепичу – в приподнятом настроении, но у него, пожалуй, это началось с иллюзий, которыми нашпиговала его, по доброте своей, неугомонная Светка.