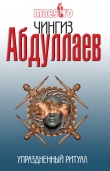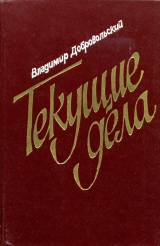
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
20
Спорить с Маслыгиным не было расчета: спор-то впустую. Ну хорошо: Подлепич заработал премию не нынче, но выдвигают ведь сегодня? Какой же это вчерашний день? И где это авторитетно сказано, что вчерашним днем не подопрешь сегодняшнего? Лишь бы выдвинули! – само уж как-нибудь подопрется.
Должиков мог проверить, точны ли маслыгинские сведения, но не хотелось: Лана не любила, когда допытываются у нее, что да как в той кухне, куда была вхожа. Мужу-то можно? Нельзя. Он сам, без всякого влияния с ее стороны, придерживался такого мнения. Раз уж нельзя, то и мужу – нельзя, и не нужно.
После женитьбы он задумал сделать ей подарок. Свадебный? В этих ритуалах он был несведущ; когда и как, до свадьбы или после свадьбы. Деньги были, и были в продаже немецкие пианино – куда только ставить? Она сказала, что ставить некуда и времени на музыку нет, а если бы попалась импортная машинка, пишущая, был бы подарок – лучше не надо: и подешевле, и понужнее.
Рыскать по городу, лебезить перед продавцами, потакать спекулянтам – кошмар! Но цель оправдывала средства. Впервые в жизни морально приспособился он к этому порочному девизу. Жаль было только, что Лана так нетребовательна: так мало нужно, чтобы угодить ей. Машинку он достал, импортную, тоже немецкую. Что еще? Одевалась она скромно, к обновкам была равнодушна. Художественный шедевр в грубую раму не вставишь: по брильянту и оправа. У нее был свой вкус, изысканный, и обычными женскими оправами она пренебрегала. Кому он сделал подарок – ей или заводской общественности? По вечерам она усердно выстукивала на новенькой машинке какие-то резолюции, отчеты, сводки. «Человек рожден для дела, – говорила она, – ты сам такой, Люшенька». Такой, да не такой. Тревожные ночи? Бессонные? Вечные заботы? Комиссия на участке? Это правда: спал он плохо, просыпался, тревоги мешали уснуть. Человек рожден для дела. Это правда.
Не упомяни она комиссию, он так и не опросил бы у нее, верны ли маслыгинские сведения, а это упоминание как бы заново растревожило его. Если бы не комиссия, все было бы значительно проще.
«Я, Люшенька, абсолютно не в курсе», – ответила она ему, выстукивая свое. Он докучать ей не стал: в курсе! И в курсе, что Подлепич выдвинут: тоном лукавой обманщицы подтвердила. Будь это бредни, не тот был бы тон.
Наутро, по дороге на завод, он обдумывал, как преподнести это Подлепичу – с помпой или с юморком, а преподнес и без того, и без другого: обниматься не полез, но и магарыча не потребовал. Есть, сказал, такое решение, предварительное, принимай, дескать, к сведению.
Подлепич принял к сведению, в лице не изменившись, и только брови поднял, произнес, будто досадуя:
– Вспомнили!
Будто сошло ему что-то с рук, забыто уже было, и вот – нате вам! Ну конечно, вспомнили, ничего удивительного; самое время вспомнить, раз уж показал себя стенд в работе; радоваться надо, а не ворчать.
– Радуюсь, – сказал Подлепич, но не видно было, чтобы радовался. – Крепежа подкинь, Илья. Уже и черный на исходе.
– А пускай слесаря не разбрасываются. Идешь – спотыкаешься: то болт под ногами, то гайка. И никто не нагнется, не подымет.
– В моей смене?
– Да и в твоей.
Какая уж помпа! Расстелить бы парадную дорожку, ковровую, по которой герои дня ступают, а они с Подлепичем свернули на свою родимую рифленку, цеховую.
Впрочем, уже назавтра подметил он в Подлепиче кое-что новое. Будто впрямь расстелена была перед Подлепичем ковровая дорожка. Но вернее было бы сказать, что не новое в нем появилось, а возродилось прежнее: помолодел. В молодости был шутником, весельчаком, и не на лицо, конечно, помолодел, а ожил как-то. Ничего удивительного. Эта штука живит людей.
В этой штуке, кроме того, содержится известный процент цементирующего вещества: пусто́ты заполняются, неровности сглаживаются.
Когда-то был монолит: Должиков и Подлепич. Кто к кому прикипел? Если по совести, то не Подлепич к нему, а он к Подлепичу. Ничего удивительного. Подлепич был тогда в зените – все к нему тянулись. Эта штука, черт ее бери, – как магнит.
Потом стало сужаться магнитное поле – поугас Подлепич, а эту штуку надо держать на огне. Чуть поостынет – уже не то. И отношения с Подлепичем подпортились, появились пустоты, неровности, трещинки.
Теперь, правда, это выглядело иначе. Подлепич не пожелал церемониться с той бухгалтершей, въедливой, – и правильно. По какому такому уставу обязан был церемониться? На то есть начальник участка. И с Близнюковой не пожелал вести дипломатические переговоры. Тоже правильно. Не дипломат? Не дипломат.
Обедали в цеховой столовой, Подлепич рассказывал:
– Просится чудак на рыбалку, а блесну от мормышки не отличит. Привада должна быть свеженькой: наварили пшенной каши, понабирали дождевых червей, изрубили меленько, и – туда, в кашу; все равно в воду бросать. Приходим: темнота, шалаш пуст, и привады нет. Где привада? Наш чудак поужинал.
– Дай хоть дожевать! – поперхнулся Должиков. – Приятного аппетита! Эх, – вздохнул он, – я ведь тоже в рыболовстве темный. Упущена такая благодать, а теперь уж поздно. Слушай, Юра, – призадумался он, – что будем с Чепелем делать?
– Что прикажешь, то и будем, – легко, без всякой каверзы ответил Подлепич. И добавил так же: – Мы люди маленькие.
– Ну, вот что, маленький человек. Ты не таких, как Чепель, обламывал. Уважь просьбу: попробуй, займись. Вплотную.
Подлепич накренил тарелку, зачерпнул то, что осталось ложкой, – едок был исправный.
– В роли бульдозера, значит, – сказал он посмеиваясь. – Или бульдозериста. Ну, давай попробую. Освою новую профессию.
– Нарываешься на комплименты? Получай. В тебе ж педагог пропадает! Чистый, без наших итээровских присадок, без этой нервотрепки, в которой все-таки производство стоит во главе угла, не педагогика. Я б за Чепеля не спросил, если бы такая пара рабочих рук валялась на улице. Не обломаем его – потеряем. А терять нельзя. Я тебе больше скажу: имеется в твоем распоряжении бульдозер, давай – бульдозером! Я недавно к такой мысли пришел: коль уж цель поставлена, все способы хороши.
– Ну и мысль! – вылавливал что-то Подлепич ложкой из пустой тарелки. – В панике, Илья, за старье хватаешься. Забракованное.
– Известно, Юра! Все известно! В панике, да! Слесарей-то некомплект? Скажу тебе больше: не Чепель меня волнует, а некомплект. Каждая пара рук на учете, а у самих у нас руки связаны: не размахнешься, не дашь по мозгам, как положено, и на дверь не покажешь. А пойдут бюллетенить, что тогда запоем? Зашьемся!
– Зашьемся, – подтвердил Подлепич и отставил пустую тарелку, взял с подноса биточки.
Тот же был, что и вчера, позавчера, и те же – голос, выражение лица, и все-таки, если присмотреться, не то уже было в лице, в голосе, будто сдвинули Подлепича с прежней точки на какой-нибудь сантиметр: и голос иначе звучал, и свет падал под иным углом, и эта штука поблескивала в глазах.
– И главное, ничего не примыслишь, – пожаловался Должиков. – Даем слесарям заработать, до трехсот вытягивают в удачные месяцы, ты столько не имеешь, я столько не имею, а калачом не заманишь! Какой еще нужен калач?
– А тот самый! – взял Подлепич ломтик хлеба, откусил. – Который печь надо, а пекарня наша, говорят, не приспособлена. Я тебе, Илья, так скажу, – отложил он ломтик надкушенный и вилку отложил, будто мешала ему, а речь назревала долгая. – Пока будем в ночную гонять слесарей, не жди ни качества высокого, ни охотников до наших калачей.
Он, умник, еще сказал бы, куда Волга впадает, – для полной ясности. В Каспийское, небось? Толковали уж о двухсменке не один год. А воз и ныне там. Потому что сдвинуть его невозможно. Условия цеховые не позволяют.
– Не в наших силах, Юра. И ты это прекрасно знаешь.
Знать-то знал, не мог не знать, но, видно, штука эта настроила его по-боевому, – повел, в знак сомнения, бровью.
– Я знаю другое. Припечет – силы найдутся. Тебе, Илья, еще не припекло.
Не припекло? Камнем преткновения была испытательная станция: она в две смены никак не справилась бы с потоком, которым питал ее сборочный конвейер.
– Во что упирается, Юра, ты тоже знаешь. Двухсменка припечет мотористов еще не так! Завод зашьется, не то что мы.
– Мотористы, конечно, не вытянут, – согласился Подлепич. – А мы вытянем! – И вилку поднял, как жезл. – Ругаться надо, Илья. Вот так! – постучал он кулаком по столу. – Но ты-то этого не любишь.
– Не умею, – поправил его Должиков, – Разница! И ты не умеешь. Ты только тут герой. Так тут и я могу, – тоже постучал, и тоже кулаком; звякнула посуда. – Внушительно? Так это тут внушительно, на репетиции, а выйдешь на публику – затюкают, пошлют, знаешь ли, подальше.
Подлепич вроде бы и не слушал, что говорится, повторил:
– Ты этого не любишь.
– Ну хорошо, не люблю. Ругаться, драться – надо что-то иметь на руках. Оружие какое-то. А безоружным лезть на рожон – глупость.
Подлепич сцепил пальцы, ладонь прижимая к ладони, но щелочка была, и заглянул в щелочку: пусто там или что-то есть? Ничего там не было.
– Берусь организовать, – сказал он тем не менее. – Моторы с испытаний, с третьей смены, мы утречком часа за три пропустим и до обеда сделаем дневные. Запросто.
– Запросто, говоришь? Так они же, ночные, будут на ленте подвесной крутиться. Куда же ты дневные денешь?
И нечего мудрствовать: мотор, не снятый с ленты на участке, возвратится туда же, к мотористам, и к черту нарушится нормальная циркуляция.
– Снимать надо и складировать, – огородил Подлепич место на столе – ребром ладони меж тарелок.
– Куда складировать? Себе на голову?
– Нет, голова предназначена для другого, – заупрямился Подлепич. – Головой нужно думать.
– Вот и подумай, прежде чем стучать кулаком.
– Вот и подумаю! – погрозился кому-то Подлепич, словно бы все зависело от него: соблаговолит ли подумать.
Как будто он не думал, Должиков! Думал. Проектировщики напортачили: площадок для складирования в проект не заложили. Он видел этот промах с самого начала, еще принимая участок. И можно было дело поправить, переместить кольцевой транспортер. Но кто был тогда Должиков? Пешка. Пока что ни копейки прибыли участку не принес, а руку в заводскую кассу запускает! Потому что всякая перестройка – это расходы. Это ОКС надо подключать. Это надо ломать проект. Докучать начальству. Лезть, словом, на рожон. А он не мог. Он тогда так рассуждал: покуда вес не набран, в борцы не суйся. Голос не прорезался – молчи. Жди, когда в тело войдешь и голос прорежется.
Это была его ошибка. И в тело вошел, и голос прорезался, но было уже поздно: кольцевой транспортер, установленный, отлаженный, запущенный, прирос к участку, как прирастает кожа после пересадки. Это была ошибка.
Вечером, дома, он признался Лане:
– Нет хуже, когда человек смолоду мнит себя стратегом.
Включен был телевизор, но она не смотрела, у нее была вечерняя работа – какие-то расчеты по техбюро. Она вообще смотрела телевизор в месяц раз. «Машинка есть, – сказал он, – подарю еще машину – ЭВМ». – «Было бы недурственно, – сказала она, – мировой стратегический ход: всех, Люшенька, с тобой переплюнули бы».
– Стратегия! – подняла она голову. – Это ты к чему? Страничка из биографии?
Он сказал, что да – вроде бы; запоздалая самокритика – в назидание потомкам: не сутультесь смолоду, привыкнете, а это привычка на всю, можно сказать, жизнь.
– Наговор, Люшенька! – повернула она настольную лампу, осветила его. – У тебя отличная осанка.
– Подлепич этого не находит.
И рассказал.
Она взяла сигарету из пачки, он – тоже, они закурили; она курила по-своему, словно бы скалясь, но на этот раз ему показалось, что она смеется над ним.
– Я не смеюсь, – помахала она рукой, отгоняя табачный дым. – Ерунда! Подлепич! Еще кто-то! Ты никого не слушай. Слушай меня. – Лана курила и скалилась. – При теперешнем потоке информации нужно отсекать ту, которая бесполезна. И не только информацию. Вообще, Люшенька, нужно многое отсекать, чтобы жизнь удалась. Иначе… Складирование – это вещь, – щелкнула она пальцем по сигарете, сбросила пепел. – Но это нереально. У меня есть реальное предложение, которое льет воду на ту же мельницу.
По совести, он не очень-то верил в ее инженерство. Объяви сию минуту диктор по телевизору, что выступает лауреат музыкального конкурса Светлана Табарчук, поверил бы. Или намекни ему кто-нибудь, будто ждет ее ответственная должность где-нибудь в облпрофсовете, поверил бы тоже. Кстати, если уж подходить к отбору жизненных устремлений так строго, как она сама об этом говорила, то почему бы не отсечь кое-что из того, чем увлекалась, пожалуй, чрезмерно? Ту же завкомовскую писанину. Те же общественные полномочия, добровольно взваленные на себя. Ну? Почему б не отсечь.
Сигарета дымилась, и ею, дымящейся, провела она резкую дымящуюся черту.
– Нельзя, Люшенька! Это жизнь.
Он подсел к ней, обнял ее, но слишком уж по-мужски, как после долгой разлуки.
– Ты не намерен выслушать меня? – слегка отстранилась она от него.
Смешно сказать: он, похоже, ревновал ее к инженерству. Ни к кому и ни к чему другому не ревновал: ни к Маслыгину, ни к маслыгинской компании, ни к технологам из техбюро, ни к завкомовской суетне, – а к инженерству ревновал. Тут у него были свои мерки, высокие. Он доверял практикам: ты сперва поварись в рабочем котле, а тогда уж иди командовать. Диплом – что? Бумажка. Кто этого не знает! Он сам был – со средним техническим, но таких инженеров, как Ланочка, заткнул бы за пояс.
– Вы жмете на производительность, а у нас на девяносто процентов ручной труд, – сказал он, тоже отстраняясь от нее. – Лет через пять понаставят на сборке роботов, а нам они ни к чему, автоматика у нас не проходит.
– Лет через пять от твоего участка останутся одни воспоминания, – смахнула она пепел со стола. – КЭО – это атавизм, Люшенька. Это хвостовидный придаток.
Смешно сказать: обиделся, – а она ведь правду говорила, общеизвестную к тому же: отомрут дефекты при сборке – отомрет и КЭО. Завтра пойдут с конвейера бездефектные моторы – завтра и отомрет.
– Ну, ничего, – сказал он, – до пенсии хвостом еще помашу.
И вот что она предлагала: ввести упрощенные технологические регламенты контрольного осмотра, нажать на техотдел, доказать, что условия для такого перехода уже созрели. Это была плановая работа цехового техбюро – заготовка впрок: число контрольных операций сокращалось вдвое, втрое, и, стало быть, вдвое, втрое меньше времени потребовалось бы слесарям на осмотр. Он знал, что она занимается этим, но не придавал этому значения: у них, производственников, не спрашивали, желательны ли им упрощения в технологии. Им это всегда было желательно. Потому-то у них и не спрашивали. Минус столько-то операций на осмотре – плюс столько-то человеко-часов к некомплекту слесарей. И трудности, о которых говорилось с Подлепичем, сами собой отпадали. Он знал, что технология со временем изменится, упростится, и готовился к этому, вел строгий помесячный учет дефектности двигателей, поступающих на участок. Из месяца в месяц дефектность снижалась, а это значило, что близится время технологических упрощений. Близится или настает? Или уже настало? Он как-то не думал об этом – привык, видно, мыслить рутинно, сутулился.
Телевизор был включен, он подошел, прикрутил звук, чтобы не мешало Ланочке, и, молодецки расправив плечи, прошелся по комнате.
– Как ты говоришь? – спросил он усмехнувшись. – Осанка?
Она склонила голову набок, прищурилась.
– Тебе не подходит мое предложение? Возражаешь?
– Наоборот, – ответил он прохаживаясь. – Раскидываю мозгами. Как бы это сформулировать… чтобы не сочли, понимаешь ли, будто начальник участка ищет легкой жизни.
Окурок дымился в пепельнице, она придавила его пальцем, обожглась, отдернула руку, погримасничала.
– Нет, нет! Ничего не нужно формулировать! Тебе – не нужно. С этим копаюсь я, а ты – мой муж… Если понадобится поддержка, я обращусь к работягам. Работяги поддержат.
– Еще бы! – сказал он. – Да только это голосованием не решается.
– Ну, разумеется, – сказала она. – Но все-таки…
Но все-таки он сходил к начальнику техбюро, прощупал, как говорится, почву.
Чернозем? Глина? Песок? Ни песок, ни глина, что-то неопределенное, сеять можно, но – по погоде. Начальник техбюро был осмотрителен: семь раз отмерит, один раз отрежет. В этом они сходились.
Он, Должиков, привык так: если уж сеять, то чтобы пахота – по всем правилам, и зерно довести до кондиции. Полдня сидел он в конторке, делал выписки из своей учетной книжки, которая всегда была при нем, но никому ее не показывал. Там было все, чем жил участок: и добрые дела, и грехи. Дефектность шла на убыль, да, – он пересчитал это в процентах, изобразил в виде диаграммы. Ни пахота не затрудняла его, ни посевные кондиции не смущали, – с этим он справился бы. Это бы подготовил.
Его беспокоила погода.
На том собрании крыл Булгак ловкачей, которые обходят техпроцесс и пропускают операции, узаконенные регламентом. Комиссия, понятно, взяла это на заметку. Всякий день втолковывалось слесарям, что техпроцесс введен не для проформы и соблюдать регламент – значит бороться за качество. И кто это втолковывал громче всех? Начальник участка. И что доложит комиссия парткому, когда придется докладывать? То самое и доложит, если еще не доложила. И после всего начальник участка, словно бы потакая ловкачам или оправдывая их задним числом, доказывает, что действующая технология устарела! Как это будет выглядеть?
Погоду делала комиссия, и при такой погоде соваться куда бы то ни было с конструктивными предложениями – лить воду в бездонную бочку. Подливать масла в огонь. Двухсменка? Складирование? Техпроцесс? Он предвидел, что ему ответят, какую найдут отговорку. И долго искать не будут. Воспитательная работа на участке захирела: прогулы, склоки, пьянство, – а ты, Должиков, скажут, пускаешь пыль в глаза; твои предложения – громоотвод!
И правильно скажут. Потребуют, чтобы сперва навел порядок на участке. И правильно потребуют.
Сидеть и ждать у моря погоды – на это он был не способен. Конечно же, руки уже чесались, – да не подраться, нет, а поработать: лектора бы на участок – хоть в месяц раз; политинформации – попредметней бы; беседы – позажигательней; и никаких громоотводов! Погода была нелетная, а по такой погоде особенно ценима твердость почвы под ногами.
21
Год назад Лешка приезжал на побывку – отличник боевой и политической подготовки, дали отпуск. У него тут, оказывается, была девушка; отцу про это ни гу-гу, а мать, наверно, знала, и когда отец встречал сына, тогда и узнал – на вокзале. Девушка как девушка, скромно стояла в сторонке и, пока не обнялись отец с сыном, не подходила.
Лешка спросил, как мать, об отце чего же спрашивать, коль тут он, перед глазами, в полном здравии, да и не до расспросов стало, поскольку вступило в права третье действующее лицо. Втроем пошли к вокзальному тоннелю, но шаг у молодежи ходкий, и он, Подлепич, остался позади, не поспевая за ними в людской толчее. Они так занялись друг другом, что, видно, позабыли про него, а он их понимал: все в жизни повторяется, сам был таким. Однако просочилось что-то горьковатое, хотя и не о сыне он подумал, а о дочери: отрезанный ломоть. Дусины сестры были сердечные, но недалекие: не уставали похваляться в письмах, как Оленька привязалась к ним и как ей ладно у них, а вспоминает ли папку – ни слова, будто это большое достижение для нее, что не вспоминает, и заодно достижение для опекунов, что не тоскует по родителям. Там, на Кубани, главными были тетки; тут, на вокзале, – эта девушка; он – второстепенный. Что ж, есть закон: крупно пишутся главные действующие лица, и он когда-то так писался, но его время прошло, и ныне пишется он мелким шрифтом. Несправедливо? Да сам же считал это нормой, естественным движением жизни.
Потом, через день, через два, вокзальная встреча стала осмысляться по-новому, с каким-то злым торжеством: вот, мол, и славно, что просочилось горьковатое, и что была девчушка, и что пошли вперед, а он не поспевал за ними. Вот, мол, и славно: дочь – отрезанный ломоть, и тетки ею не нахвалятся, и папка писан мелким шрифтом. Еще один рубеж позади, – что требуется? Подровнять листочки, пронумеровать и сдать в архив. Так он сказал себе. И словно, что торжество было злое: в архив, в архив, хорошенького понемножку, пускай теперь они, главные, писанные крупным шрифтом, живут, как хотят, – чем туже будет им, тем скорее станут на ноги, рано или поздно это им суждено. А он оторвется от них – хорошенького понемножку. Наверно, правы те, которые требуют от жизни последних благ – для себя; которые требуют последнего блага – душевного спокойствия, а ради этого, подумал он, необходимо оторваться. Смирись, что ты один, сказал он себе, живи тем, что внутри, а не снаружи, все зачеркни, что причиняло тревогу за них, писанных крупным шрифтом. Перечеркни, говорил он себе, скомкай, сожги, забудь – это на благо: ты тоже не таким уж мелким шрифтом писан, давай-ка живи для себя.
Он путь себе указал, а объяснить не объяснил: как это – для себя? Есть фразы, которые читаешь глазами, произносишь голосом, но дальше, глубже они не проникают. Как это – для себя? Возможно, так он никогда и не жил, и потому пустой была для него эта фраза. А может, напротив, жил только так, но без указок, без фраз, – жил, как живется, и в том не отдавал себе отчета.
Текло времечко.
Когда сказал ему Должиков о премии, отозвалось это чудно́: он сразу вспомнил ту вокзальную встречу с Лешкой, и ту девчушку, о которой с тех пор не было ни слуху ни духу, и то напутствие, с которым обращался к самому себе. Не мелким шрифтом писан? Ну, это еще будет видно. Не говоря уже о том, что мало было веры в премию – и в то, что выдвинут, и в то, что присудят, он сделался теперь толстокож: ни горестью не ранишь, ни радостью не прошибешь. Но все-таки всколыхнуло это известие, словно бы прямая связь была между премией и своим же наказом. Словно бы премия эта могла объяснить ему, что значит жить для себя.
Он вдумываться не стал: чудна́я связь, туманная; быть может, тут замешано было чувство собственного достоинства: с тем чувством и надо, мол, жить, оно-то и спасет от житейских невзгод.
Конечно же, он никому ничего не говорил – ни Дусе, ни Зине, и Должикова собирался попросить о том же: не распространяться, – но почему-то неловко было просить об этом. И к Маслыгину было неловко идти – Маслыгин-то пока помалкивал и, значит, дожидался, когда прояснится у обоих; работали наравне – поровну это и делить.
А с Зиной после того воскресенья, отмеченного душевной неразберихой, и вовсе не говорили – ни об ее отъезде, ни о чем. Она свое делала на участке, он – свое. Кивали друг другу, но будто бы – в ссоре. Никакой ссоры у них не было, а был безмолвный уговор, – так можно бы сказать. Уговор состоял в том, чтобы привычное мало-помалу распалось и утвердился новый порядок: она – сама по себе, он – сам по себе. На каждую привычку, говорят, всегда есть отвычка. Уговор состоял в том, чтобы отвыкать. Дней прошло – всего ничего, но отвыкали.
Он то смирялся с этим, то бунтовал, – неслышный был бунт и невидный. Ни прибирать, ни стряпать она к нему не приходила, побелку-покраску он забросил, а передачи в больницу носили порознь: он – под вечер, она – с утра.
Вдруг Лешка позвонил по междугородному – оттуда, из дальних краев.
Слышно было неважно – прерывалось; про мать Лешка не спрашивал, а начал с другого конца, что было на него не похоже. «Да я – ничего, помаленьку, – отвечал Подлепич. – Грыжа? Не беспокоит. Что у тебя?» Обдало теплотой: Лешкин голос, Лешкина забота; но и кольнуло: про мать не спрашивает, будто с отцом об этом – лишнее, не это у отца на уме.
Неслышный был бунт и невидный, а мнилось, что слышат и видят – даже на расстоянии. Даже туда доносится – в дальние края.
«У меня, – сказал Лешка, – тоже помаленьку. Но есть к тебе одно поручение. Ты как? Сможешь?» Это касалось той самой девчушки, которая встречала его тогда на вокзале и с которой была у него переписка.
Сперва кольнуло, а тут уж покоробило: неужто не нашлось кого помоложе для таких поручений? Дружки-то есть, однокашники, – куда бы им подеваться? «Погоди, – сказал Подлепич. – Ручку возьму. И бумажку». Переписывались, значит, и внезапно оборвалась переписка. «Давай. Корпус три. Квартира?» – «Сделаешь, папа?» – «Сделаю». Очень уж не по душе было ему это поручение. Может, потому, что сперва кольнуло-таки, и укол продолжал действовать. «Про мать не спрашиваешь?» – «А я звонил, – сказал Лешка. – Вчера. С врачом разговаривал». – «Ну и что?» Он, Подлепич, с врачом не разговаривал, под вечер врача уже не было, и в палаты не пускали. «Да что… Плохо». Принцессу свою вперед поставил, а про мать – напоследок.
Когда закончили, попрощались, совестно стало: «Да что я в самом деле… Сердце на сыне срывать!»
Он оделся и поехал в больницу.
Ничего у него на душе не было, а только тревога, чистейшая, ни на чем, кроме Дусиной болезни, не замешанная. Он заметил, что, думая о Дусе, лишь о ней и ни о ком другом, как бы очищается от всего смутного и тревога за нее, острая, пронзительная, выпрямляет его, не дает распускаться.
Стало быть, он преодолел себя, а было ведь не так. Был период – смутный, домашний, в перерыве между двумя больницами: что-то скверное накапливалось, груб стал с Дусей, чем-то она раздражала его, и началось это не тогда, в тот период, а значительно раньше. Началось – не замечал, а потом, в тот период, заметил и наказал себе сдерживаться, следить за собой. Было это трудно, очень, как будто его, необученного, неумелого, вытолкнули на сцену и заставили бесконечно играть чужую роль, и вся-то жизнь для него на этой сцене заключалась тогда в старании не сбиться, не испортить роли.
Стало быть, преодолел себя, смутное осталось позади, теперь была чистейшая тревога.
Он теперь шел в эту больницу, как к себе домой, и все знали его там, со всеми он раскланивался и всех знал: кто какой. Тот прячет за улыбочкой равнодушие, этот неулыбчив, но душевен; придирчивые, мягкие, словоохотливые, замкнутые, – все они были для него соседи по квартире.
Находился сюда, – завяжите глаза, и с повязкой этой отыскал бы дорогу. На вешалке халат ему выдавали по росту – придерживали для него: «Ваш халатик!» Считалось, что в больнице подслащивать надо свой приход, рубли раздавать направо и налево, а он этого не умел, стеснялся, это Зина умела. Рублей он не раздавал, но бывало, что Зину внутрь не впускали, с ее рублями, а для него и без рублей делалось исключение. Одна, на вешалке, сказала ему: «Вы такой интеллигентный, просто приятно обслуживать». Его принимали то за врача, то за инженера, то за профессора. Зину никто интеллигентной не называл, она ругалась со всеми, требовала чего-то невозможного, и в конце концов невозможное становилось возможным, но ее в больнице не жаловали. Каково-то будет Дусе, когда Зина уедет и останется Дуся на попечении всеми почитаемой интеллигентности.
Он подумал о Зине, и чистейшая тревога стала мутнеть. К той тревоге, чистейшей, примешалась другая, и уже нельзя было разобрать, что тревожнее, страшнее – Дусина болезнь или Зинин отъезд.
Дожидаясь лифта, он мысленно ухватился за это: с его интеллигентностью худо будет Дусе в больнице; того, что умеет Зина, он не сумеет. Раздавать рубли? Преодолеть себя? Но было ведь уже такое: преодолел же! Научился. Этому ли, пустяшному, не научиться ради Дуси – раздавать рубли? Прочему, каждодневному, что умела Зина и, не брезгуя ничем, делала для Дуси, не научиться ли?
Зинина незаменимость послужила ему прикрытием, – он ясно осознал это, дожидаясь лифта, и сейчас же отбросил прикрытие: от кого заслоняться? От себя самого? Зина была незаменима, но по другой причине.
Эту причину он не мог определить однозначно – и не потому, что не решался, изворачивался, темнил, а потому, что причина эта, как и тревога – та, вторая, – была мутна, ей не хватало прозрачности, чистоты, с какой он думал о Дусе. Все повторилось в нем – недавнее, воскресное, когда Зина белила у него, а потом объявила о своем отъезде.
Лифт поднял его на пятый этаж, он пошел по знакомому коридору, дежурная медсестра поздоровалась с ним, но про Дусю ничего не сказала.
Это Лешка сказал, что Дусе плохо, а ему – врач лечащий, Дусин, постоянный, но ей ведь постоянно было плохо, она обманывала или обманывалась, уверяя, будто легчает, успокаивала или успокаивалась таким образом. Однако медицине-то было видней, медицина-то ничего не обещала.
Это Лешка сказал так, а дежурная сестра ничего не сказала, и, значит, не стало Дусе хуже, – плохо, да, но не хуже, и на том спасибо. Чуть отлегло.
Дверь в палату была приоткрыта, он постучался, не ответили, а посильнее стучать нельзя – больница, и потоптался возле двери: авось кто-нибудь выйдет.
Вышла Зина.
У нее халат был свой, специально купленный, – продавали; тесноват был малость, но на ней все выглядело так, даже сшитое по мерке. Она поджала губы, вытаращилась: он пришел не в свое время. И она – не в свое; это время было ничейное. Он тоже не ожидал увидеть ее здесь, – хуже, значит, стало?
– Ты чего? – спросила она. – Звонили?
Значит, хуже. Дверь она не прикрыла.
– Лешка, – ответил он и как бы отодвинул ее плечом, заглядывая в палату. – Лешка звонил, что плохо.
– Лешка? Оттуда? – все еще таращилась она; глаза у нее были крупные, темные. – Ну, ты и даешь! Последние известия! В Кострому через Владивосток!
Говорила она вполголоса, руки засунула в карманчики халата, голову держала высоко, говорок был быстрый, бойкий, и глядела насмешливо. Нет, ничего, подумал он, ничего такого не случилось. Боли были, сказала она, крепко прихватило, промедол вкололи, спит. Отсюда, из коридора, Дусиной койки не было видно.
– Идем, посмотришь, – потянула за рукав и сама пошла вперед. – Женщины, – предупредила потихоньку, – тут мужчина, Дусин муж.
Он неловко кивнул всем сразу, то ли лежачим, то ли сидячим, кивнул-поклонился, не глядя на них, и на цыпочках пробрался меж коек, придерживая руками полы халата, чтобы не зацепить чего-нибудь, не смахнуть с тумбочки.
За все те годы, что Дуся провела в больницах, он никогда не заставал ее спящей, и как бы ни было худо ей, но разговаривали, он слышал ее голос, прежний, не меняющийся и словно подтверждающий, что это она, Дуся, своя, а не чужая.
В этот раз она спала, и он не слышал ее голоса, и верно, потому чудно ему было. Было ему так, будто тоже спит, и все это во сне – палата, койки, тумбочки, спящая женщина, и он никак не сообразит, зачем привели его сюда и кто эта женщина, и хочет проснуться, избавиться от наваждения.