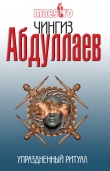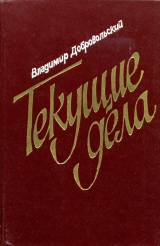
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
18
Это ему, Чепелю, один алкаш идею подал за кружкой пива: описывались разные разности-несуразности про новичков на производстве, и тот, слыхавший от кого-то, в своем исполнении преподнес комедию с участием стажера-моториста, которому для проверки практических знаний набросали в коллектор всяких метизов.
За кружкой пива все смешно, все по делу и поначалу, без добавки крепенького, застревает в голове. И это застряло.
А утром всплыло: попался на глаза Владикин движок, сделанный уже, готовый к отправке, и тельферист куда-то отлучился. Снять крышку с коллектора, деревяшку эту, временную, – раз плюнуть, и шайбы – под рукой. Застряло в голове – и стукнуло в голову: а зачем? Для смеха. Скучища была на участке, с каждым движком возились так, будто в авиапромышленность сдавать его, а не в сельское хозяйство. Он тоже вроде бы на самолетостроение работал – тоже так: не ради фирмы, не под лозунг, а для души. Он это любил, ценил эти моменты, дающие забвение, – как будто стопку принял. Если бы так всегда – стопка не нужна.
Он был в то утро точно хмельной, а хмельному – хоть и хорошо, да все же мало, добавить охота, и тут-то всплыло застрявшее в голове, вчерашнее, навело на мысль: скучища на участке! После того собрания, после той встряски затихли критики, клеймо свое, печатку ту, будь она неладна, Чепель сдал без всяких разговоров и без сожаленья: подальше от греха! И вот вдруг стукнуло в голову: скучища! Да ты работай себе, получай удовольствие, поскольку уж такой редкий момент подошел! А ему одной стопки было мало, на вторую потянуло: повеселиться и участок повеселить! Он, правда, упустил еще и третье: комиссия шныряла по участку, ее-то уж веселить не имел он в виду. И даже не подумал про Булгака, про то, что может выйти парню боком, – ну, застучит движок на испытаниях, и что? Моторист ни при чем, Булгак ни при чем, открыть коллектор, вынуть шайбы – раз плюнуть.
Зато повеселились: Булгаку вожжа под хвост попала, крику было – на весь участок, и дошло до того, что для смеха насоветовали ему через милицию вызвать собаку-ищейку, и пускай, мол, берет след, раскрывает жуткую тайну, устанавливает, кто автор этого произведения.
Когда довели-таки Булгака до белого каления, отсмеялись, автор хотел уж ту тайну раскрыть без собачки, походить в героях дня, но появилась какая-то дамочка из комиссии, помешала. Потом, в душевой, он тайну раскрыл-таки, с довеском причем, с обоснованием конкретной задачи, которая была поставлена, и, надо сказать, задача эта, как видно, отчасти ставилась. Однако не тот уж был отклик, не то впечатление, и с кулаками потерпевший на преступника не полез. Смешно было, когда – с пылу, с жару, а когда остыло – не смешно.
Он проверил это еще и на Лиде: рассказал; и Лида, конечно, ничего смешного в этом не нашла и даже настращала его: сам, дескать, нарываешься и сам же пожалеешь, да поздно будет. А он, кстати говоря, никогда ни о чем не жалел, будь то упущенное или с перебором взятое. Недобор ли, перебор ли – спишется; оно и списывалось у него само собой.
Лида как-то раз утеряла кошелек, или вытащили, а в кошельке – четвертак с мелочью; пять бутылок «Экстры» с закуской, короче говоря. Пришла домой – и в слезы. Он этого не понимал: убиваться из-за четвертака? Из-за пяти бутылок? Бог даст день, бог даст и выпить. Деньги доставались им нелегко, – на базе своей Лида и копейки левой не имела, у него же и речи быть не могло: какой калым на заводе? Однако же над денежками он не трясся и Лиду воспитывал в том же духе. «Ладно, – сказала она, наплакавшись. – Считай, что ты деньги те, из кошелька, пропил». Договорились. А где-то через пару дней выдали ему на заводе аванс, и закатился он с дружками в одно близлежащее заведение, и аванса не стало. «Считай, – сказал он Лиде, – что ты его утеряла». И тоже договорились.
С Лидой ему повезло: другая давно уж выгнала бы его из дому или такую б войну объявила, что сам ушел бы. Другие жены, по рассказам, чего только не вытворяли: вплоть до кляуз, состряпанных своими же руками – на своих же мужей. Теряли всякий моральный облик: в тюрягу засаживали либо лечиться, что хуже тюряги. Это было типично женское явление: делать из мухи слона.
Лида истерик не закатывала, кляуз не стряпала, войны не объявляла, не делала из мухи слона. Он был не так уж чтобы везучий: шоферские права погорели, в лотереях – какую ни возьми – всегда пустой номер тянул, а с Лидой ему повезло.
Однажды вернулся за полночь, она и спрашивает: «С кем был?» Он уже заметил: никогда не спросит: «Где?», а только: «С кем?» Типичная женская психология. «С одним алкашом», – ответил он и назвал: Петя там или Ваня. Он долгое время сваливал все на Петю, которого и духа в городе не было: год назад укатил строить БАМ. А Ваня и вовсе отдал концы, язва у него была прободная. «Какой же Ваня алкаш! – говорила Лида. – Это ты алкаш, а других обзываешь». – «Я? – возмущался он. – Те по утрам болеют, а я не болею. Те остановиться не могут, а я меру знаю. Хочешь, завяжу?»
Лида верила ему, – вот в чем подвезло. И что завяжет – верила, хотя он не завязывал. А верила потому, что он и сам верил. Алкаши у него симпатии не вызывали, а пьющих уважал. Когда заговаривали дома о Владике Булгаке, Чепель всякий раз отзывался о нем пренебрежительно: «Да что там… Непьющий». Алкаши были ему не компания, и пил с ними ради выпивки: ни с кем так легко не скооперируешься, как с ними. Специализация и кооперация – вот мощный, шутили, рычаг. А он уж знал всех в микрорайоне: кто на чем специализируется и на кого можно рассчитывать, когда карман пустой. У него было столько знакомых в городе, что если б собрать их вместе в один вечер – никакой зал не вместил бы. Непьющие знакомились туго, с разбором, сортировались: по возрасту, по работе, по интересам, – так товар ложится на полку, так порядок наводят в кладовой, но в жизни, извините, не так. В жизни – как у пьющих, как в колоде карт, где рядом – шваль и козырь; жизнь – это не кладовая. У него были знакомые и помоложе, чем он, и намного старше, и пацаны еще, и старики, инженеры и кандидаты наук, был хирург, хвалившийся; что выпьет мензурку и оперирует, был артист из театра, заслуженный, был художник, известный везде, лауреат. Да зазови он их к себе, посади за стол – Лида б ахнула. Но он никого к себе не звал, и его никуда не звали, – хватало им того застолья, которое церемоний не требует. В этом застолье, в этой колоде, где все перемешалось, старший козырь был – артельная спайка: плати за всех, если есть чем платить, а когда не будет, за тебя заплатят. С таким козырем вольготно было жить, однако накладно: мало чего из получки доставалось на Лидину долю. Лиде он сочувствовал, но ругать себя за расточительство не ругал: списалось вчера – спишется и сегодня. А списанное – дым: подымило и ушло; списанного он в памяти не держал, так уж она была устроена, и оттого болячки к нему не приставали, нервная система не подчинялась им. Он и Лиду научил списывать, что беспокоит, хотя, конечно, тут имела силу не выучка, а натура. Своей натурой заменить Лидину он не мог.
Поскольку собачка милицейская не понадобилась и автор данного произведения назвался сам, эту комедию с участием Владислава Булгака можно было сдать в архив, а издержки списать, что и сделалось само собой.
На другой же день о комедии этой на участке забыли, автор остался в тени, по заводскому радио не объявили его, и опять пошла прежняя работа, радующая глаз комиссии, которую как принес черт по милости Булгака, так все еще и не уносил.
Эту неделю работали во второй смене, и Лида была спокойна за него: после второй не достанешь выпить, хоть в лепешку разбейся. И он был за себя спокоен. У него в эту смену тоже дело шло – не дай бог сглазить, – и по самой осторожной прикидке – чтобы не сглазить, опять же – рублишек набега́ло прилично.
С первой смены остался дефектный движок, – на пятиминутке Подлепич велел пока не трогать: там уже копались и ни до чего не докопались; а будет время, сказал, пусть Чепель посмотрит или Булгак, – их двоих как бы выделил. У Булгака, видно, задержка была со своими, прибывающими от испытателей, а он, Чепель, как раз освободился и взялся за тот, оставленный на стенде.
– По какому дефекту? – спросил он у Подлепича.
– А ты не ленись, посмотри карту, – сказал Подлепич. – Недобор мощности, кажись.
– Точно, не набирает, – посмотрел. – Ну, это может быть по следующим причинам…
Он всегда рассуждал сперва, прикидывал варианты, а потом уж лез туда руками. И Булгака учил так: сперва – голова, потом – руки. Если наоборот – голове легче, рукам тяжелее.
Там с прокладками нахомутали – на сборке. Две прокладки поставили сдуру под головку цилиндра. Вот движок и барахлит, не развивает мощности.
– Пиши уведомление, Николаич, – показал он Подлепичу лишнюю прокладку. – Вопрос ясен.
– Ты, Костя, слесарь, – сказал Подлепич. – Когда трезвый.
Не было усталости после смены, хотя и выдалась она горячая, работенки – под завязку, а бывает, прокрутишься вхолостую – либо движки не идут, либо не идет работенка – и после смены еле ноги волочишь.
Домой шагал он бодро, ног не волочил, разбрасывал ногами палую листву, принюхивался к привычному, осеннему: то свежо было, приятно, вкусно, а то горьковато – жгли где-то листья.
Он уже к дому подходил, и тут попался ему навстречу знакомый алкаш, то есть морда была знакомая, – где-то, значит, кооперировались, – и по морде видно, что накооперировался с избытком, а кто такой, откуда и на чем специализируется, этого он, Чепель, хоть убейте, вспомнить не мог. Какой-то алкаш средних лет, в беретике измазанном, в распахнутой болонье. И сразу узнал его, Чепеля, полез целоваться. Ну, это как водится, ничего удивительного, а удивительно было, что пьян, однако помнит. «Ах, Костя, ты мне нужен, – забубнил, – тебя сама судьба послала, на ловца и зверь бежит, пошли выпьем, или рублик одолжи, схожу в «Уют», отмечусь с черного хода». Да там и черный ход закрыт уже, и не было рубля как на грех, – нечем откупиться. «Человек человеку волк?» – «Человек человеку друг, – ответил Чепель, – пустой я». И вывернул карманы. Чем, спрашивается, не козырь? Козырь. Но был еще козырь постарше: артельная спайка.
Где, кто, откуда? – этого Чепель вспоминать не стал: зря напрягаться, – а вспомнил, как на той еще неделе приезжал к Лиде из района какой-то дальний родич, вроде Должикова, и привез гостинец. Яичко было не простое, а золотое, и потому Лида, пошушукавшись с родичем, упрятала гостинец куда-то подальше, но из кухни не выходила. Значит, там. А он, Чепель, мигом учуял, чем это пахнет, однако виду не подал, да и не было желания заводиться, затевать банкет. Больше останется, подумал, пускай стоит – на черный день. «В «Уюте» – пустой номер, – сказал он алкашу, – а у меня, может, и клюнет, хотя гарантий не даю». В такой момент чересчур обнадеживать – грех на душу брать; нельзя; однако алкаш, ясное дело, воспрянул духом. Да кто бы не воспрянул в первом часу ночи, когда везде, куда ни ткнись, пустой номер.
Воспрянув духом, алкаш, хотя и под градусом был, но очень обнадеживать себя тоже побоялся: «Да-да, нет-нет, – бубнил, – я на лестнице обожду».
На лестнице Чепель его не оставил, завел в дом и сразу – на кухню. Сиди, друг, и не пикни. А тот готов был по-пластунски ползать, лишь бы поставили ему эту несчастную стопку. До чего водка доводит.
Чепель подумал об этом со смехом, весело, в предвкушении выпивки и в привычной, как горьковатый запах жженых листьев, тревоге: не сорваться бы! Гостю – стопку, а сам – пас? Не по-артельному! Он пошел в комнату, где спала с детьми Лида, и сердце у него застучало. Дурака кусок! Это он подумал не о себе, а о сердце: чего стучать-то? Когда в дымину вваливаешься, небось не стучит.
Лида проснулась – она всегда просыпалась, стоило ему переступить порог, но всю неделю была спокойна за него и сразу засыпала. Он нагнулся, поцеловал ее, и это было знаком, что и сам спокоен за себя. Случись ему выпить, он соблюдал бы дистанцию, и она это знала. Чем дальше, тем реже удавались его хитрости с ней, но эта хитрость удалась ему.
Он вернулся на кухню, а гостя уже сморило; куда ему еще стопку? Выпроводить – не дойдет, у себя уложить – неловко перед Лидой: знать бы хоть – кто. Теперь, однако, не гостя мучила жажда – хозяина; у него стучало сердце, а не у гостя. Теперь был самый старший козырь – гостинец; могла ж Лида и припрятать, и сбыть куда-то, и если так, то все прочие козыри были бы биты. Он полез в буфет – нету; в шкафчик – порожние склянки; в холодильнике быть не могло. Все облазил – пустой номер; зло разобрало. Вот дерьмо: раззадорил и дрыхнет.
Была у Лиды коробка картонная, из-под чего-то домашнего, – уже и позабыто. И в той коробке, за холодильником, хранились всякие тряпки, концы, если по-заводскому. Он туда полез без малейшей надежды, и – сердце застучало! Под этим тряпьем стояла в коробке бутыль, трехлитровая, и в ней что-то было – литра на полтора. Понюхал: оно! И еще для верности попробовал на язык: точно! Богатство-то какое, мать родная! – отлить бы из бутыли, а то гость такой: и завтра припрется, и послезавтра, не отвяжешься. Но переливать – это время, а время было дорого, не терпелось. Он растормошил гостя, привел в сознание, достал из холодильника банку с огурцами, – на большее терпения уж не хватало.
– Ну, Костя! – восхищенно прошептал гость, был памятлив; не забывал, где находится, и только рукой махнул: нет слов для выражения! – и чокнулись, выпили, взяли по огурчику, и тогда уж, глядя не на хозяина – на бутыль, гость прибавил: – Ты гений, Костя!
Это был самогончик, первачок, а гением – тот Лидин родич, дай бог ему здоровья. О нем он, Чепель, промолчал, да и вообще покуда помалкивал, был говорлив до стопки, а стопка вроде бы язык вязала, и уж потом, почувствовав ее, он снова становился говорливым.
Сначала оба были начеку: услышит Лида – явится, разгонит, но после стопки опасения исчезли, а гость – тот вовсе осмелел. Буди, сказал, супругу, приглашай к столу.
– Ну как же, побегу!
– Счастливый ты человек! – вел дальше гость, глаз не спуская с бутыли, и получалось так, что в ней все счастье. – Производитель материальных ценностей! А ценности духовные? Кто может поручиться, что необходимое народу произвел? Кто, Костя? Где, черт возьми, критерии, а? Где диагностика, которая с научной точностью определила бы? Вот это ноль, а это норма, а это выше! Где, Костя, точка отсчета?
Знать бы, кто он, – легче было б толковать с ним, а спросишь – обидится.
– Диагностика есть, – заметил Чепель, – на техобслуживании.
– Да ты не слышишь, Костя, что говорю, – сказал гость, – в технике – параметры, техника – на своих ногах, на ходули ее не подымешь, а ты потому и счастлив, Костя, что принадлежишь к передовому отряду великих созидателей технического могущества, которое…
– Не выступай, – перебил его Чепель, – ты думаешь, почему про нас так громко говорится, что мы, мол, передовой отряд, сознательный, героический и прочее? Это потому, друг, что недобор в цехах, и завлекают таким путем.
– Ну, не шаржируй, Костя, не шаржируй, – сказал гость, – а может, я тебя задерживаю, – спохватился, – и пора кончать?
– Кончил смену – гуляй смело, – успокоил Чепель и налил еще. Из этой бутыли не с руки было наливать: проливалось: но постепенно твердела рука.
– Ты шаржируешь, Костя, а я счастлив, что сижу с тобой за одним столом, – умилялся гость, – это жизнь, Костя, а ты шаржируешь, говорить по душам не хочешь.
– А чего там говорить! – охладил гостя Чепель. – Жизнь, конечно, интересное кино, и все же есть один крупный недостаток: никому не дано досмотреть до конца. Только разохотился, выпроваживают: освободите, гражданин, место для следующего сеанса. После вас, говорят, необходимо проветрить помещение. Воняем много, друг, наша беда.
– Пьем, Костя, много; оттого и воняем.
– Ну, это ты не туда целишься, – возразил Чепель. – Стреляешь по своим.
Они и дальше вели свою беседу, то возражая друг другу, то соглашаясь друг с другом, но было уже трудно сказать, о чем беседуют, с чем соглашаются и против чего возражают.
Наутро, когда проснулся – свеженький, будто и не пили, вспомнилось только, что гостю постелил на диване, уложил, а сам еще добавил малость – стопку, не больше – и посидел на кухне, покурил, пофантазировал. Он частенько в таком блаженном состоянии предавался приятным фантазиям, и даже думалось порой, что пьет исключительно ради этих минут, а не ради артельной пьянки. В этот раз он видел себя то с Подлепичем, то на каком-то собрании, на трибуне, и все сводилось к одному: «Ты слесарь, Костя!» Все сводилось к тому, что Чепеля с Подлепичем водой не разольешь, и что Подлепич без Чепеля – как без рук, и что оба они – представители великой армии труда. Гость по пьянке выступал, а Чепель выступил с трибуны по-трезвому: производитель материальных ценностей, создатель технического могущества! Он такое выдавал – и про диагностику, и про параметры, и о критериях, и о человеческом счастье, и так свободно, красиво, что даже утром, свеженькому, но все же виноватому перед Лидой, приятно было вспомнить. Ох, и выдавал же, – Лида б ахнула.
Но Лиды не было, и гостя – тоже, дети – в школе, петушок, значит, пропел давно, и постель с дивана убрана. Под утро приснилось, будто опять – за рулем, и «Волга» та же, но тормоза неисправны, не держат, и фары почему-то не горят, а мчится ночью, тьма кромешная, наугад, вслепую, без тормозов, и не страшно: Подлепич выручит, если что. После выпивки всегда ему, Чепелю, снились разные разности-несуразности. Другой бы затосковал по баранке, а у него и тут нашелся резон: что за работа дурная, когда и кружки пива выпить нельзя! И тут он ни о чем не жалел, как не жалел, что сорвался вчера, провинился перед Лидой: спишется!
Следы вчерашние на кухне с ночи еще заметены были надежно, – все учтено и предусмотрено, и только того предусмотреть он не смог, что Лида приветит гостя, примет как порядочного. Гость, тихий, смущенный, больной, сидел на кухне за столом, ковырял вилкой в застывшей яичнице. «Вы знаете, не идет, – виновато привстал он, здороваясь. – Абсолютная потеря аппетита». – «Бывает, – сказал Чепель и полез в заветную коробку. – Сейчас мы вас поправим». У гостя аж глаза загорелись, но поломался для проформы: «Так вам же на работу!» Вторая смена – благодать!
«А как же! – ответил Чепель, не спеша расставляя стопки, продлевая удовольствие. – От работы кони дохнут, а без работы – люди. Ничего, – добавил, – мы по маленькой».
Первая гостю досталась с трудом, бедняга мучался; ему же, Чепелю, – с легкостью, всегда побуждающей к подвигам. «Закушу и – точка», – подумал он, однако закусывать не стал. А гость закусил, но с величайшей осторожностью, будто яичница на сковороде была минным полем, а вилка в руке – миноискателем. И так же осторожно принялся допытываться, как попал сюда, и когда это было, и почему головной убор у него весь в птичьих метках. «Прохлаждались, наверно, где-то на лавочке, – взял беретик Чепель, рукавом потер. – А птички капали. Скажите спасибо, что коровы не летают». Гость веселел, перестал осторожничать: «Ты, Костя, яркая личность! С тобой не соскучишься!» Поутру, видно, ошибиться боялся: Костя ли? – а поближе к полудню был уже уверен, что именно – Костя.
Поближе, к полудню приспело время и дело решать: как быть с работой?
Сперва задачка эта казалась неразрешимой: куда ни кинь, все клин, с ответом не сходится. Ответ был указан в школьном задачнике, на последней страничке, черным по белому: разбейся в лепешку, а на работу выйди. Стоп, значит, красный свет, проезд закрыт, движение запрещено, бутыль заветную – со стола вон! «Всю жизнь на зеленый ездить, в этом ли смысл жизни?» – спросил он у гостя. «Не в этом! – ответил гость. – Дуй на красный!» Дунули. И как только набрали приличную скорость, сразу задачка решилась. Гость сказал, что у него в районной поликлинике есть знакомая врачиха, и если на колени стать, выпишет справку, а постоять подольше, пустить слезу вдобавок – и с бюллетенем, гляди, что-нибудь выгорит. Вчера был Костя гений, сегодня – гость. «Дальтоник-гипертоник! – в порыве братской нежности огрел его Чепель по спине. – Так мы же на зеленый едем, а ты мне: красный, красный!» Не мешкая, сдвинув табуреты, они прорепетировали, как будут перед той врачихой становиться на колени. Умора! Но то еще маячило вдали, с тем можно было не спешить. Тут, видно, вкралась ошибка в решение задачки: идти бы уж сразу к той врачихе, но они упустили момент, гость сильно сдал на последнем заезде, сам попросился восвояси, а Чепель, отпустив его, подремал часок, пришел вроде бы в норму, запасся сырым пшеном, которого было у него вдоволь, и помчался на работу. Пшено это, говорили, если пожевать, отбивает запах. Так оно или не так, но на проходной не задержали, и в цехе тоже не было претензий.
Да и кто привязался бы, когда голова ясная, руки не трясутся, самочувствие – грех жаловаться? Пожевывая пшено, он бодро взялся за работу, но бодрость эта, словно бы из шланга бьющая, била все же не туда, куда нужно, а в сторону, будто ветром сдувало струю или шланг раскачивало. Руки работали, но в разладе с головой: голова – свое, руки – свое. Рукам было все равно: то ли тут прозябать, то ли блаженствовать где-то там, а голова рвалась туда, на волю, – зрели планы. Но раз уж сам в неволю сунулся, теперь до ночи не вырвешься, – планам хана.
Дефектчики, как правило, неохотно брали движки на обыкновенный контрольный осмотр, и он, как правило, старался не брать их, но сегодня взял: мороки меньше.
Клейма своего теперь не было, – впервые, пожалуй, пожалел, что нету, отобрали, а то бы шлепнул печаткой по сборочной карте, и не пришлось бы кликать Зинаиду. У нее нюх был собачий.
– Так, – произнесла она со значением. – Две кольцевые риски на вкладыше. И кромка не заглажена. Бери гладилку.
Она ему нравилась. Был бы он бабник, если б не водка. Но за этой водкой на баб у него не оставалось времени. Однажды он крепко втрескался в одну – сидели за общим столом – и собирался провести работу с ней, но на столе была еще водка – не мог оторваться, а когда пусто стало в бутылках, ее, этой особы, уже и след простыл. Над ним потешались: любую променяет на сто граммов.
– Зинуля, – сказал он, – не будь занудой. Где ты видишь риски?
– А ты не видишь? – с подозрением, которого опасался, глянула она на него и даже, кажется, носом потянула. – Купи очки.
Она ему нравилась не первый год, и он бы крепко втрескался в нее, будь обстановочка иная – застольная, к примеру, а то он к ней, Зинаиде, привык. Она была в его вкусе – гораздо больше, чем Лида, но с Лидой ему повезло, а с ней попал бы в кабалу. С ней у него были попытки заигрывать, однако она не признавала вольностей. Он смирился, и все же она нравилась ему.
– Ну, допустим, заглажу, – сказал он.
– И остальные вкладыши проверь. Коренные и шатунные.
А это уж она показывала власть свою над ним; какого хрена? Обычно проверяли третий коренной, несущий основную нагрузку, и тем ограничивались.
– Согласно техпроцесса, – сказал он, – могу не проверять.
– Согласно техпроцесса, – сказала она, – при неудовлетворительном состоянии коренного подшипника обязан проверить все коренные и шатунные. Надень очки, – добавила она, как бы присматриваясь к нему, издеваясь над ним. – Прочти техпроцесс.
– Так это ж при неудовлетворительном! – законно возразил он ей. – Две риски допустимы. Не ставь, Зинуля, принципа! – зная, что получит отпор, все же попытался он повольничать: руки с головой были в разладе.
Ну, ясно: замахнулась на него, залилась гневным румянцем.
– Давай-ка без рук! Смотри, – взяла вкладыш, показала. – Две риски, да еще засветление. Вот пятно. И вот. По три квадратных сантиметра. Допустимо?
Да ну его в болото, техпроцесс! «Так придираться, – подумал он, – оставим село без машин. Жвачку бы!» – но лезть в карман за пшеном при Зинаиде не решился и, лишенный моральной устойчивости, которую придавала ему эта жвачка, сплюнул с досады, демонстративно, и пошел прочь от стенда – в закуток, где обмеривали коленвалы. Хоть душу с кем-то отвести. «Чего жуешь? Резинку? – спросили. – Вот мода!» – «По моде – и мышь в комоде», – сказал он. Стояли тут, курили. Он тоже закурил. А Зинаида, зануда, и тут ему покоя не дала.
– Эй, Чепель! – словно бы подкралась, привязалась. – В бирюльки играем?
Он отвернулся, сделал вид, будто принюхивается, и, принюхавшись, погримасничал, сострил:
– Дерьмом что-то, братцы, запахло!
– Еще раз услышу! – покраснела Зинаида, цапнула его за плечи, повернула. – Как врежу! – Это она могла. Не хуже мужика. И комплекция была подходящая. – Да ты, мерзавец, пьян! – вскрикнула она, будто напоролась на горячее. – Да ты что?
Пшено дало, значит, осечку, но он не растерялся, огрызнулся:
– Не за твои! – Еще чего – теряться перед каждой! – Ну, врежь, попробуй! – Хмель вдруг проснулся в нем, и он уж не считал это зазорным – наоборот! – и с верстака схватил, что поближе было: гаечный ключ. – Убью! – распсиховался для острастки.
Ее ли настращаешь! – стояла, зануда, здоровенная, ни шагу назад не ступила.
– В тюрьму сядешь, Чепель!
Он хохотнул свирепо, тоже в долгу не остался.
– Раньше сяду – раньше выйду!
Теперь уже было ему море по колено, – хоть сам Старшой прибеги на шум, хоть сам директор, а на Подлепича прибежавшего он и внимания не обратил. Подумаешь, цаца, сменный мастер! Не высока должность: куда пошлют! Подвязчик не подвязчик, тельферист не тельферист, дворник не дворник, надут, как гусак, да ноги не так.
Был сух и прям Подлепич: обструганный дрючок, обглоданная кость; свисток бы в зубы – рефери на футболе, и подал знак рукой – штрафной, дескать, удар, и указал, с какого места, – с этого.
– Отстраняю от работы, Константин!
– Еще чего? Возьми метлу, Николаич, мети участок.
– А я мету! – закипая, видно, однако пар свой попридерживая, пожестче сказал Подлепич. – Слыхали, товарищ Чепель? Отстраняю!
Тут-то дошло до сознания: комиссия на участке, пойдет проработка – рублем не отделаешься, затаскают по цехкомам-завкомам.
– Юрий Николаевич! – взмолился, хоть и стыдно было унижаться – не перед Подлепичем, перед людьми. – Прости на этот раз. Трудоспособный же!
– Нет, не трудоспособный! – отчеканил Подлепич и, как судья футбольный, показал: мол, с поля! – Отстраняю!
– Ну, отстраняй, – смирился Чепель. – Какая разница! Себе же гадишь. С меня-то спишется, а вот с тебя…
Что ни творится, все к выгоде: уже и не чаял, как до той воли добраться и планы зреющие в жизнь претворить, а вот она, воля, открылась.