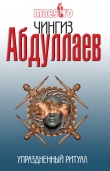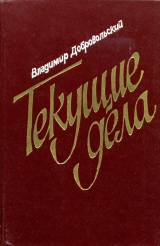
Текст книги "Текущие дела"
Автор книги: Владимир Добровольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Он вылез-таки, превозмог себя и с Оленькой на руках пошел по синему неслышному снегу, по ступенькам больничного подъезда – туда, внутрь. Таяло. Вдавленные в снег, его следы сахаристо лоснились.
Там, внутри, за стеклянной матовой загородкой, в окошечке, как в кассе, сидела белая кассирша и выдавала чеки. Кому – на радость, кому – на горе. Той радости, прежней, прожитой, уже не существовало, он больше не вспоминал о ней, – та радость была к беде. И если б за счастливый чек потребовала плату белая кассирша, он отдал бы все, что есть, что было, что будет, и остался бы ни с чем, только с Оленькой на руках.
Но платы никто не требовал, и чеки выдавали не сразу, и тут, у окошечка, у неподкупной кассы, это безжалостное промедление доконало его. Он все же совладал с собой, раскутал Оленьку, чтобы не распарилась, но на пол почему-то не спустил, а так и вышагивал с ней взад и вперед мимо матовой загородки, мимо белой кассирши в окошечке, мимо незнакомых людей, которые тоже дожидались чего-то. Прижимая Оленьку к себе, ощущая грудью, шеей, лицом ее детскую теплоту, он подумал, что без этой теплоты, передавшейся и ему, не смог бы совладать с собой, и теплота эта как бы вошла в него новым чувством, более властным и нежным, чем то, что он знал до сих пор, и чувство это родилось не в радости, а в беде, и потому породнило его с Оленькой как бы заново, и с этим новым щемящим и режущим душу чувством он готов теперь ко всему.
3
Строго говоря, полагалось Старшого – в президиум, докладчика, всегда так делается, а себе – самоотвод: собрание, товарищи, рабочее, председатель цехкома избран, и незачем сажать рядом еще и секретаря партбюро.
Он бы это поправил, Маслыгин, но упустил момент, а упустил потому, что пришел на собрание, ошарашенный неожиданностью, о которой только что сообщили ему.
Неожиданность, собственно, была приятная, однако, не приученный загодя обольщаться, он воспринял ее не столько обрадованно, сколько настороженно. К тому же у него не было времени на размышления, и в красный уголок он пришел, не успев осмыслить то, что услышал.
И реплика Булгака насторожила его.
Когда в зале засмеялись, он тоже улыбнулся, но не оттого, что было смешно, а словно бы по привычке не выделять себя из общей массы, подчеркивать равенство свое – во всяком случае, этическое – со всеми остальными. Эта привычка появилась у него не так давно, он и замечал ее и не замечал, а замечая, не придавал ей значения, но теперь – в этом зале, в президиуме рабочего собрания – она покоробила его, он поморщился.
По ассоциации ему припомнилось, как выслушивал он полчаса назад приятное якобы известие, и как смешался вначале – оно касалось и его, – и как, взглянув на лица своих авторитетных информаторов, тотчас подавил растерянность, принял то же деловое, слегка озабоченное выражение лица, что и они. А когда председатель завкома, впавши в пафос и пренебрегая осмотрительностью, то есть забегал наперед, стал поздравлять присутствующих со знаменательным событием в жизни завода, он, Маслыгин, вслед за остальными сменил свою озабоченность на торжественность и не поморщился.
Рано было поздравлять.
Он перегнулся через стол, взял лист писчей бумаги, наготовленной для протокола, вытащил из наружного пиджачного карманчика фасонную, привезенную лет десять назад в подарок ему Подлепичем из Италии шариковую ручку и написал послание Булгаку:
«Милый Владик! Твое остроумие до меня не дошло. Если ты действительно имеешь что сказать, не будь соглашателем, выйди и скажи. В чем дело? С каких пор у нас в цехе пошли в ход туманные намеки? Не думаю, чтобы ты это ляпнул ради красного словца. Или предпочитаешь принципиальной критике трусливое умолчание? Тогда ты прав: морально воздадим тебе должное. И, как ты выражаешься, догоним и добавим. Жду ясности. Маслыгин».
Записку эту, спустившись в зал, он передал по рядам раскрытой: пусть читают! – но народ был деликатный, никто не прочел, и это порадовало его. Он видел, как записка допорхала до Булгака.
Между тем собрание шло своим чередом – ни шатко ни валко, то попадая в круг, очерченный докладчиком, а то отдаляясь от круга на порядочную дистанцию, как это бывает, когда кругозор ораторов неодинаков и частности видятся некоторым через увеличительное стекло. Чем больше собиралось этих частностей, тем определенней чувствовал Маслыгин, что нить собрания ускользает от него; он силился поймать ее, но внимание рассеивалось.
Бранила с трибуны крановщица подвязчиков, которые цепляют груз на крюк сверх всякой весовой нормы, взывала к начальству о соблюдении правил техбезопасности, и он, Маслыгин, слыша ее и не слыша, вновь жил заботами, сомнениями, удачами тех давних дней, когда большой бригадой добровольцев-энтузиастов до ночи засиживались в техбюро или на испытательной станции, решали технический ребус, отыскивали оптимальный вариант. Бригада была у них комплексная: технолог Маслыгин и моторист Подлепич, инженеры из отдела главного технолога, из ОГТ, и сотрудники НИИ. Они тогда не изобрели ничего принципиально нового, электрический тормозной стенд для обкатки, испытания и балансировки двигателей давно уж эксплуатировался на моторостроительных предприятиях, но им удалось внести в конструкцию существенное усовершенствование, и впоследствии, по мере того как оно повсеместно внедрялось, видоизмененный испытательный стенд приобрел у практиков отличную репутацию.
И не то явилось неожиданностью для Маслыгина, что через несколько лет вновь она, репутация, была подтверждена, а то, что теперь уж заговорили об этом в полный голос и так уверенно, будто республиканская госпремия стенду обеспечена, – официальное представление сделано, поддержка будет, и на очереди – утверждение персонального списка.
– А вы-то сами пытались повлиять на подвязчиков? – спросил Маслыгин у крановщицы. – Хотя бы поинтересоваться, знакомы ли они с правилами техники безопасности?
– Так я же на верхотуре, Виктор Матвеевич! – загорячилась крановщица. – Каждый раз слазить? Качать права? Они командировочные с откуда-то, меняются, постоянства нет, мучение с ними. Вот вы ответьте, Виктор Матвеевич, когда это кончится?
– Не отвечу, – сказал он угрюмо. – Врать не хочу.
Где только не ломали над этим голову, на разных уровнях, и кто только не ломал – и он в том числе, – а что сказать, что ответить? Вносила разброд в планомерное течение заводской жизни вся эта прикомандированная братия, все эти практиканты, временные подсобщики, мальчики из дальних колхозов, посланные за тридевять земель на какой-нибудь месяцок в обмен на запчасти, которыми завод, искусно обходя ведомственные рогатки, снабжал своих неофициальных подопечных. Эти прикомандированные, временные, по молодости лет и прочим льготам освобождены были от ночной работы и потому вносили путаницу в численный состав смен и бригад, и где уж могла сказаться направляющая рука производственного мастера или того же наставника, если переходили они из руки в руки, появлялись на короткий срок и сразу исчезали, только-только обвыкали на новом месте – и на их место становились другие, такие же новички, такие же необученные.
Их было, разумеется, немного, процент – если брать голые цифры – ничтожный; Маслыгин глянул в зал: вот он, костяк, опора, Подлепич, Должиков, Чепель, Булгак, слесари механосборочных работ, слесари-дефектчики, слесари-ремонтники, электрики, мотористы, но будь их всех вдосталь, по штату, по потребностям, кто бы польстился на перелетных птиц?
Не хватало! – это была вечная забота и боль Маслыгина, как оспина, которую ничем не вытравишь, а оспой этой он переболел, когда довелось начальствовать на испытательной станции, считать по пальцам мотористов, и потом, в техбюро, это ощущалось, и теперь, на партийном посту, он не мог не ощущать этого, хотя бы потому, что глубже оно вонзилось в него, острее.
Облокотившись на стол, он сжал виски ладонями; а третья смена, ночная, – не бельмо на глазу? Когда нет выбора, идут и на ночную, а если есть заводы – один другой, пятый, десятый, – где давно уж о ночной забыли, и всюду зазывают, везде создают наилучшие условия, куда пойдет вчерашний школьник или сегодняшний выпускник училища?
Бывают люди, которым работается не только в охотку (в охотку – знакомо!), но к тому же еще и легко, свободно, весело, а он работал с вечной заботой, с вечной болью: это не так, то не этак! – и отдавал себе отчет в своей слабости, молчал, естественно, о ней, стыдился ее.
Не дай бог, просветят рентгеном из зала, увидят и у самих тонус понизится, – нельзя так! На своем посту он должен стоять прямо и всем своим видом выражать уверенность: что ни делается, все к лучшему. Стоять прямо – не столь уж, впрочем, трудная роль, а вот в пути, в движении, против ветра – труднее. Ему пришел на ум коварный вопрос: идет он, движется, или всего лишь стоит на посту?
Очень уж нужно было в эту минуту несладкого раздумья подсластить себя чуточку, а сладость уже копилась несмотря ни на что, вопреки строгому голосу рассудка, и, уступая этому голосу лишь отчасти, он строго, сдержанно, как бы безотносительно к каким-либо личным чувствам, подумал, что премия, если, разумеется, выдвинут и удостоят, пойдет на пользу его работе и, следовательно, на пользу цеху, ибо, чем выше моральный капитал работника, тем проще ему поступать, как считает нужным, и, стало быть, пробивать и в низах и в верхах самые непробиваемые проекты.
Что говорилось с трибуны, он слышал и не слышал, а думал о завтрашнем: о реконструкции главного конвейера, о смежниках, которые вечно в долгу перед цехом, о санкциях, необходимых для того, чтобы наконец-то образумить должников, о том, как дружно работается ему со Старшим и как Старшой порадуется, если впрямь внесут в почетный список сразу двоих из цеха – Подлепича и Маслыгина.
Но списка еще не было – могли решить иначе, а кто решал и как, Маслыгин этого не знал, не приходилось с этим сталкиваться прежде; спросить? – но не спросил: неловко было спрашивать.
Он думал только, что Старшой порадовался бы, – вот чего хотелось: не на Старшого он работал, – говорить смешно! – и не в угоду начальнику цеха выкладывался в своей работе, но постоянно теплилось какое-то сыновнее желание помочь Старшому, порадовать сделанным делом и даже снять со Старшого часть повседневных начальнических тягот, переложить на себя.
Он смолоду приучен был чтить старшинство и ко многим на заводе, старшим по возрасту, опыту, службе, относился с неизменным уважением, но Старшого уважал особенно, как никого другого: Старшой, детдомовец предвоенных лет, сапер в войну, чернорабочий в первые послевоенные годы, был самым крепким начальникам цеха на заводе, и так уж посчастливилось, что под его началам прошел Маслыгин чуть ли не весь свой заводской ученический, а потом инженерный путь.
Что лавры! – да и не мечтал он о них, право же, однако пробежал глазами по лицам в зале, отыскал Подлепича, невидного, неброского рядом с красавцем Должиковым, и словно бы посожалел, что Подлепичу-то наверняка ничего пока об этих лаврах неизвестно.
Негожая вольность – тянуться к ним, пускай даже заслуженным; еще он мельком подумал, что если бы недостало этих лавров на двоих, он не колеблясь признал бы за Подлепичем первенство – по справедливости.
А почему, и что это была за справедливость, и отчего в той давней работе они с Подлепичем были все же не равны, он вспоминать не стал, решительно, как бы встряхнувшись, отбросил эти мысли, прислушался к тому, что говорят с трибуны.
А говорили не пустое: в службе энергетика соцобязательства положены под сукно; так ли, не так ли – цехком проверь! – да и себе не мешало бы взять на заметку, он и себе в блокнот записал это знаменитой ручкой, американской, доставленной когда-то из самой Италии. Было тогда хорошее время у Подлепича.
О том Маслыгин тоже вспоминать не стал, прикрыл глаза ладонью, словно в забытьи, – могли подумать: дремлет; а он сосчитывал, сколько осталось до Нининых каникул, хотя учебный год лишь начался. Она была в отъезде, на партийной переподготовке, и что уж тут сосчитывать – давно было сосчитано. С тех пор, как поженились, у них еще не случалось такой длительной разлуки, – он вдруг подумал, что не выдержит, найдет возможность повидаться, слетает к ней на выходной или на праздники; до праздников, однако, было далеко. Он вдруг представил себе, как порадует ее той самой новостью, в которую сам-то слабо верил, но, думая о ней, о Нине, вдруг поверил, чтобы хоть как-то подсластить разлуку. Да не нужны были ему никакие лавры, никакой моральный капитал, никакое признание заслуг, – того, что есть, хватало с избыткам, – но ради Нины, которая была теперь не с ним, он согласился бы показаться самому себе нескромным, ненасытным, алчным. Когда она была с ним, он этого за собой не замечал.
Но все равно: таящееся торжество внезапно прорвалось, и, не сопротивляясь больше этому торжествующему порыву, он глядел в зал прямо, светло, любовно, и глаз не опускал, и торжества своего не скрывал, – и только встретившись нечаянным взглядам с Зиной Близнюковой, тотчас опустил глаза – и тотчас же все в нем, раздавшееся вширь, возликовавшее, замерло и мучительно сжалось.
4
Уже тогда, шесть лет назад, был Маслыгин членом цехового партбюро, первым заместителем секретаря, и, когда формировалась шефская группа для поездки в колхоз, назначили его старшим группы.
Это было некстати, но он держался правила ни от чего, коль поручают, не отказываться и убедился в том, что правило такое – своеобразный нравственный тренаж – приучает человека к высоким деловым нагрузкам. В общественной жизни он не признавал промежуточных позиций, чреватых, по его мнению, потерей жизненного ориентира: если стремишься брать на плечи меньше, чем можешь, не бери уж вовсе ничего, чтобы на тебя не надеялись зря, а тот, кто привык водить тяжеловесные составы, недогруза не потерпит. Хвалили его за покладистость, когда дело касалось тяжеловесных составов, но он не покладистостью гордился, а своей системой.
Поездка в колхоз была ему очень некстати, однако перекладывать ношу свою на других он не стал.
И вот сложилось так, что все-таки пришлось переложить.
После обеденного перерыва на столе в партбюро уже лежали списки отъезжающих, и люди были оповещены, и он названивал помощнику директора: понадобился заводской автобус. Туда, в колхоз, можно было бы и поездом, но это дольше и от станции далековато.
Шел снег.
Помощник директора, известный скупердяй, у которого и снега в такую пору не выпросишь, попугал Маслыгина метелью, заносами, а Маслыгин, с телефонным аппаратам в руке, шагнул к окну, посмотрел: какой же это снег? Снежок!
И тут же позвонила ему секретарша главного инженера, сообщила, что завтра, сразу вслед за утренним рапортом, состоится заседание техсовета и он, Маслыгин, должен непременно быть, а ежели куда-то усылают, пускай начальник цеха свяжется с главным, и главный даст команду никуда не усылать.
Вот это было кстати: без хлопот освобождало от поездки, – но потом подумалось, что будет непорядочно в последнюю минуту хватать кого-то, не готового, не предупрежденного, и посылать вместо себя.
Он не был членом техсовета, и вызывали его на совет в связи с модернизацией испытательного стенда, – нетрудно было догадаться. Всяческих проволочек предшествовало техсовету множество, настала пора подводить итоги, а мнения разошлись, институт, разрабатывавший идею, забил в набат: у них в конце года горели поощрительные фонды, – вот и назрела побуждаемая со всех сторон необходимость в срочности.
Рывком пододвинув к себе телефон и таким же манером снявши трубку, он хотел было объяснить ситуацию главному, но передумал, вскочил, метнулся к начальнику цеха – через коридор – и с полдороги вернулся, выхватил из письменного стола тетрадь, вырвал чистый листок, положил перед собой и тоже передумал, опять вскочил, подошел к окну, посмотрел, – снежно было за окном.
Он мог бы оставить писульку в техкабинете, – не все ли равно, выступит он сам или другие огласят его точку зрения? В конце концов, на таком представительном совещании отсутствие технолога Маслыгина, пожалуй, и не будет замечено и, уж конечно же, не повлияет на окончательное решение, несмотря на то что непосредственно он занимался доводкой стенда, а может статься, именно поэтому. Не все ли равно, появится он на совете или подаст свой совещательный голос в письменной форме?
Была, однако, некая тонкость, вокруг которой, фигурально выражаясь, он топтался и дотоптался наконец, доискался ответа: нет, не все равно! Техсовету – да, ему – нет. Не так техсовет нуждался в нем, в его голосе, как сам он испытывал острейшую потребность подать этот голос. Писулька тут не годилась, – писульку сочли б за отказ от принципиального спора. Писульку сочли б за бегство с поля боя. И были бы правы.
Топтание не свойственно было ему, – во всяком случае, на такой способ мышления всегда не хватало терпения, а мысль блеснула и сразу же показалась счастливой: Гена Близнюков! Генка был друг ему, испытанный, закадычный, еще с института, и вместе работали, бок о бок, технологами – замена была б равноценна.
Воодушевившись, он бросился в техбюро. Время было уже такое, когда доблестные технологи сворачивают свои рулоны, запирают столы и нетерпеливо поглядывают на часы.
Генка, однако, был прилежен: стол его пустовал, пальто висело рядом, а сам, сказали, в цехе, – идеальная позиция для кабинетного инженера, которого к тому же грех было бы заподозрить в преждевременной рокировке, ибо пальто висело-таки.
Генка со старшим контрольным мастером прохаживались вдоль конвейера, Маслыгин разлучил их, взял Генку под руку, спросил: «На подвиг способен?» Генка был молчун, словами не разбрасывался, зато мим из него вышел бы хоть куда. На вопрос он ответил многозначно: сперва – губами выразил презрение к такого рода предисловиям, затем – глазами – иронию по поводу наивных намерений втравить его в какое-то обременительное предприятие и под конец, мобилизуя весь свой мимический дар, показал, что на подвиги не способен.
Жили они душа в душу, знали друг друга тысячу лет, и такое начало не обескуражило Маслыгина. «Не шучу, Гена, – сказал он грозно. – Выручай. Много не прошу, но и не мало, ты уж извини». Вывернув карман – один, потом другой, Генка показал, что в карманах пусто.
Если бы это! Маслыгин нисколько не сомневался в том, что Зина загрызет его, согласись Геннадий. Доложить Старшому – и дело с концом? Но, признаться, он был уверен, что Старшой уломает главного, и придется ехать. «Генка! На денек! Я после совета – пулей к тебе, сменю, и завтра же, засветло, с гарантией – вернешься!» Генка был в рабочем своем халате, в шляпе, – снял шляпу, расшаркался, раскланялся на манер театрального мушкетера и пошел прочь. «Объяснить?» – догнал его Маслыгин. На Генкином лице аршинными буквами было написано, что в объяснениях он не нуждается. «Да ты послушай, – не отпускал его Маслыгин, шел рядом с ним. – Все из-за стенда, будь он неладен, доконал меня стенд!» Генка смерил привязчивого друга холодным оценочным взглядом и нашел, что друг – в норме, отклонений патологических не наблюдается. «Тут замешан главный, Генка! Ситуация, понимаешь? Да ты поймешь!»
Ситуация сложилась такая, что нужно было всей бригадой спасать незавершенную работу от яростных нападок самого главинжа, доказывавшего с пеной у рта и с технико-экономическими выкладками в руках, что переделка стенда не даст ожидаемого эффекта и ударит по себестоимости. Но не это имел в виду Маслыгин, полагая обязательным свое присутствие на техсовете. Полмесяца назад – независимо от главинжа – он вдруг усомнился в рентабельности нового стенда и, таким образом, солидаризировался с могущественным противником дела, которому посвятил немало труда и времени. Союзничество это продолжалось, впрочем, недолго: оставаясь в гуще работы, а не в стороне от нее, как главинж, Маслыгин вскоре убедился, что заблуждается и что сомнения главинжа несостоятельны. Об этом, как ему казалось, было важно заявить на техсовете прямо и бескомпромиссно, ибо любая другая форма полемики с могущественным противником выглядела бы трусливым стремлением не сталкиваться с ним лицом к лицу.
«Так или не так? – грозно спросил Маслыгин у Геннадия. – Скажи!» – «Зинка мне устроит сабантуй», – сказал Близнюков. Похоже было, что на этот раз столь веский довод воспроизвести мимически он не отважился и близок к тому, чтобы пойти на уступку. «По рукам!» – опережая его, заключил Маслыгин. – А с Зиной уладим. Сутки отлучка, есть о чем говорить!» – «А на кой тебе, собственно, портить отношения с главным?» – спросил Близнюков. «Ну, пошли, – сказал Маслыгин, – переиграем это на сутки у Старшого».
Когда отъезжающие были в сборе, толпились у автобуса, балагурили, перебрасывались снежками, он вышел проводить их, удостовериться, все ли в порядке, сказать напутственное слово и вдобавок заверить, что завтра же будет с ними, чтобы не сочли за ловкача, который всех созвал, сагитировал, завербовал, а сам – в кусты. Дуся помахала ему из автобуса, – он и ее заверил в том же и посоветовал держать связь с Геннадием – возвращаться вместе. Он всех наставлял, напоминал, что кому делать и с кем кооперироваться, и водителя тоже проинструктировал: «Вези культурно. Не гони». Водитель был опытный, дисциплинированный, не мальчишка.
А Генка Близнюков, как мальчишка, затолкал кого-то в сугроб, образовалась свалка, – зря они медлили, уже стемнело. Маслыгин вытащил его из свалки, хотел обнять на прощанье, но Генка вырвался, бросил через плечо: «На войну провожаешь?»
Влезая в автобус, он и не обернулся, и не помахал из окошка; тронулись, снег на заводской аллее окрасился в кровавый цвет: отблеск габаритных фонарей.
Потом еще постояли у ворот, вахтер глядел пропуска, и тоже лужа крови растеклась на снегу под задним бампером. Ворота раскрылись, рубиновый хвост снежной пыли поволочился за автобусом.
Маслыгина дома не ждали, можно было не торопиться; он пошел в цех, на испытательную станцию, к стенду, проверил датчики, проверил весовой механизм и долго еще возился, пока не прибежала посыльная от диспетчера и не сказала, что его повсюду разыскивают.
Из двадцати двух заводских посланцев, так и не добравшихся в тот снежный вечер до подшефного колхоза, двадцать отделались легкими ушибами, и только двое попали в больницу.
Дуся Подлепич выжила, а Гена Близнюков той же ночью, не приходя в сознание, скончался.