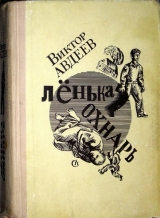
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 55 страниц)
– Ладно. Дальнейшее покажет.
– Только, Леня, умоляю, держись в рамках.
Осокин хотел обидеться: уж не считает ли Алка, что он продолжает ревновать и полезет драться? Вообще, просить помощи и читать наставления!
Глаза Отморской смотрели озабоченно, умоляюще, и он тотчас козырнул:
– Есть держаться в рамках!
XXXI
Ехать в Замоскворечье надо было на двух трамваях – с пересадкой. Вновь, как и полгода назад, тянулись мосты (река теперь скрыта грязным задымленным льдом), кривились узкие улицы с осевшими домами, деревянными бараками, круглыми покосившимися тумбами для афиш.
По дороге от остановки до квартиры Алла совсем притихла. По тому, как стали скованны ее движения, Леонид догадался, насколько она волновалась. Он боялся, что в решительную минуту Алла обмякнет, сдастся, и всячески развлекал ее веселыми рассказами о своих провалах на первых уроках немецкого языка. Муся шла, по обыкновению, тихо-спокойная и о чем-то думала: может, подбирала рифму к стихотворной строке?
Вошли в полутемную переднюю, Алла без стука открыла дверь в комнату, где еще совсем недавно жила, которую считала родным кровом.
Очевидно, Курзенков не ожидал жену именно в это время, да еще с такой компанией. Он с газетой полулежал на кушетке, рядом валялся открытый сборник пьес. Курзенков вскочил, зачем-то одернул модный шерстяной свитер, открывавший шелковый галстук, лицевые мускулы его задергались. Он пытливо смотрел на вошедших и ничего не говорил.
Ничего не произнесла и Алла. Сняв только одни перчатки, она достала из-под тахты свой чемодан, отряхнула с него мелкую пеньковую пыль, натрусившуюся с матраца. Ни она, ни Курзенков не предложили Мусе Елиной и Осокину раздеться или хотя бы присесть. Вообще вид у всех был такой, словно они между собой незнакомы.
Леонид молча стоял у двери. Вот он и еще раз находится в комнате, которую с болью, отчаянием, проклятиями не один раз вспоминал за эти полгода. Пожалуй, в ней мало что переменилось. Тот же красный пушистый ковер на стене, те же два мягких стула, обтянутых канареечным плюшем, лишь на обоих окнах появились белые шелковые шторки. Да, но теперь ко всему здесь прикасалась она, каждая вещь, которую в первое посещение этой комнаты он разглядывал только с любопытством, была связана с Аллой. Леонид смотрел на телефонный аппарат и думал, что совсем недавно она брала в руки эту трубку. Смотрел на патефон и представлял, как она его заводила, напевая под любимую пластинку. Обрызгивала себя из того вон флакона с духами. Сидела на этом стуле. А на тахте обнимала Илью, шептала слова любви. Лживые слова? Или искренние?
Леонид торопливо отвернулся от тахты. Странно, мы совсем не знаем, где что нас ожидает, где что с нами случится. Думал ли он полгода назад, что комнатка в невзрачном доме на Малом Фонарном займет такое место в его жизни? Как события, вещи властно вторгаются в нашу судьбу! И вообще, он, «отпетый» Ленька Охнарь, – в роли рыцаря-охранителя. Куда-то его бросит недалекое будущее, что заставит делать?
Открыв шифоньер, блеснувший зеркальной дверцей, Алла кинула на спинку стула плащ, серо-голубое нарядное платье. Взяла с подзеркальника свою пудреницу, флакон духов с пульверизатором. Начала заворачивать в простыню Одеяло, подушку.
По-прежнему все молчали. Самая спокойная, естественная поза, пожалуй, была у Муси.
Курзенков закурил, медленно выпустил дым, и губы его сложились в насмешливо-презрительную гримасу. Он старался подчеркнуть эту свою гримасу, чтобы все ее видели. Курзенков давно не брился, и черная щетина, при толстых черных бровях, особенно выделяла его красный чувственный рот, ложбинку на твердом властном подбородке.
– Демонстрацию устраиваешь? – спросил он жену.
Собирая вещи, Алла не ответила.
– Брось дурить, говорю. Ты меня неправильно понимала.
Вот то, чего боялся Леонид. Курзенков уговорит ее, и она простит ему все, помирится. «Бабу только приласкай, она и замурлыкает» – это Леонид от многих мужчин слышал. Он с тревогой ждал, что ответит Алла. Ответила она грубо, непримиримо:
– Может, ты меня правильно понимал? Я не простыня, а человек. Удобно устроился: и любовницу нашел бесплатную, и уборщицу?
В глазах Курзенкова вдруг вспыхнуло бешенство. Он схватил Аллу за руку, стал вырывать узел, который она вязала.
– Оставь комедию. Мы не на сцене... Уж если хочешь, все эго можно сыграть без статистов.
Леонид сделал шаг вперед, осевшим от волнения голосом произнес:
– Не трогай, Курзенков. Слышишь?
Курзенков не повернулся, не ответил, словно находился в комнате только вдвоем с женой.
– Останься. Поговорим... объяснимся.
Алла прищурила глаза, сказала, словно дала пощечину:
– Чего всполошился? Боишься за репутацию? Незапятнанный общественник! Активист! Не из-за меня же ты беспокоишься? Комната пустовать не будет, я ведь здесь не первая. И отец твой успокоится: приведешь жену без ребенка.
– И я у тебя далеко не первый. Сама призналась, что шестнадцати лет тобой овладел школьный физкультурник... Еще неизвестно, кто из нас кого «соблазнил». Так что нечего из себя строить... белую розу.
– Ну и животное! Пусти.
Она выхватила узел. Леонид приблизился еще на шаг, ежеминутно готовый вступиться. По-прежнему не глянув на него, Курзенков сунул руки в карманы брюк, отошел, и губы его опять насмешливо искривились.
«Физкультурник? В шестнадцать лет? » Этого еще не хватало. Леонид чувствовал себя так, словно мозг его окурили едким дымом. Ну да черт с ним – сейчас главное вырвать ее от скотины мужа.
Из перебранки «молодоженов» Леонид установил, что между ними немало произошло скандальных сцен, они частенько оскорбляли друг друга и уже не надеялись найти пути к примирению. Алла вскользь упрекнула его «длинноногой балеринкой». Курзенков в ответ уколол ее «горбылястым режиссером», причем насмешливо добавил: «Не просчитайся. Киношники надуют» – и еще раз предложил ей «подумать», «не рвать». В голосе Курзенкова проступали неискренние, актерские ноты, и уговаривал он Аллу скорее для «порядка» – может, для того, чтобы впоследствии иметь возможность обвинить ее в разрыве. Вероятно, разозлило его и то, что не получилось доброго, согласного расставанья, а, уходя, она, что называется, хлопнула дверью. Леонид подозревал, что и его персона вызывала у Ильи неприязнь, бешенство.
– Не ошибись в шмутках, – бросил Курзенков бывшей жене, явно желая ее оскорбить.
– По себе судишь.
Почему-то Леонида страшно обидела последняя фраза Курзенкова. Всякое напоминание о жульничестве он, хотя и косвенно, всегда принимал на свой счет. Дать этому лощеному собственнику, дамскому соблазнителю по морде? Леонид не посмотрел бы на то, что весть о драке могла дойти до института. Остановило другое – слово дал Алле «держать себя в рамках».
Курзенков рассчитанно-небрежным жестом достал из нагрудного кармана пиджака, висевшего на спинке стула, золотые часы на ремешке, справился со временем, точно ему это было важно.
«Регламент дает? – подумал Леонид. – Мол, быстрей сворачивайтесь. Или хвастает золотыми часами, хочет унизить Алку, вообще всех нас троих – что-де перед этим ваши шмутки! » Ишь сволочь, какие рыжие бочата!
Леонид никогда таких в руках не держал. Курзенков вновь развалился на тахте, взял книжку с пьесами. Читать, вероятно, он все-таки не мог и лишь делал вид, что читает. Иногда нет-нет и поглядывал поверх книжки на жену.
Она сложила свои вещи посредине комнаты, на видном месте. Этим она будто отвечала на слова мужа о «чужих шмутках». Леониду показалось, что глаза ее влажно блестели.
– По-моему, эти шлепанцы не ты покупала? – вдруг опустив книжку, едко, с вызовом сказал Курзенков и взглядом показал на положенные сверху комнатные туфельки, отороченные мехом.
– Разве не ты мне подарил их на день рождения?
Алла швырнула туфельки ему под ноги:
– На. Может... другой пригодятся.
Теперь Леонид изобразил на лице подчеркнуто-брезгливую гримасу. Курзенков рассмеялся, встал и положил шлепанцы обратно в кучу.
– То-то. Значит, и баловал? Носи – может, когда вспомнишь.
– Лучше для тебя, если не вспомню.
Все же шлепанцы Алла оставила. Леонид пожалел: надо бы кинуть в самоуверенную морду этому кулаку – пусть не думает, что можно всех купить. А то фасонит рыжими бочатами (золотые часы явно не давали ему покоя).
Очевидно, Алла собрала вещи: она перерыла все ящики шифоньера.
– Мой утюг у соседки, – сказала она Мусе. – Пойдем возьмем. Кстати прощусь.
Обе вышли. Может, Алла хотела скрыть слезы?
Стараясь сохранить подчеркнутое спокойствие, Леонид прислонился к стене, тоже закурил.
Курзенков вдруг насмешливо глянул ему в глаза.
– Я, кажется, тебе помешал летом? – сказал он вдруг весело, с нехорошей усмешкой, – Теперь она свободна, можешь занять мое место.
Леониду показалось, что ему дали пощечину. Он вспомнил слезы в голосе Аллы, когда она отвечала на оскорбление Курзенкова: «По себе судишь». Девок нет – стукнуться? Набить морду, чтобы долго ее от всех людей прятал. Жалко только – хай подымется. Не повредить бы чем Алке, – слово дал.
– Я не кот, – ответил он. – Это ты... перерожденец.
Ласковая, издевательская улыбка раздвинула толстые, чувственные губы Курзенкова, он сказал с наигранным добродушием:
– Что-то ты мне об этом раньше не говорил?
Это был намек на помощь, которую он оказал Леониду и Шаткову, устроив им временную работу на кондитерской фабрике.
– Я думаю, Курзенков, ты не так о нас заботился, как о собственном авторитете. Общественный капиталец зарабатываешь. Ты ведь... непогрешимый в глазах некоторых организаций. А нутро – вроде помойки. Вижу, какой «чистый»... женский эксплуататор.
Вероятно, слова его оскорбили Курзенкова. Леонид вполне допускал, что Курзенков помогал поступающим совершенно бескорыстно, и все-таки был рад «пронять» его.
– От подонков только и можно услышать такую благодарность, – с прекрасно выдержанным хладнокровием ответил Курзенков.
И вновь Леонида вдруг ослепила ярость, и он с трудом сдержал себя, чтобы не кинуться в драку.
Да, он был подонком, но это ему дорого стоило и упрекать этим – значило обидеть его больнее всего. Леонид, как все воры, считал подвигом свое возвращение к здоровой, трудовой жизни. Не признавать этого – значило отказать ему в человеческом достоинстве. Ага, Илья хочет ударить его в самое сердце? Но он не доставит ему этого удовольствия. И Леонид насмешливо отрезал!
– У таких стервецов, как ты, один конец. Их все бросают.
Курзенков высокомерно-снисходительно сложил губы. Он был старше Леонида, крупнее и едва ли боялся драки.
Скорее всего, он сам избегал скандала, хотел затушевать историю с Аллой, не выносить ее на институтский комитет комсомола. Осокин чувствовал, что первый Илья не кинется. Что бы ему, выродку, сделать? Чем насолить?
– Словом, давай действуй, – разыгрывая благодушие, совсем издевательски сказал Курзенков и, подняв упавшую на пол газету, свернул. – Отдаю тебе Алку. Ребята и в общежитии устраиваются. Или ты еще летом успел, и вам осталось только наладить прежние отношения?
Возможно, тут бы Леонид не удержался и бросился на Курзенкова. Он уже стиснул кулаки, что-то бессвязно зашептал побелевшими губами. Курзенков вдруг выпятил нижнюю челюсть, крепко расставил ноги, приготовясь его встретить.
Протяжно скрипнула дверь в коридорчике, послышался голос Аллы, и через минуту она с Мусей вернулась от соседки, неся утюг.
Леонид и Курзенков поспешно отвернулись друг от друга, и каждый постарался принять подчеркнуто-безразличную позу.
Больше задерживаться в квартире было нечего. Леониду вручили большой узел. Отморская взяла меньший, Муся Елина понесла утюг, картонку со шляпой.
– Прощай, – сказала Отморская бывшему сожителю и неловко, словно обессилев, повернулась к двери.
– Может, Аля, передумаешь? – опять спросил Курзенков. Голос его звучал холодно.
Она не ответила, первая вышла из комнаты. За ней последовала Муся.
Курзенков снял со спинки стула пиджак, надел, чтобы проводить и закрыть выходную дверь.
В полутемной передней Леонид, чтобы «оставить память», толкнул его узлом. Курзенков стукнулся спиной о стену. Леонид притиснул его и внезапно свободной рукой ловко отстегнул от лацкана его пиджака ремешок часов. В следующую секунду золотые часы оказались в его кулаке. Курзенков с силой оттолкнул Леонида; оба шепотом обменялись ругательствами. Хватись Илья часов – Осокин сумел бы сунуть их в угол, подбросить. Он сам не успел дать себе отчета, зачем украл. Очень уж хотелось досадить холеному «счастливчику».
На улице Леонид сунул часы в карман, оглянулся: их никто не преследовал. Алла шла торопливо, словно хотела убежать куда глаза глядят, и Муся явно от нее отставала.
– Алка, да что ты несешься? – взмолилась она.
Отморская не слышала.
Леонид тоже торопился и все отбивался в сторону: ему казалось, что часы стучат оглушительно, на всю улицу.
У трамвайной остановки Муся нагнала остановившуюся подругу.
– Так нельзя, Алка, я выбилась из сил... – запальчиво начала она и умолкла.
По щекам Отморской катились слезы, она никак не могла их сдержать, прикусила губу, отошла к забору. Пришлось пропустить один трамвай.
Леонид не знал, жалко ему Аллу или нет. Он с детства видел столько слез, что потерял к ним чувствительность. Разрыв ее с Ильей (муж он ей был или любовник – черт их поймет), новость с физкультурником вызвали у него полный ералаш в голове, а тут еще проклятые часы! Леонид то и дело беспокойно косился назад, на далекий двухэтажный кирпичный домик с обитым углом: не покажется ли оттуда разъяренный Илья? Теперь он его не боялся, потому что стоял у сточной решетки канализации и всегда успел бы незаметно спустить часы между ржавых прутьев. И все-таки скорей бы отсюда подальше. Не вовремя Алка раскисла. А в общем – молодец, выдержала, не осталась.
Когда сели в трамвай, подруги уединились на передней площадке прицепа, зашушукались; Алла стояла спиной к женщине-кондуктору, пряча красные глаза. Леонид охотно от них отделился: «Совсем заморочили бабы, лучше побыть одному».
Горе, конечно, у Алки, а кто виноват? Понятно, сейчас у нее камень на сердце, но ведь время все стирает... Как бы ему хотелось утешить ее, приласкать, ободрить! Теперь они будут жить в одном студенческом городке, в соседних корпусах.
От конечной остановки на пустыре до Гознака шли молча. Шесть часов назад в Замоскворечье отправлялись более оживленные. Под тяжестью узла Леонид вспотел, хотел пошутить, что у него «перегрелся мотор», и не стал: слишком у подруг был похоронный вид.
Проводив их до комнаты-цеха, Леонид сказал, что заглянет вечером, и ушел. Часы через карман жгли бедро, он все время ощущал, их тяжесть, гулкий стук маятника. Вот уж никогда ворованные вещи не мутили его совесть! Может, лишь в первые дни, когда становился на преступную дорожку. Леонида вновь потянуло остаться одному, и по уже сложившейся привычке он отправился бродить в Нескучный. Идя через лед, достал часы: золото замерцало в руке, бежала тоненькая стрелка, звонко тикал механизм. Он осторожно оглянулся: не видит кто? «Можно загнать, сотню монет за глаза дадут, чистыми. Ботинки разваливаются, купить бы новые. Хорошо бы за рюмочкой отдохнуть в ресторане от всей этой кутерьмы».
Леонид вдруг изо всей силы ударил часы о лед, они хрупнули, смялись и умолкли. Наступила громкая тишина. Он ударил еще раз. Поднял и зашвырнул далеко к тому берегу, в снег, покрывающий речной лед. Ему не столько было стыдно за то, что украл, сколько злость разбирала: опять не выдержал. Разве так расплачиваются? Конечно, для Ильи Курзенкова пропажа часов – чувствительный урон: собственник, «барин», пускай помучается. Его Леониду ни капли не было жалко. А попробует обвинить – он отопрется, и все. Докажи, предъяви улики. Злило его то, что все же отомстил он по– воровски, исподтишка, нанес удар тайком.
В одной чеховской повести Леонид вычитал, как интеллигент купеческого звания всю жизнь «выдавливал из себя раба». Вот так же, наверно, и ему еще придется годы и годы выдавливать из себя хама, Охнаря, блатняка. А сколько раз собирался жить по-новому! Тут еще Алка! Совсем освоился в институте, втянулся в занятия – и на тебе: весь покой к черту! Уж не «судьба» ли она его, как говорят в народе? Что Алка ему так въелась? Красота ослепила? Иль будущая слава (Леонид слепо верил в ее сценические лавры)? Или уж именно такой тип девушек властен над его сердцем? Если бы хоть не видел Алкины недостатки! Отлично видел – все равно они его не отталкивали.
Что его ожидает впереди? Будущее всегда смотрит на нас загадочной мордой сфинкса. Особенно в молодости, когда по венам бежит не кровь, а огонь и человек мечется, будто щепка в водовороте.
Выпавший недавно тонкий снежок хрупал под ногами на нечищеных дорожках. Звонко распевала синица занзибер – первая вестница весны, еще в мороз, в стужу, вьюгу извещающая все живое о тепле; самой синицы не было видно за холодными елями, замершими дубами, нависшими снежными кухтами. Зато рядом на одинокой березе Леонид разглядел безмолвную стайку удивительных птичек: небольших, белых, с черными плечиками. Откуда они? Как называются? Птички тут же вспорхнули, унеслись, и больше он таких никогда не видел в Нескучном.
– Дурак я, дурак, – прошептал Леонид, заметив, что сбился, забрел в снег. Он тряхнул кудрявой головой, выбрался на дорожку, обил с ботинок снег.
... Ни в этот день, ни в следующий ему не удалось увидеть Аллу Отморскую. Как выяснилось, ее переселили в Алексеевку, в общежитие рабфака.
XXXII
В конце февраля из Гознака совершилось «великое переселение народов» в только что отстроенный студенческий городок на Стромынке в Сокольниках. Новое громадное здание представляло из себя многоэтажный замкнутый четырехугольник, выкрашенный в желтый цвет, и показалось ребятам дворцом. Стены сияли нежнейшими колерами – от розового до салатного, двери блестели масляной краской, полы выглядели такими чистыми, что страшно было ступать, на окнах висели легкие занавесочки.
Осокин поселился в небольшой светлой комнате, в которой стояло всего четыре койки, застланные разноцветными, с каемкой, одеялами (это после шестисот в гознаковском цехе!). Возле каждой койки примостилась тумбочка, глаз ласкал стол для занятий, а из угла раскрыл свою раковину грифельно-черный репродуктор.
В общежитии имелся большой читальный зал, с журналами, шахматами, домино, столовая, на каждом этаже клокотал «титан», щедро оделяя студентов кипятком.
Через улицу, за высоким зеленым забором, тихо и важно гудели сосны громадного Сокольнического парка, ниже, в граните берегов, протекала мутная Яуза.
Вскоре после новоселья Шатков, живший на этом же втором этаже, но через три комнаты от Осокина, неожиданно пригласил его на свадьбу: оказывается, женился на «англичанке» Нелли. Вот это оторвал! Леонид только диву дался: ай да скромник, ай да молчун – исподтишка мешки рвет! Говоря по совести, его взяла зависть, что Ванька «обскакал» его. «Девчонка-то хорошая – серьезная».
– Где медовый месяц проведете? – смеясь, спросил он.
Шатков тоже засмеялся, указал пальцем вверх:
– На чердаке. По-студенчески.
В субботний вечер, получив стипендию, он устроил у себя пир. Со стороны жениха и невесты собрались только самые близкие друзья – больше комната не вмещала. На застеленном газетами столе блестели красным сургучом три поллитровки, две бутылки плодово-ягодной настойки (для нежного пола), стеклянные кувшины с пивом, несколько тарелок с закуской из столовой: саговой кашей и «силосом» – винегретом. Нарезанная крупными кусками, лежала ржавая каспийская сельдь невероятной солености, тонкая дешевая колбаса, известная среди студентов под названием «собачья радость». Стояла еще банка кабачковой икры и горой возвышался хлеб. Большинство закусок понанесли сами гости.
Молодожены сидели у окна. Им предоставили столько места, что они могли повернуться, не толкнув друг друга.
От головы Ивана одуряюще несло репейным маслом, белокурые волосы были тщательно расчесаны на пробор, но непокорная прядка все равно торчала, как плавник у ерша. На нем была модная зефировая рубаха, взятая напрокат у товарища. Нелли, розовая от волнения, как всегда, отличалась скромностью и полной хозяйственной непрактичностью: без помощи подруг она едва ли бы вовремя приготовила стол. Иногда в ее блестевших и немного растерянных глазах появлялось такое выражение, словно ей хотелось отойти в сторону и с книжкой в руках хоть немного отдохнуть от этого многолюдья и шума.
Сосед Шатков а по койке, длинный Женя Литошкин, смеясь, рассказал, как стащил из столовой две вилки. Новоиспеченный муж унес у какого-то зазевавшегося обедающего нож.
– Мой крестник теперь просидит до ночи, – сказал он. – Не выпустят из столовой, пока сам у кого-нибудь не сопрет прибор.
– Это. Ванька, его свадебный подарок тебе, – весело вставил Прокофий Рожнов – почетный гость. – Мы ему рюмочку оставим.
– Боюсь, если он меня встретит, то кулаком по морде поздравит.
Пили из разнокалиберных стаканов, кружек; кто ел вилкой, кто ложкой. Леонид – перочинным ножиком, да и тот приходилось одалживать соседям. Зато веселья было хоть отбавляй. Шутки фейерверком взлетали к потолку, смех не умолкал. Молодость, здоровье пенилось в каждом сильнее всяких винных градусов, все были очень веселы, полны самых радужных взглядов на будущее.
Подвыпивший Леонид затянул «козлетоном» украинскую шуточную песню:
Ой, що ж то за шум учинився —
То комар та й на муси оженився.
Гости подхватили. Невеста испуганно приложила палец к губам: «Что вы! Комендант придет. Не надо». Но Шатков, как глава семьи, разрешил:
– Отвечаю. Дуй. Только, понятно, не в полный голос.
И сам начал:
Мы дети тех, кто выступал
На белые отряды,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады.
Над столом, под матовой плоской тарелкой абажура, светила шестидесятисвечовая лампочка, в незанавешенное сверху окно смотрел черный зимний вечер. Гости сидели впритык друг к другу, тарелки через головы передавали тем, кто находился на дальних кроватях и принесенных стульях. Стало душно, открыли форточку, и холодный, пахнущий сырым снегом ветерок приятно потянул по головам.
Прокофий Рожнов рассказывал Леониду, сидевшему с ним рядом:
– Собираюсь и я жениться. Встретил хорошую девку: Софка. Рыженькая, глаза как у китаянки: во и с присыпкой! – он выставил большой палец левой руки, а из щепоти другой словно посолил его. На «воле» это считалось высшей похвалой. – Дочь партизана, уралочка. Целуется взасос.
– А как же твоя баронесса?
– Смылась куда-то. Нет и нет. Я наведался к ним в подвал на Сивцевом Вражке, открыла какая-то старушонка – божья перечница. «Переехали». Куда, мол? «Кто их знает». Может, в другой район Москвы, а может, и в другой город. Я так мекаю: ее маманя узнала о нашей любви и хай подняла: «С блатняком роман завела? Нашу голубую кровь позоришь? Он еще последнее украдет». Наверно, у них кое-какое золотишко затырено. Раз моя баронесса на свидание пришла с золотым кулоном на ажурной цепочке.
– Ну и как ты, Прошка? – с острым интересом спросил Леонид, – Не жалеешь о прошлой любви? К баронессе, я имею в виду.
– Что я, Достоевский, копаться в психологиях? Мало ли у меня разных баб было на «воле»? Может, у какой и пацан мой бегает. Всех вспоминать? Теперь полюбил Софку. Живет она с отчимом в Нижних Котлах. В общежитии встречаемся... Правда, ребята мешают. Секрет открою: скоро получаю комнату. Помнишь, ходили к Максиму Горькому, обещал посодействовать? Написал письмо в Моссовет, в апреле обещают ордер. Новоселье вместе со свадьбой справлять буду. Тогда позову тебя, спрыснем...
Он подмигнул.
– Можно?
В дверях стояли Алла Отморская и Муся Елина. Леонид покраснел. Это он пригласил их, как старых знакомых, зайти поздравить молодоженов..
– Садитесь, где сумеете, – поднялся Шатков со своего места. – Потчевать нечем, а гостям рады.
– Кто проголодается, пусть бежит в столовку. Там есть «коммерческие» бутерброды с селедкой.
– Мы со своим запасом, – сказала Муся и поставила на стол банку кабачковой икры.
Отморская подарила молодоженам небольшой фарфоровый чайничек для заварки. Шатков тут же налил в него пива я высосал.
– Из собственного!
– О, да вы буржуями становитесь! – воскликнула подруга молодой.
Большинство подарков гости съели: это были вино и закуска. Но за спиной молодоженов на подоконнике красовались две поднесенные книги и плоский утюг.
– Скоро можно раскулачивать. А что с утюгом будете делать?
– Найдем применение, – с важностью ответил Иван. – Буржуям хорошо: сцепятся – есть чем подраться: кочергой, не то статуем... работы Федота Шубина. А нам? Не общими же тетрадками? Глядишь, утюг и пригодится.
– Вот Нелли тебе «коровий зализ» и пригладит.
Комната была переполнена, всё же умудрились потесниться. Леонид уступил свой стул Алле, сам прилепился рядом, налил вновь прибывшим в чьи-то опорожненные стаканы плодово-ягодной. Подруги не отказывались, чокнулись с молодоженами.
– Горько! – закричал Леонид.
– Да уж не сладко будет, пока институт не кончим, – засмеялся Шатков и чмокнул серьезную, зардевшуюся жену в губы.
– Желаю вам через двадцать пять лет счастливо справить серебряную свадьбу, – подняв стакан, пожелала Муся. – А через пятьдесят – золотую.
– Мура все это! Им бы отдельный чуланчик. А то и тут, в общежитии, да простынкой отгородиться.
– Ничего. Зато, Ваня, при коммунизме детям скажешь: вам отдельной комнаты мало? А как же мы с мамой всю первую пятилетку под кроватью прожили?
– Об одном предупреждаю: не заводите сразу больше десяти ребят.
Опять все смеялись, а Нелли не знала, куда спрятать глаза.
– Шуточками зависть прикрываете? – воскликнул Шатков. – А я выбрасываю лозунг: следуйте нашему примеру – на трамвай и в загс. Кто следующий?
Веселье росло. Парни значительно поглядывали на девушек, те смущенно и загадочно опускали глаза. Задорное опьянение охватило Леонида. Он локоть к локтю, коленка к коленке сидел с Аллой Отморской, и она не отодвигалась. Впрочем, отодвинуться было и некуда.
«Все женятся, – думал он сейчас. – Один я остаюсь холостым».
Женился только Шатков, и в душе Леонид не одобрял его поспешности. Сперва надо получить диплом, – так решил он совсем недавно, видя, что с Аллой ничего не получилось. Но в сегодняшнем взъерошенном состоянии что-то заставляло его чувствовать себя бесприютным.
– Ой, жарко, – сказала Алла и слегка помахала рукой у горла. – Понакурили! Ужас.
– Да, жарко, – подтвердил Леонид, готовый соглашаться с ней во всем, – И открытая форточка не помогает. Хочешь, выйдем?
Она подумала, глянула на часики, надетые на полную руку.
– Пожалуй, давай.
Пришлось подниматься доброй половине гостей, иначе в тесноте нельзя было выбраться. Леонид стукался о чьи-то коленки, наступал на чьи-то ноги, извинялся улыбками, жал чьи-то руки. Вслед ему, Алле сыпались шуточки:
– Вы, не в загс торопитесь?
– Может, свидетели нужны?
– Громко не целуйтесь – комендант оштрафует!
ХХХIII
За дверью комнаты Леонид почувствовал, как действительно душно было на пиру у молодоженов.
Длиннейший прямой коридор утопал в полутьме, освещенный редкими, наполовину погашенными плафонами. По обеим сторонам, словно в гостинице, тянулись одинаковые двери с номерками. Было сравнительно тихо, как может быть тихо в громадном общежитии. Из комнат слышался приглушенный смех, говор: беспечное студенчество еще не угомонилось на ночь и, даже лежа в кровати, смеялось, переговаривалось о лекциях, рассказывало побасенки.
Там и сям по коридору гуляли парочки. Появлялись они с вечера, к ночи их становилось заметно больше; некоторые, словно статуи, до вторых петухов застывали где-нибудь в нише окна, в полутьме колонны. Каждая парочка сторонилась других парочек и вообще встречных, словно прокаженных.
– Как ты живешь, Аллочка? Я каждый день собираюсь в Алексеевку, навестить тебя. Все тогда захватили с Малого Фонарного?
– Все. Ах, знал бы ты, какой Илья мелочный! Вдруг явился на рабфак и стал требовать, чтобы я отдала его золотые часы. «Ты их взяла». Представляешь?
Хорошо, что они миновали плафон и шли в полутьме, Леонид вспыхнул, закашлялся. «Видал, как всякое гнусное дело выплывает? » Признаться, что это он украл часы и выбросил? Мужества бы у него хватило. А вдруг Алла отвернется? После как-нибудь расскажет.
От замешательства он вслух повторил свою недавнюю мысль:
– Ребята все женятся, один я холостой.
– И правильно делаешь, что не торопишься, – сказала Отморская. – Поверь моему опыту, Леня. Два раза я обожглась... Не желаю тебе испытать и сотой доли тех разочарований, которые испытала я.
Она ловко перевела разговор на то, какие спектакли видела, с какими артистами, несмотря на сопротивление Ильи, ей удалось познакомиться. Леониду было очень интересно все, что касалось ее жизни.
Влюбленные проявляют удивительное понимание того, что хочет сказать любимый человек, подхватывают его мысль на лету и развивают иногда успешнее, чем он сам. Леонид несколькими верными репликами подкупил Аллу, заставил говорить совсем доверительно.
Оказывается, за эти полгода она побывала во всех театрах столицы, отлично знала составы трупп и высказывала тонкие наблюдения над игрой знаменитостей. Чрезвычайно привлекало ее кино. На сцену пробиться почти невозможно: все места заняты заслуженными, перезаслуженными старухами со вставными челюстями, которые красятся, затягиваются в корсеты и все еще играют молодых, отпугивая своими свистящими голосами публику. Попасть на киносъемку значительно легче: в каждом фильме актеров занято намного больше, чем в любой пьесе.
– Кино – это дело! – подхватил Леонид.
Билеты в театр были дорогие, за последние два месяца он попал только в цирк; фильмы же не пропускал.
– Вот, например, «Человек из ресторана». Это, я тебе скажу, Аллочка, классная картина... хоть и немая. Здорово поставлено и очень правдиво! Конечно, ты права насчет кино.
– Я рада, что ты так смотришь, Леня. Я всегда ценила твой вкус. В искусстве много путей, и надо идти по тому, где поддержат друзья.
Отвечая Алле в лад, Леонид не забывал главного вопроса, который полгода не давал ему покоя: любила ли она Курзенкова? Почему сошлась с ним? Он только выжидал удобного случая, чтобы спросить. Пока его интересовало другое – более существенное и важное.
– Точно, – подхватил Леонид, словно только и думал о словах Аллы, но упрямо возвращая разговор к самой нужной, близкой теме. – Какие мы с Ванькой были друзья? Электросваркой не разрежешь, а появилась Нелька – и конец. И я его понимаю. В такие годы чуткая девушка становится самым близким другом. Рука об руку легче пробиться... особенно, если оба мечтают об искусстве.







