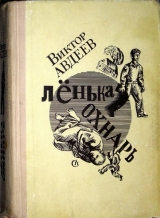
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 55 страниц)
– Пока неизвестно. Да я хочу до занятий на недельку съездить домой, в Оренбург... В общем, ребята, не огорчайтесь, на худой конец живописью можно заниматься где угодно.
Хотела этого Муся Елина или не хотела, но и во взгляде ее небольших серых глаз с подпухшими веками, и в выражении полных бледно-желтых щек, даже в льняной челочке проглядывало с трудом сдерживаемое самодовольство преуспевшего человека. Казалось, само ее сочувствие вызвано состраданием. «Жаль, что у вас способностей маловато, – словно бы говорил вид Муси. – Ничего, работайте. Авось подтянетесь». Во всяком случае, так ее слова восприняли неудачливые друзья. Шатков с несвойственной ему поспешностью простился с поэтессой и побежал наверх, коротко размахивая зажатой в руке папкой. Леонид задержался, преодолев смущение, спросил:
Значит, Аллочка выдержала. А говорили, будто по истории засыпалась?
– Был такой случай, – сказала Муся и то ли усмехнулась, то ли просто чуть передернула губами. – Она себя в тот день чувствовала нездоровой. Ей, ну... дали возможность пересдать. Словом, нашлись люди, помогли, и теперь Алка оформлена на театральное. Да, может, Леня, хочешь ее увидеть? Ночью она тоже уезжает. Домой, в Майкоп.
– Конечно. Я и провожать пойду.
– Там уж договаривайтесь сами.
Вместе с Мусей он поднялся на второй этаж, к знакомой и уже дорогой аудитории, по привычке остановился в коридоре у окна. Почему-то он всегда так, лицом ко двору, ожидал Отморскую. Может, для того, чтобы не видеть лукавых взглядов проходивших девушек?
Сколько раз он разглядывал отсюда серые грязно-желтые стены домов, обступивших большой заасфальтированный двор с чахлыми московскими деревцами, но никогда еще не волновался так, как сегодня. Леонид считал, что наступило испытание их любви с Аллочкой. Они разлучены злой судьбой. Весь день вчера – и в ЦК комсомола, и в столовой, и в Наркомпросе – его толкала и поддерживала не только забота о себе, желание выбиться в художники, а и мысль об Аллочке: не потерять бы ее. Потому что теперь каждый свой поступок, каждое действие он совершал не только для себя, но и для нее. Образ любящей, покорной Аллочки, целующей его за воротами чьего-то двора, делал его счастливым, утраивал силы. Как рано для них наступил тяжелый час.
Стоя спиной к аудитории, Леонид безошибочно уловил легчайший звук, с которым позади открылась дверь, и быстро повернулся. Он встретил лукавый взгляд Дины Злуникиной, которая значительно, с важностью, вскинув подбородок – талант! – счастливица! – пошла к выходу.
Леонид чуть покраснел, отвернулся к окну.
Прошло добрых десять минут – а для него чуть не час, – прежде чем Леонид вновь услышал звук открываемой двери, знакомые шаги. Несмотря на душный вечер, Алла была в зеленой шерстяной кофточке, которой он у нее никогда не видел, в пестрой шелковой косынке, повязанной низко, почти над бровями. Кофточка, в особенности низко повязанная косынка странно изменили ее лицо, даже фигуру, она показалась Леониду сильно повзрослевшей: баба, да и все.
Отморская улыбалась, как и прежде, смотрела нежно и чуть вопросительно, и все же Леонид не мог избавиться от ощущения, что перед ним совсем не та Аллочка, с которой он бродил по Чистым прудам, переулкам. В руках у нее была длинная бечевочка: казалось, она куда-то торопится и вышла на минуту.
– Поздравляю, – сказал он радостно, с затаенной где-то в зрачках тревогой вглядываясь в ее лицо, обеими руками пожимая ей руку. – А у меня вот сорвалось. Выясняем с Ванькой.
Последние слова он сказал, возможно, слишком небрежно.
– Я слышала.
– Домой в Майкоп?
Она ответила наклоном головы, стала играть бечевочкой.
– Вернешься победительницей. Твоя мечта исполнилась, стоишь у подмостков сцены... через несколько лет – артистка.
Ничего приятнее Леонид не мог ей сказать. Да он и подбирал лишь то, что больше всего пришлось бы ей по сердцу. Хотелось польстить? Или... немного заискивал? Алла не могла сдержать торжествующей улыбки.
– Это ты, Леня, перехватил. До ангажемента еще знаешь сколько? Сперва надо кончить рабфак, потом, возможно, институт, а уж после думать о сцене...
И было видно, Алла не сомневалась, что и успешно кончит ученье, и попадет на сцену, и широко прославится, завоюет своим талантом Москву, Россию, весь мир. Тот отблеск удачи, упоенного самолюбия, который светился в Дине Злуникиной, в Мусе Елиной, почудился Леониду и в каждой черточке лица Аллы. Видимо, достижение цели накладывает на всех одинаковый отпечаток. Произнося эти слова, Леонид главное высказывал ей глазами. Он спрашивал, помнит ли она переулок близ Чистых прудов, угол двора за воротами? Любит ли его, как и в тот вечер? Он останется ей верен навечно.
На какую-то минуту ему показалось, что из-за надвинутой на брови косынки проглянула прежняя Аллочка: он увидел ее побледневшее лицо, нежный-нежный взгляд, тянущиеся к нему губы. Вот-вот они станут так же близки, как и в тот незабываемый вечер. Но тут же Алла поправила косынку, застегнула кофту еще на одну верхнюю пуговицу, у горла, оглянулась на дверь аудитории. Опять перед ним была незнакомая баба. Что с нею? Торопится укладываться (долго ли уложить один чемодан? )? Или в мыслях она уже в Майкопе с дочкой, с матерью? Вот опять взгляд ее стал ускользать, она словно отодвинулась (между прочим, так себя Алла вела и в тот вечер, когда отказалась идти с ним в кино и, по ее словам, отправилась с Курзенковым на дом к актеру). А вдруг... дело в нем, в Леониде? Может, он слишком придирчив? Может, слишком уж болезненно ощутил свой провал?
– Вернешься, Аллочка, здесь в аудитории встретимся. Вот увидишь.
Он хотел заразить Аллу своей уверенностью, что восстановится на рабфаке, заниматься они будут в одном здании, и, следовательно, ничего не помешает им жениться. Сказать это он не решился. Мешало и другое: Алла совсем не интересовалась его делами.
– Когда у тебя поезд?
– В два сорок ночи.
– Я поеду провожать. Муся тоже катит в Оренбург и, наверно, не сможет?
Словно вспомнив о времени, Алла сверилась со своими часиками, вновь оглянулась на дверь. «На вокзале надо будет угостить, – подумал Леонид. – Ресторана мой кошелек не выдержит, тем более что рабфаковская стипендия накрылась. Придется взять бутылку наливки и колбасы».
– Спасибо, Ленечка. Стоит ли? Я ведь не одна еду, с подругой.
– Ну и что? Я твой чемодан донесу, да помогу и ей.
– Она возьмет извозчика: вещей много. Так что хорошо доедем, не беспокойся. – И как бы для убедительности пояснила: – Мне повезло, подруга до Армавира – весь путь вместе. Хорошо, верно?
– О! На извозчике! Как буржуйка. Ну, я где-нибудь сзади на рессорах прицеплюсь.
Зачем он это сказал? Ведь уже понял, что от него старались избавиться. Хотел за наигранной веселостью скрыть душевное смятение?
В памяти вдруг всплыли слова Муси Елиной: «Там уж договаривайтесь сами». Она-то знала, что это за «подруга»: Илья Курзенков. Если бы Алка поехала на вокзал действительно с подругой, разве бы он помешал? Барабан из ослиной кожи! Как он сразу не почувствовал, что его встретили будто чужака? Да нет – почувствовал! Видел: чтобы не глядеть в глаза, играет бечевочкой, готова сбежать. Просто не мог поверить. После таких поцелуев? Столько позволить, сколько позволила ему Алла, могла лишь женщина, готовая на многое. Будь у Леонида комната, Алла тогда принадлежала бы ему, он знал это безошибочно. Поэтому и смотрел на нее как на невесту.
Откуда этот поворот? Чем он проштрафился? Неужто вся причина в том, что не принят на рабфак? Как бы поступил в таком случае Ленька Охнарь? Плюнул бы девчонке в лицо, вывернул руки и заставил себя «любить». За измену воры расплачивались ударом ножа.
– Я пошутил, – сказал он как мог обыденнее. – Бечевочкой вещи увязываешь? Тонковата, пожалуй... Ну, счастливого. Отдохнуть хорошо с дочкой.
Он сам не помнил, как пожал Алле руку. Разгадала она его искусственное спокойствие? В ее взметнувшихся бровях ему почудилась растерянность, эта растерянность отдалась в голосе.
– Уходишь?
Повернуться, обнять, как тогда на Чистопрудном бульваре? Да разве это поможет? Конечно, Алла сама хотела, чтобы он «отчалил», и вопрос «Уходишь? » вырвался у нее непроизвольно. Может, тоже страдает... А, к черту! Леонид выжал улыбку, легонько, почти покровительственно махнул рукой и пошел из коридора, еще сам не зная, правильно поступил или зря не бросил в лицо, что понял ее обман.
Видимо, все в этом мире поклоняется успеху. Кому нужны неудачники? Самим-то себе они противны.
«Жениховская» аудитория опустела: на всю большую комнату осталось три матраца, сиротливо свернутые у стены, и от этого казалось, будто в ней чего-то не хватает.
Экая пустотища!
Значит, фраерская жизнь сложнее, чем он представлял? В ней все достается с бою? Пусть так. Но уж выходи на честную борьбу, какая у него когда-то была с Опанасом Бучмой на берегу Донца. Кинули тебя на лопатки? Сдавайся. Сдавайся. Зачем же прибегать к помощи кошелька, использовать знакомство с экзаменаторами, заманивать отдельной квартирой на Малом Фонарном?
Да, но вдруг Курзенков понравился Алке больше, чем он? Просто как мужик. Полюбился – и все. Солидней, образованней, может и талантливей. Значит, и Илье она позволяла все, что и ему, а то и... Чер-р-ртово колесо! Не везет ему в жизни. Здорово не везет. Судьба – проститутка!
... Совсем запоздно, когда зажгли электричество, в аудиторию в сопровождении коменданта вошел Краб. Скользнув взглядом по Осокину и Шаткову, словно это были какие-то предметы инвентаризации, директор, как в первое посещение, поинтересовался лишь побелкой стен, окраской дверного косяка, подоконника.
«Ничего у тебя не выйдет, – подумал Леонид. – Еще две ночи имеем право тут кемать».
Он видел, что и Шатков приготовился к отпору.
Директор повернулся к ним спиной, сказал коменданту:
– Распорядитесь послезавтра, когда никого здесь не останется, помыть пол. И хорошенько проветрите помещение. Расставьте кафедры, учебные столы.
Тонкий намек на толстое обстоятельство!
XV
На другой день друзья решили отнести свои вещи в общежитие к Прокофию Рожнову, на Старосадский. Им надо было продолжать хлопоты по восстановлению на рабфаке, бросать же в пустой аудитории чемодан Леонид не хотел: никто так не опасается за свои вещи, как жулики.
Перекинув пальто через плечо, он подхватил чемодан – и что-то защемило в его душе, защемило. Опять не принимала его хорошая жизнь, как и в ту далекую весну, когда он подрался в девятилетке, нахамил и трусливо бежал в колонию. Но теперь как будто и вины его нет. Обошли. Зато и он уже не опустит голову, не отступит и еще со всеми законными правами студента-рабфаковца вернется в эту аудиторию.
Народу в институтском общежитии прибавилось: студенты понемногу начали возвращаться с каникул, и две из трех свободных до этого коек обрели хозяев. Было и еще кое-что новое: по бокам длинного, закапанного чернилами стола выстроилось шесть обтянутых клеенкой стульев – видно, только что со склада или из магазина. Прокофий встретил друзей, как всегда, радушно, приветствуя, высоко поднял татуированную руку, весело, хриповато воскликнул:
– Чего, братва, долго не заходили? Я уж думал, может, остались без монеты, решили поохотиться за чужим кошельком и получили срок.
– Что ты, Проша, – сказал Леонид. – Разве мы на таких похожи?
Собирался разыскивать, выручать. Решил, если «отдыхают» в Таганке или в Бутырках, попрошу Максима Горького. Он добрый, заступится.
– Мы-то целы, и никто от наших рук не пострадал. Наоборот, сами пострадали: отняли надежду на рабфаковские билеты и выставили за дверь.
– То-то я смотрю, вы с «углом», – смеясь, кивнул Прокофий на осокинский чемодан.
– Попросить хочу: нельзя тебе его на время подкинуть?
– Если пустой – зачем он сдался? У меня свой такой под кроватью стоит. А если в нем что вкусное – оставляй. Чемодан сохраним – голову наотрез, – ну а насчет содержимого... У нас мыши.
Немолодой плешивый студент с толстыми бледными губами, – его, как помнил Осокин, звали Василий, – стал расспрашивать «художников», по каким предметам они провалились. Шатков начал было отвечать, но его перебил Рожнов:
– Ладно, Васька, оставь, все это мура. Головы с плеч не сняли? Дело есть.
– Какое дело? Тут, оказывается, ребята даже выдержали, а получили коленкой в тронное место.
– Не отбили ж? Садись, братва, стульев у нас теперь полно, и война с «антиподами» прекратилась. Вот послушайте-ка стишок, позавчера кончил.
Рожнов прочистил горло.
Вряд ли есть еще такой читатель.
Чтобы сам стихов не сочинял,
Только вряд ли пишут на почтамте,
Так, как я, средь сутолоки дня.
Не стряхнув с пальто поденки мусор,
По дороге бормоча стихи,
Тороплюсь я на свиданье с музой,
Хоть едва ль гожусь ей в женихи.
У меня – ни лиры, ни палитры,
Ни уюта, ни «пустынных волн».
Вдохновеньем пьяный, как с пол-литра,
Отыщу в толпе свободный стол,
Подойду, ссутулюсь кособоко, —
Ни к чему такая роскошь – стул.
И перо забегает собакой,
Натянув цепочку по листу.
[35]
Хорошо, что крепкие оковы
Нацепил догадливый почтамт, —
Удержу иначе никакого б
Ни перу бы, ни моим мечтам!
[36]
Восторженный жар заполнил грудь Леонида. Он гордился своим старшим другом. Как верно передал Рожнов тернистый путь в искусство полуграмотных самоучек!
По душе стихотворение пришлось и Шаткову. Притихли студенты в комнате. Прокофий Рожнов и сам не скрывал, что очень доволен.
– Ничего, братва? Законно написано? Ну а теперь вякайте, что с вами стряслось на рабфаке.
Друзья рассказали. Больше всех мытарствами неудачливых «художников» заинтересовался Василий Волнухин.
Так и не попали к заместителю наркома? – спросил он, поглаживая редкие волосы на плешивой голове. – Веселые дела. Революция прошла, и кое-кому захотелось пожить спокойно. На словах «товарищи», «демократия», «мы ваши слуги», а на поверку выходит: соблюдайте табель о рангах, «без доклада не входить», знай, сверчок, свой шесток?
– Это ты загнул, Васька, – презрительно и словно бы лениво усмехнулся лохматый, с косыми вьющимися бачками на длинном прыщавом лице, Яков Идашкин. – Не может же замнаркома всех принимать? Тут тебе не районный отдел образования: там десяток посетителей в день – уже много. Тут Народный комиссариат: доклады, заседания, совещания, руководство Академией педагогических наук, всеми учебными заведениями России. Шутка? То-то, кипяток. А потом как знать... Может, секретарша и не доложила?
– Не на том слове ударение делаешь, Яшка, – чуть не подпрыгнув на кровати, накинулся на него Волнухин. – Именно Народный комиссариат. Чуешь, чем слово пахнет? Это тебе не министр просвещения Российской империи... или гинденбурговской Германии. У нас, будь добр, обслуживай народ, не заслоняйся от него десятками дверей, томами докладов, резолюциями совещаний... Мы знаем, как Маяковский отбрил «Прозаседавшихся», – жалко, погиб безвременно. Раз ты замнаркома, поставлен на высокую должность, то исполняй ее по-советски. Чем выше гора, тем чище воздух – так должно быть? «Не доложили»! Сами ж секретаршам дают жару – мол, я занят, а вы пускаете разных мальков, и ого как вымуштруют! Конечно, из этих дамочек тоже есть отменные болонки, готовые на тень гавкать, Иная важнее начальника держится.
– Растечется замнаркома на мелочи, а кто государственные проблемы будет решать?
– Пускай и то и то делает. На ответственные посты надо ставить за умную голову, работоспособность, а не за то, что у начальства с пиджака пылинки стряхивает. Начальник должен идти к народу, а не прятаться от него. Луначарский в гражданскую войну принимал не только в Зимнем дворце, но и у себя на квартире в Манежном.
Студенты заспорили.
– Этого Краба я знаю, – сказал один из вернувшихся студентов. – Я поступал в РИИН, а он кончал. Вроде ничего был мужик. Правда, возле директора вертелся, старался завязать знакомство в Наркомпросе, с видными писателями, актерами... вообще, ходил важный. Выдвинули его высоко: рабфак-то вон какой! Надо учесть, ребята, на него здорово давят со всех сторон ответственные папы и мамы. Сосунок у них пищит какую-нибудь песенку, они уже: ах, талант, талант! И суют «вне конкурса». Вот Краб и сучит всеми клешнями. Ему, брат, тоже надо беречь свой панцирь, не то быстро проломят.
– Пока вот ребята остались за порогом, – вставил другой студент.
– Не вешай носа, братва, – сказал друзьям Рожнов. – В тюрьме и то нюни не распускали. Насчет ночевки сейчас устроим. В нашей комнате одна койка свободна. Калабин через неделю только приедет. Занимай ее, Ленька. Не возражаете, ребята? – обратился он к товарищам по общежитию. – Ну и порядок. А Ваньку приткнем пока у «антиподов», у них тоже есть свободные места. Завтра ж снова дуйте до замнаркома. Чего стесняться в своем отечестве? Чай, не обкрадывать его собираетесь.
Студенты охотно разрешили «художникам» временно поселиться у них в общежитии. Безусый голубоглазый Саша Слетов тут же отправился в соседнюю комнату договариваться с «антиподами».
– Вот это выручили! – обрадованно воскликнул Леонид, – Тогда мы больше не вернемся в аудиторию. Ладно?
– А где барахлишко твоего кореша?
– На мне, – скромно ответил Шатков. – Штаны, вот эта папка – это все, что завещал мне папа-фабрикант.
Все засмеялись.
Вернувшийся Саша сообщил, что в соседней комнате, у «антиподов», нашлось место и для Шаткова.
– Выходит, нам повезло? – сказал Леонид. – А комендант... по шее не наладит?
– Первые вы у нас, что ли, ночевщики? – успокоил его Рожнов. – Вон у Генки мать целую неделю жила. Приехала из Вятки, а с гостиницы взятки гладки. Комендант – мужик хороший, красный боец, генерала Духонина арестовывал. Вот если в карты будете дуться – отберет колоду.
В эту ночь товарищи впервые за многие дни спала на кроватях, под одеялами.
XVI
На следующий день с утра они вновь уже были в большом многоэтажном здании на Чистых прудах. Нарком попрежнему болел. Парни до половины третьего прождала в приемной того самого заместителя, к которому вчера им не удалось попасть. На этот раз вместе с ними сидело еще несколько человек.
Повторилась прежняя картина: появлялись сотрудники отделов и прямо проходили в кабинет. Холеная секретарша, сухо и дробно стуча каблуками, то скрывалась за высокой дверью, то возвращалась, снимала трубки с разных аппаратов, кого-то вызывала, с кем-то разговаривала. Торжественное оживление делового дня царило в солидной комнате.
Из людей, ожидавших у двери, на прием попало только двое – оба пожилые, с портфелями, видимо, приезжие. Затем секретарша громко, бесстрастным тоном объявила, что заместителя наркома вызвали в ЦК партии и он уехал. Осокина и Шаткова она совсем не хотела замечать.
– Опять не везет, – сказал Шатков, когда товарища вышли в коридор. – Кажись, не видать нам этого высокого начальника, как своей макушки.
– Не дрейфь, – не совсем уверенно ответил Осокин, – Попадем. В дверь не пустят, в окно влезем.
– Время идет, толку никакого. Не опоздают ли они с этой волынкой на рабфак? Этак, глядишь, скоро и занятия начнутся.
Когда на следующий день друзья явились в Наркомпрос ровно к девяти утра, вместе со служащими, как на работу, лицо красивой секретарши не дрогнуло, не изменилось. Только чуть удивленно приподнялись тонкие, подбритые брови, точно хотели сказать: «В такую рань? Однако вы настойчивые». Выражение мрачных, осунувшихся лиц Осокина и Шаткова говорило о том, что они скорее готовы помереть, чем отступить. Оба в гробовом молчании заняли стулья у массивной двери. Сегодня они наконец первые. Что бы там ни случилось, пусть весь день прождут, без обеда останутся, а прорвутся к заместителю наркома. Придется этой расфуфыренной дамочке о них доложить – такая обязанность.
Звонил телефон, секретарша отвечала, разбирала папки, бумаги, затем принималась подтачивать ногти напильничком, вынутым из красивой сафьяновой коробочки, куда-то надолго уходила. Леонид даже проникся к ней чувством, похожим на уважение: «Вот, стерва, какая выдержанная. Интересно, в самом деле, как она понимает свои обязанности? Ограждать покой начальства? Эх, наверно, и ненавидит она меня с Ванькой! Прицепились, мол, два нахала... И не отцепимся! »
Около одиннадцати появился еще один посетитель – лысый, коренастый, в туфлях с властным скрипом. «Свой, – решил Леонид. – Из козырной масти».
– Дмитрий Никодимыч у себя? – спросил он, проходя животом вперед и берясь за сияющую ручку двери.
– Его сегодня не будет, – учтиво, даже как бы сожалея, ответила секретарша.
– Совсем?
– Он в Совнаркоме.
Оба друга вскочили со стульев. Леонид вспомнил, что и по телефону секретарша кому-то отвечала: «Сегодня – нет. Завтра».
Что же вы нам раньше не сказали? – спросил Шатков, с трудом сдерживая возмущение.
– Разве вы меня спросили?
Сколько надменности, вежливой издевки прозвучало в ее голосе!
Это действительно была правда. Секретарша метко рассчитала свой удар.
Парни в полной растерянности покинули приемную. Говорить не хотелось: когда тебе ловко подставили ножку и растянули на полу, чего попусту языками молоть?
Идя по длинному коридору, Леонид машинально читал попадавшиеся таблички. На обитой черной клеенкой двери этого же второго этажа золотыми буквами значилось: «Член коллегии Наркомпроса Крупская Н. К. ».
Он остановился.
– А что, Вань, не зайти ли? Вдруг тут о нас доложат?.. Вообще хоть одним глазком бы посмотреть.
– Беспокоить... – заколебался тот.
По его виду Леонид безошибочно определил, что и Ваньке очень хотелось бы увидеть Крупскую. Кто знает, представится ли когда возможность? Старенькая, на седьмой десяток пошло.
– Да мы всего на минутку.
– Брось, Ленька. Этак знаешь сколько народу будет тут полы гранить?
– А что зазорного? Такой человек. И мы ведь не ахалай-махалай? Поступающие. Конфликт разбираем.
И Леонид потянул на себя дверь.
В небольшой приемной с высоким окном печатала на машинке немолодая женщина в скромной кофточке, с гладко зачесанными волосами. Она оказалась секретаршей и спросила, по какому делу товарищи хотят видеть Надежду Константиновну Крупскую.
Парни вдруг оробели. Леонид поплел какую-то околесицу, что оба они воспитанники трудовой колонии, тянутся к живописи и вот приехали в Москву «пробиться в художники».
– Очень хорошо, – перебила их секретарша. – Ну, а сюда-то, к Надежде Константиновне, вы по какому вопросу?
– Сюда?..
Объяснить это Леониду оказалось очень трудно. Вся его смелость осталась за порогом. Он сам удивился: казалось, не было силы, какой бы он испугался, – прокуроров водил за нос, вступал в драку с милиционерами, – а тут неожиданно вспотел и не мог растолковать, чего именно им надо.
Сзади его за пиджак дернул Шатков: мол, давай кончай, говорил – нечего лезть.
– Вам, ребята, жить негде? – расспрашивала секретарша. – Или адрес какой нужен?
– Да нет. Мы-то, собственно... конфликт у нас.
– Дверью ошиблись, – решительно сказал Шатков и опять дернул Леонида за пиджак: дескать, чего растопырился.
Начавший уже было объяснять Леонид, не оборачиваясь, ударил кулаком по руке Шаткова. Шатков дернул его сильнее, Леонид чуть покачнулся. Он понял, что Ванька не даст ему говорить, и в душе одобрил его. Он уже собирался извиниться перед секретаршей и уйти, когда сзади раздался негромкий, спокойный голос:
– Что тут такое?
Держась за большую медную ручку, в открытой двери кабинета стояла седая, немного сутулая женщина в черном шерстяном длинном сарафане, серой блузке и смотрела на парней спокойными, чуть выпуклыми глазами. Видимо, она стояла уже несколько минут. Тонкие губы ее не улыбались, но в уголках их таилось что-то теплое.
Друзья замерли: слишком много видели они портретов Крупской, чтобы не узнать ее.
Секретарша вышла из-за стола, мягко развела руками:
– Чего эти друзья хотят, Надежда Константиновна, сама еще не пойму. Оба воспитанники трудколонии, какой-то конфликт у них. Может, послать в деткомиссию к Семашке?
– Вы кого хотели видеть? – спросила Крупская у парней.
– Вас.
Это вырвалось у Леонида мгновенно. Надежда Константиновна на секунду задержала на нем взгляд. Неторопливо осведомилась у секретарши, дозвонилась ли она до ректора университета. Парни переминались у стола, не зная, что делать. Может, действительно пора уйти? Крупскую увидели. А что все-таки, если рассказать ей о конфликте с Крабом? Удобно ли загружать такой мурой?
Выслушав секретаршу, Надежда Константиновна вдруг кивнула им, негромко пригласила:
– Заходите.
Они обрадованно переглянулись, словно не веря ушам.
– Идите, идите, – поощрила их секретарша.
И тогда, поспешно поправив волосы, одернув рубахи, «художники» вступили на зеленую, с красной каймой дорожку кабинета.
Потолки в кабинете были высокие, из резного дуба, два прямоугольных окна освещали стены. Стол покрывало синее сукно, с двух сторон его деловито обступили стулья. Небольшие бронзовые часы в углу на подставке, сияя маятником, неслышно отсчитывали время.
– Садитесь, молодые люди, – сказала Крупская, опустившись в зеленое плюшевое кресло. – Что скажете? С кем у вас конфликт?
Леонид во все глаза смотрел на Крупскую, стараясь запомнить каждую характерную морщинку ее одутловатого, желтовато-загорелого лица, с опущенными концами губ, неторопливые движения небольших сухих рук. Странно: та робость, которая овладела им в приемной, теперь, когда он сидел перед Надеждой Константиновной, не только не увеличилась, а как будто пропала. Что было тому причиной? Само ее имя? Приветливый, терпеливый взгляд? Спокойное, поощряющее внимание, с которым она слушала?
Парней потянуло выложить ей всю душу. Сбиваясь, повторяя некоторые слова по два раза, Леонид рассказал о том, что вот они с товарищем не приняты на рабфак, хотя и выдержали испытания. Сообщив о том, что они воспитанники трудколонии, он вдруг покраснел. Включившийся в разговор Шатков вскользь упомянул об их мытарствах в Наркомпросе, о любви к живописи, о мечте выбиться в художники.
– И вы решили сразу идти к наркому? – почти неприметно улыбнувшись глазами, спросила Крупская и поглядела сперва на одного парня, затем на другого. – Не меньше? Почему же вы не обратились в городской отдел народного образования? Это их прямое дело – разбирать подобные конфликты.
Друзья удивленно переглянулись.
– Мы этого не знали.
– Надо было узнать.
От сознания своей наивности, глупости и Осокин и Шатков не могли сдержать улыбку, точно это доставило им удовольствие.
Небось вы и в колонии не ходили с каждой мелочью к заведующему? На то были старшие дежурные, воспитатели. Пора приучаться к дисциплине.
Говорила Крупская по-прежнему негромко, изредка легким движением головы подчеркивая те слова, которые хотела выделить. Парни слушали с видом учеников.
– Вы, значит, хотите... вернее, добиваетесь, чтобы вас зачислили на рабфак искусств? А какие у вас для этого основания? Чем вы можете доказать, что директор поступил с вами несправедливо?
– Да ведь мы... – начал было Леонид, но Шатков опять, как и в приемной, дернул его за пиджак. Осокин покраснел и замолчал.
– Инциденты, подобные вашему, мы не разбираем, – неторопливо продолжала Крупская и сложила перед собой на письменном столе руки, – Раз на рабфаке конкурс, то приемочная комиссия, директор вправе производить отбор. Кто лучше выдержал, тот и поступает. Думаю, что тут и нарком вам не поможет. Едва ли он согласится вмешиваться в распоряжения...
– Выходит, пускай Краб самовольничает как хочет, – опять не утерпел Леонид. – Нам передавали: на ЛИТО по блату «папиных деток» берут, а, наверно, способных ребят...
– За словом в карман вы не лезете, молодой человек, – строго, однако не повышая голоса, перебила Крупская. – Наверно, и с директором так себя держали? Вот вы говорите, что Краб принимает «по блату». Обвинение серьезное. А доказательства у вас есть? Вы можете назвать фамилии этих «папенькиных деток»?
Зазвонил один из настольных телефонов. Надежда Константиновна сняла трубку, стала кому-то отвечать.
На стене, как раз над ее головой, висел большой портрет Ленина. Леонид засмотрелся на него, перевел взгляд на Крупскую. Эта небольшая старая женщина с мешками под глазами, с манерами, исполненными скромности и достоинства, много лет была верной подругой в трудной жизни вождя, скиталась с ним в эмиграции, разделяла суровые лишения сибирской ссылки.
– Вот так-то, – сказала Надежда Константиновна, возвращаясь к разговору с ребятами. – Вам, воспитанникам исправительных учреждений, не след предъявлять к нам особых претензий. Где, в какой стране вчерашним правонарушителям открывают путь в высшие учебные заведения да еще берут на содержание казны? Ведь что получается? Вам не мирволят, не делают скидку на «сиротство» – вы в амбицию! Вы уже взрослые, гордитесь тем, что пользуетесь полными правами гражданства. Поэтому экзамены, конкурс держите со всеми наравне. Льготы у нас даются только участникам гражданской войны, ударникам производства... У вас всё еще впереди: подождите год – возможно, в будущий прием сумеете пройти и по конкурсу.
Вновь зазвонил телефон. Крупская сняла трубку.
Леонид уже давно жалел, что затеял эту «тяжбу». Ему вдруг стало очень совестно: правда глаза колет. «Вон как нашего брата в отделку берут, – мелькнуло у него. – Беспризорник! Урка! Подумаешь, действительно, цаца». Сколько они с Ванькой времени отняли у Надежды Константиновны (да еще, кажется, зря!). И как она терпеливо все им объяснила. Прибаливает, говорят... Спасибо, что увидели.
Он уже хотел скорей уйти. Перемигнулся с Шатковым. Друзья встали.
– Что же вы теперь думаете делать? – спросила Крупская, кладя трубку. – Где жить собираетесь?
– Не знаем пока, – ответил Шатков. – Может, на какие курсы попадем. Нет, тогда на завод. Мой приятель слесарь, я токарь по металлу. Назад возвращаться не собираемся. Тут музеи, Третьяковская галерея, лучшие советские художники. Есть у кого поучиться.
Очень уж вы, молодые люди, самостоятельные и... бедовые, – покачала Крупская головой. – Это в старые времена дворянские сынки ехали в столицу служить в гвардию, делать карьеру, прожигать папенькины имения. Сейчас у нас трудно найти областной центр, в котором не было бы вузов, художников. Есть где и у кого получить знания, мастерство. Другое дело: экзамены везде закончились, и у вас пропадает учебный год. Это плохо. – Надежда Константиновна постучала пальцами по столу, о чем-то думая, – Это плохо. – Она подняла седую голову с жидким пучком волос, собранных на затылке, посмотрела очень серьезно. – И вот тут я вам постараюсь помочь.
Крупская нажала кнопку. Вошла секретарша.
– He помните, Вера, институт иностранных языков у нас еще не укомплектован?
– Набор, по-моему, не прекращен. Узнать?







