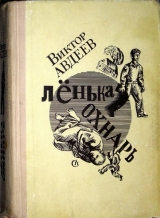
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 55 страниц)
И спрыгнул обратно на перрон.
Напрягаясь всем телом, Охнарь вскочил на диванчик, вскинул чемодан на подоконник, но тут его дернул за ногу длинноусый военный в зеленой венгерке. Оскалив зубы, Ленька взмахнул финкой, но военный схватил его за руку. Последним усилием Охнарь столкнул чемодан на перрон и услышал, как он грохнулся на асфальт. Сам выпрыгнуть оголец не успел. В полу его тужурки вцепился подбежавший контролер. Охнаря стащили с лавки, повалили. Он кусался, бил ногами. Борьба стала неравной, и взрослые крепко придавили подростка к полу, отняли нож.
– Попался, звереныш, —тяжело дыша, проговорил контролер, потирая опухшую от удара щеку,– отбегался теперь по воле!
Из дежурки подоспели два стрелка. Охнарю завернули руки за спину и повели в ТОГПУ. Пассажирка в беличьей полудохе смотрела на огольца с тем же выражением беспомощности и ужаса в расширенных зрачках. Поравнявшись с ней, Охнарь внезапно озорно подмигнул, улыбнулся, обнажив белые, чистые зубы.
– Будем знакомы, мадама! Не забывай!
Молоденький стрелок усмехнулся и покачал головой.
В двери Охнарю пришлось посторониться. Длинноусый вносил украденный чемодан: один угол его был ободран.
– Нашелся? – обрадованно спросил его старенький заспанный пассажир.
– Под окном валялся, – сдержанно сообщил военный в зеленой венгерке. – Жалко, что второго воришки след простыл. Видно, не стал дожидаться добычи.
Молоденький стрелок, подталкивая Охнаря вперед, незлобиво сказал:
– Зря старался.
Ленька насупился и ничего не ответил.
Днем его отвезли в тюрьму.
II
В начале июня 1926 года в областном городе Комиссия по делам несовершеннолетних судила Охнаря. Он вел себя развязно, пытался острить, попросил у милиционера папироску и всячески старался показать, что он ухарь, «отпетый». Комиссия вынесла решение направить его в трудовую детскую колонию.
– Только будет ли из этого прок, – устало вздохнула инспектор-педолог, когда охранник вывел огольца и поправила волосы под красной шелковой косынкой.– Парнишка исколесил всю Россию, фактически три года на улице, лишь зимовал в ночлежках Украины, Азербайджана, Крыма. Приводам в милицию счета нет и решетку понюхал – две судимости. Очень уж испорчен. Да и характерец – видите. Все бравирует!
– Попробуем поварить его в трудовом котле,– сказал один из членов комиссии, старый машинист – железнодорожник.– Что ж с ним делать? Как социально опасного высылать на Север? Вроде жалко. Может, еще человеком станет.
Охнаря под конвоем отправили из областного центра.
Несколько дней спустя из колонии в городок за продуктами пришла подвода. Сторож Омельян, бровастый, худой, черноусый, в синих заношенных шароварах, молча показал освобожденному из заключения Охнарю место между полосатым мешком с крупой и железным бочонком постного масла.
– Залазь.
Обратно выехали под вечер. Огромное медное солнце садилось за лесом, теплые длинные тени устилали песчаную дорогу. Телегу потряхивало на корневищах, под сумрачным сводом сосновых ветвей и дубняка глуховато отдавался цокот копыт.
Сторож Омельян, согнувшись на передке, курил цигарку и равнодушно подгонял кнутиком гладкую пристяжную. Охнарь сидел на грядушке, посвистывал и болтал спущенными ногами. Ему нравилась эта предвечерняя лесная тишина, одинокое постукивание дятла по стволу, сгущенный полумрак чащи с апельсиновыми пятнами солнечных лучей, нравилось покачиваться в телеге, вдыхать запах дегтя, хвои и папоротника, цеплявшегося за ободранные желтые ботинки. А главное, было хорошо, что открутился от тюрьмы.
В ночлежках и детдомах Охнарь бывал не раз, а вот в колонии не приходилось. На улице, или, как беспризорники говорят, на «воле», он слышал, что ребят там посылают косить сено, рыть картошку. Чтобы проверить, так ли это, он повернулся к подводчику.
– Скажи-ка, папаша, чем у вас в богадельне занимаются?
– А работают, —равнодушно ответил сторож.
– Ага. Значит, есть еще дураки на свете?
– А значит, есть.
– Интересуюсь поглядеть.
В самом деле, почему бы ему, Охнарю, и не поболтаться в колонии? За тюремными решетками сидел и то не испугался. Он хорошенько отдохнет после месячного заключения, а там прихватит с собой то, что плохо лежит, и ищи мышь в жите.
За лесом потянулась степь. Потом переехали деревянный мост через Донец, миновали баштаны, большой белый хутор с колокольней, усыпанной галками, с кудрявыми серебристыми вербами, колодезными журавлями. Заря погасла, но облака над горизонтом долго еще переливались разными цветами, словно их то и дело перекрашивал невидимый художник.
В колонию приехали поздними сумерками. На небе, еще светлом, но уже подернутом ночной мутью, проступили неясные звезды. Миновав небольшую черную аллею из молодых подстриженных акаций, подвода остановилась среди неогороженного двора, перед двухэтажным кирпичным домом.
Охнарь спрыгнул на землю, сделал несколько шагов, разминая затекшие ноги. Сторож буркнул, не подымая головы:
– Ступай туда.
Ткнул ореховым кнутовищем на здание и стал распрягать коней.
Ленька огляделся.
Часового нигде не было видно. Впереди щетинился лес, тускло освещенный низким красным месяцем. В воздухе чувствовалась сырость: то ли выпала обильная роса, то ли невдалеке текла речка. У опушки смутно выделялись какие-то постройки; оттуда несло навозом. Где-то далеко, наверно на болоте, глухо и одиноко ухала выпь. Открытые окна двухэтажного дома глядели темными немыми провалами; решеток на них не было. Только у застекленной двери веранды, на каменных ступенях, расстилался длинный желтый платок света.
Не торопясь Охнарь достал кисет с махоркой, – по дороге он ловко вытянул его из кармана сторожа,– свернул козью ножку.
– Ну и номер, чтоб я помер, – вслух удивился он. – Все настежь, никто не смотрит. Хоть обтыривай и срывайся.
Он пожал плечами, медленно обошел вокруг дома. По пути так, смеху ради, опрокинул кадку с водой, подставленную под желоб, сорвал горсть настурций с клумбы, понюхал и выбросил. Затем поднялся на ступеньки крыльца, ударом ноги распахнул дверь.
На застекленной веранде, за четырьмя длинными столами, ужинало с полсотни ребят и девочек. Перед каждым стояла кружка с молоком, на тарелках горой были навалены ломти хлеба. Под потолком блестел светлячок жестяной лампы. На краю скамейки сидел толстый полосатый кот и, шевеля усами, принюхивался к запаху еды.
Охнарь остановился посреди столовой – во рту цигарка, руки в карманах.
– Где тут дикобраз? – спросил он и ухарски сбил на затылок кепку.
(Так в бакинской ночлежке, где прошлый год зимовал Охнарь, огольцы называли воспитателей.)
– В чем дело? – отозвался коренастый, широкогрудый человек в поношенной солдатской гимнастерке. Он сидел у стены под свернутым пурпуровым знаменем, как бы возглавляя все столы. На противоположном конце сидела женщина-воспитательница.
Охнарь свысока и насмешливо прищурился. Он будто не расслышал ответа.
– Занимательная у вас тут местность, – сказал он и шумно высморкался посреди столовой.
Человек в солдатской гимнастерке спокойно встал с табуретки.
– Я воспитатель. Зовут меня Тарас Михалыч Колодяжный. Ты новый колонист?
Охнарь круто повернулся к нему и сделал вид, будто только что его заметил.
– Ах, так это ты? А это я. – Он ткнул, себя пальцем в грудь.– Крест да пуговица, хрен да луковица.
Охнарь поклонился с манерностью клоуна и неожиданно подмигнул колонистам. Грязные каштановые волосы кольцами падали нашего лоб, верхняя приподнятая губа придавала наивное выражение дерзкому лицу. На вид огольцу было лет четырнадцать; довольно плечистый, с выпуклой грудью, он, однако, совсем не удался ростом.
Ребята перестали есть, некоторые и рот разинули. А Охнарь, чувствуя себя в центре внимания, уселся на свободный табурет и, раскачиваясь на нем, с показной небрежностью объявил, что его направили в эту богадельню «покурортиться».
Желваки вспухли на широких скулах воспитателя, небольшие, с ледком, серые глаза пристально скользнули по Охнарю, словно оценивая его. Потом воспитатель слегка наклонил гладко остриженную голову и сказал хладнокровно:
– Рады новому товарищу.
Он спросил, благополучно ли они доехали с Омельяном, был ли Ленька раньше в приютах, и как бы вскользь полюбопытствовал, сидел ли он в тюрьме. Затем предложил ужинать.
Оголец, все время скучающе глядевший воспитателю в рот, сразу оживился.
– Лады, – сказал он весело. – От шамовки я никогда не отказывался.
Колодяжный выразил надежду, что они уживутся, станут друзьями и задал новый вопрос:
– Где родился?
– Против неба на земле.
Тарас Михайлович сделал вид, что занят катанием хлебного шарика.
– На воле давно?
– С сотворения мира.
Охнарь явно рисовался: некоторые ответы его казались заученными.
– Сколько тебе лет?
– Откуда я знаю? У кукушки спроси, она всем отвечает.
Наступила пауза.
– Отец, мать далеко?
– На том свете богу райские яблоки околачивают.. Батька как ушел с Красной гвардией, так и до свидания, а матка у немцев в комендатуре пропала.
– Учился?
– Натурально, – и оголец сделал красноречивый жест двумя пальцами, точно опускал их в чужой карман.
Колодяжный откинулся на спинку стула.
– Небось на вокзалах, на рынках тебя считали просто... образованным человеком? Ну, а как тебя зовут?
– Охнарь... В общем, Ленька Осокин.
Ребята и девочки – все в белых полотняных костюмах – смотрели на него с любопытством. Многие едва сдерживали смех. Даже Колодяжный слегка улыбался в красноватую бородку, и холодные глаза его светились ласковой усмешкой.
Он продолжал беседовать с Охнарем, а тот, уплетая ужин, рассказывал о корешах, о «воле» и отчаянно «вертел колесо[22]». Жизнь свою он помнил слабо, а врал о ней так часто, что совсем все перепутал и сам теперь был не в состоянии отличить, где вымысел, а где правда.
Допив молоко, Охнарь рыгнул.
– Порядок, – сказал он удовлетворенно, гладя себя ладонью по животу. – Теперь бы вздремнуть, и дело в коробочке, – и вопросительно поднял глаза на воспитателя.
– Сейчас тебе, Леонид, покажут, где спальня. Значит, жить теперь будем вместе, начнем работать, учиться. У нас есть свой струнный оркестр, хор, драмкружок: мы собираемся спектакль поставить, пригласить селян из Нехаевки, с хуторов. Можешь принять участие. Советую тебе для начала всем старшим говорить «вы». Ладно?
Охнарь передернул плечом.
– Могу и это: подлец буду. Я ведь все умею. «Вы»! Жалко, что ли? «Вы»!
– Да ты, оказывается, сообразительный, – с легкой насмешкой сказал Колодяжный. – Ну добре, спокойной ночи.
Он поднялся, показывая, что ужин окончен.
К Охнарю подошла воспитательница Ганна Петровна Дзюба, высокая молодая женщина с жирными, коротко подстриженными волосами. Щеки у нее были толстые, руки белые, крупные, с тщательно обрезанными ногтями, на больших ногах – щеголевато начищенные сапоги, блузка по-мужски подпоясана ремнем.
– Баню мы летом не топим, – сказала она звучным, но мягким голосом. – Придется тебе, хлопец, нынче переночевать немытым. Слишком поздно вы с Омельяном приехали из города. А завтра дадим тебе мочалку, мыло и отскребешь на речке всю грязь.
Краснощекий колонист, дежуривший в этот день по зданию, улыбаясь, показал Охнарю палату и кровать. От матраца пахло свежим сеном, душистым полынком, простыня была свежая и белая, подушка пухло взбита.
Охнарь одобрительно хмыкнул, разделся, бросив одежду на пол. Сладко жмурясь, он вытянулся под коричневым байковым одеялом. И ужин и кровать он принял с таким видом, словно в колонии все обязаны были за ним ухаживать.
III
Ранним сизым утром Охнаря разбудила голосистая медь колокольчика. Приоткрыв глаза, он увидел перед собой широкие скулы и красноватую бородку воспитателя.
– Вставай, Леонид. На работу.
– Лады, – буркнул Охнарь сонно, вновь закрыл глаза и натянул на голову одеяло.
Однако задремать ему не удалось. Звонок вторично загремел, точно рассыпался над самый ухом: с таким захлебывающимся лаем иногда набрасываются собаки.
Охнарь высунул из-под одеяла кончик носа, тяжело, искоса взглянул на воспитателя. Что за дурацкие порядки? Почему ему не дают отдохнуть?
– Слышь! Сыпь отсюда, – попросил он тихо и с угрозой.
Но Тарас Михайлович сказал, что сделать это ему никак невозможно, в колонии такое правило: подыматься всем в одно время. И потянул с огольца одеяло.
Охнарь поискал глазами, чем бы стукнуть навязчивого дикобраза, ничего не нашел, подумал и сел в кровати.
– Встаю, – сказал он сердито. – Закрой за собой дверь.
Колодяжный спокойно вышел.
Моргая слипающимися глазами, Охнарь проследил, как за воспитателем открылась дверь, и тут только заметил, что в палате совсем светло. Окно во двор было распахнуто, в пего свежей струей вливалась прохлада раннего июньского утра. Пахло тополевой листвой, парным навозом, легкой сыростью. Из чащи голубого росистого леса неслись чистые переливы малиновки.
В палате не было никого. Три соседские койки стояли, опрятно застланные такими же, как у него, байковыми одеялами, пол был подметен и посыпан свежей травой. На одной из кроватей клубком свернулся большой полосатый кот, чутко прядая во сне ухом.
«На работу ушились, – сообразил Охнарь. – Ну и коза им хозяин, а я им не Ванька».
Он вновь повалился на подушку и закутался в одеяла
В ночлежке Охнарь привык дрыхнуть до полного отупения. Продрав глаза, он вскакивал, что есть духу несся в кухню, орал на повара, что он «сожрал» его порцию, требовал завтрак и грозил разнести плиту. Здесь, в колонии, он собирался «отрастить пузо» и вовсе не думает менять свои правила. Он не рыжий – вставать когда еще не проснулись мухи.
И Охнарь плотно смежил глаза.
Внезапно он навострил ухо: в столовой позвякивали ложки, тарелки, оттуда тянуло вкусным запахом горячего варева. Охнарь ощутил сильный голод, но вставать ему все же было лень. Чтобы не слышать соблазнительных звуков и запахов, он накрыл голову подушкой, но и из этого ничего не вышло.
«Одеваться или нет?»
Минуты две он еще ерзал, ворочался, наконец не вытерпел, вскочил и торопливо стал натягивать штаны. Вспугнутый кот подпрыгнул на кровати и распушил хвост, словно собираясь защищаться.
Когда Ленька влетел в столовую, колонисты доедали саламату с коровьим маслом.
– С добрым утром, – сказал воспитатель.
– Ладно, – отмахнулся Охнарь, залезая за стол.– Шамаете? – спросил он, оглядываясь и ища свою тарелку.
Тарас Михайлович заметил, что надо умыться.
– Ни хрена. Сработаю и так. Я ловкий.
– Нет, – спокойно сказал воспитатель, и глаза его блеснули холодной усмешкой. Он отодвинул от Охнаря хлеб. – У нас грязным есть не полагается.
Ленька недоверчиво осмотрел свои руки.
– Мне ведь не пальцы облизывать? Я думаю, что саламата не испугается.
Однако шутка не подействовала. Лицо Тараса Михайловича оставалось холодным, а колонисты хотя и улыбались по-вчерашнему, но уткнулись в тарелки. «Не поддержали, паразиты», – зло подумал Ленька. Ганна Петровна закашлялась от смеха.
Охнарь сделал попытку «замазать дикобразу зубы», но провалился и здесь. Все его нехитрые выдумки, как о камень, разбились о спокойное упрямство Колодяжного. Тогда Ленька вздумал взять воспитателя «на горло», припугнуть, как проделывал это часто в ночлежке.
Он сжал кулаки, злобно прищурил глаза, выпятил нижнюю челюсть.
– Это че-го же ты, гад? – начал он раздельно. —
Бога из себя строишь? Брысь отсюда, а то я о твою харю кирпич спорчу!
Лоб Тараса Михайловича пересекла резкая поперечная складка.
– Кончил? – жестко проговорил он. – Ну, а теперь послушай меня. Я понимаю, Леонид, ты очень... страшный человек: уркаган, сидел в тюрьме, можешь ударить финкой. Но должен тебя предупредить: нервы у меня здоровые. Ты, конечно, слыхал про красного командира Григория Котовского? Так вот, я воевал в его кавбригаде. Бандюги батьки Махно и атамана Тютюника – не тебе чета были, да и вооружены несколько посильнее: «лимонками», пулеметами, и, представь, мы их не испугались. Наоборот, им не хватало сала пятки смазывать. Ясно тебе? Обдумай это хорошенько!
Охнарь по инерции еще пробормотал:
– Слыхали мы песни и похлеще...
И осекся, глянув на жесткие скулы воспитателя, на его узловатую тяжелую руку, на толстую, покрасневшую шею.
– Пустяки, – пробормотал он неясно и стал вылезать из-за стола. – Мелочное дело. Стоило ль шум поднимать?
– Колодец во дворе, – хладнокровно пояснил Тарас Михайлович.—Обтираться надо до пояса.
Со своего конца стола Ганна Петровна громко напомнила огольцу:
– Что я тебе накануне говорила, Леня? Бери-ка, дружок, полотенце, мочалку и устраивай себе на речке баню. Не можешь плавать – окунись у берега. Имей в виду: добром не искупаешься – хлопцы вымоют, как ленивого кабанчика.
IV
В бледном утреннем небе таял молочный серп луны. Невидимые лесные жаворонки-юлы рассыпали сверху свои нежные трели. Над птичником, над соломенной крышей клуни все шире разливалась огнистая малиновая заря. Где-то там, за сизой кромкой горизонта, томилось солнце. Клочья сырого тумана бродили по вересковой поляне, окутывали стволы сосен, берез; казалось, деревья стоят по колено в воде. Трава, полевые цветы склонили головки, отягощенные матовой росою.
Артель колонистов человек в десять, поблескивая мотыгами, перебрасываясь шутками, шла перелеском на работу. В хвосте уныло плелся Охнарь. Он, как и все воспитанники, был уже в белой панаме, в полотняной рубахе, трусах, босой и то и дело поеживался от утреннего холодка.
Вставая с постели, Охнарь вовсе и не думал работать. Отдых – удел «курортника». Но урок, полученный перед завтраком, поколебал его решимость. Ленька усомнился в своих силах. В ночлежке, когда он подымал бузу, его мигом и лихо поддерживала братва, всегда готовая побуянить против начальства. А колонисты... Хоть бы один вступился. Что это: измена товарищеским правилам? Или трусость? Кто они, эти покорные работяги в трусиках? Сиротки? Теперь вот запрягайся, как гусак в тележку, и вези, пока язык не высунешь.
Ленька брезгливо покосился на мотыгу, которую волочил за собою по земле.
«Ладно. Покорюсь для блезиру, а там...»
И он хитро подмигнул сам себе.
Миновав перелесок, артель вышла на зеленеющий пушистой ботвой широкий клин картофеля и растянулась по нему неровной цепочкой. Каждый занял свое место у длинного рядка. Картофельное поле упиралось в канаву, пыльную дорогу, а за дорогой подымались плетни с глиняными макитрами на кольях, виднелись белые хаты под соломой, жиденькие вишневые садочки, слышался лай собак, скрип колес. Это был хутор. Из-за горизонта выкатилось краснорожее, пышущее здоровьем солнце, будто говоря: «Ну, как вы тут без меня? Ох и хороший же денек я вам несу». Всем как-то стало веселее.
Старшая из девочек, Юля Носка, глазастая, черноволосая, с красивым своенравным ртом, в казенном, но старательно расшитом по вороту и рукавам цветными нитками холстинковом платье, затянула: «Копав, копав, криныченьку». Колонисты подхватили песню. «Ну и цирк», – усмехнулся Охнарь и ловко сплюнул сквозь зубы.
– Ты раньше работал? – спросил его долговязый, жилистый паренек с большими красными руками.
Ленька кивнул:
– Отмычкой.
– А чем-нибудь более полезным?
– Ложкой.
– Тогда гляди, как надо махать мотыгой.
Горбатый нос долговязого паренька шелушился точно обваренный, белесые волосы он расчесывал на пробор, и только над левым виском непокорно торчала прядка – «коровий зализ». Несмотря на утреннюю свежесть, он снял рубаху. Тело у долговязого было мускулистое, кожа белая, нежная, на плечах облезла и покрылась красными пятнами. Мотыга так и мелькала в его сильных, ловких руках; лебеда, осот, чертополох валились, срезанные с корнем, картофельные кусты быстро окружались земляными валами, точно маленькие крепости.
– Ну-ка, теперь попробуй сам.
Охнарю все это показалось занятным. Когда кто – нибудь что-то делает ловко, споро, берет здоровая зависть и хочется самому попробовать. Ленька широко и торжественно перекрестился левой рукой:
– Выручай, богородица!
Неумело держа мотыгу за конец ручки, он стал окапывать очередной куст картофеля.
На поле он работал впервые, и работа ему неожиданно понравилась, показалась приятным развлечением. Он даже подосадовал на себя, что сразу не догадался, как разогнать скуку. Охнарь во всем стал подражать колонистам, держак мотыги перехватил поближе к лезвию, так же высоко подсыпал картофель, а мелкие сорняки выпалывал рукой. Его охватил тот бодрый рабочий порыв, когда все окружающее кажется милым и близким, когда человек искренне и весело отдается труду, когда он готов раствориться и в ясном небе, и в зеленом листке, и в каждом ударе мотыги.
Он чувствует себя большим и сильным и сам любуется собою.
Ребята посматривали на Охнаря одобрительно, дружески хлопали по спине. С непривычки он отставал, и все ему охотно помогали. Ленька и сам старался нагнать колонистов, когда, пройдя рядок, они отдыхали у канавы, в тени мелких дубков.
– Молодчага, – похвалил новичка Владек Заремба, долговязый паренек с красными руками, который учил Леньку обращению с мотыгой. Он был старостой артели. – Вот разрешат нам в колонии комсомольскую ячейку организовать, вместе вступим. Верно?
– Может, еще в дикобразы вступим? – ухмыльнулся Охнарь. – Детишкам головы морочить?
Юля Носка шутливо воскликнула, ласково прищурив на него черные глаза:
– Свой хлопец! Ишь какой цепкий! За такого любой хуторянин отдаст дочку!
– Он еще и нас за пояс заткнет!
Смуглый, богатырски сложенный татарин Юсуф Кулахметов, дружелюбно оскалив крупные белые зубы, крепко потряс огольцу руку выше локтя.
– Хорошо. Моя любит такой хлопец. Картошка растет, кушат будем, ой как вкусно, а? Хорошо! – Он причмокнул и весело покачал головой.
«А пацаны, оказывается, ничего, – подумал Охнарь. – Мы еще споемся».
Ему было весело. Он разошелся, затянул своим козлетоном известную уличную песенку:
По улице Соборной
Шел мальчик беспризорный,
Сиротка тридцати пяти годов...
Потом плясал цыганскую: топчась на месте, тряс головой, руками, ногами, точно его схватили судороги.
Колонисты хохотали.
Очень ладная, стройная девочка лет тринадцати, Анюта Цветаева, улыбнулась Леньке тонкими розовыми губами, сказала:
– Ты, Леня, можешь выступать у нас вместе с Параской Ядутой. Она будет петь, а ты станцуешь.
Подбородок у Анюты был острый, беленький, локти по-девичьи худеньких рук тоже острые, походка вкрадчивая, неслышная. Из-под тонких очень светлых бровей с наивной скромностью и благонравием смотрели удлиненные глаза, в которых вдруг вспыхивал лукавый свет.
– Понравился я тебе? – сказал Охнарь, вплотную подойдя к девочке и лихо тряхнул кудрями.
– Как артист.
– За тобой никто не ударяет? – Он подмигнул. – Хочешь я буду твоим котом? Станем гулять.
Девочка вспыхнула.
– Поищи себе кошку. Я человек.
Охнарь хотел шутливо обнять ее. Анюта ловко вывернулась, вырвала крапиву и хлестнула его по руке:
– Брысь! А то хвост прищемлю.
Вокруг захохотали. Ленька скривился от ожога, но решил все обратить в шутку и лишь погрозил девочке пальцем.
Уже через час Охнарь познакомился со всеми хлопцами. Он рассказал, что в тюрьму сел якобы за «скачок»– налет на магазин. Выручал-де закадычного дружка Ваську Блина, всю «хевру» – шайку, и за это поплатился свободой. Колонисты поведали ему о себе. Особенно Леньке пришелся по душе долговязый староста Владек Заремба. Оказалось, что Владек был поляк и «свой в доску»: имел судимость за соучастие в «мокром» деле – ограблении квартиры, при котором хозяин был тяжело ранен револьверной пулей. Это обстоятельство сразу заставило Леньку смотреть на Зарембу с глубоким уважением. Вот какие в колонии есть парни! Охнарь считал, что самое высшее качество на свете – это смелость, а воры и есть самые смелые и отчаянные люди.
«Житуха-то здесь, оказывается, пух, перина – раз – люли малина»,-И Ленька усмехнулся. В детдомах, где он раньше жил, все ребята были «нормальные» – деревенские лапотники, городские сосунки, и Охнарь на них смотрел свысока.
Первый трудовой пот напитал его сердце радостью и новым ощущением собственного достоинства. Охнарь внутренне улыбнулся самому себе не спеша, как это, он видел, делают мужики, расправил плечи, крякнул. Украдкой он осмотрел горевшие ладони, ища мозолей, но их, к огорчению, не было.
Солнце взошло уже высоко и словно увязло в вате кучевых облаков. Душный знойный воздух едва струился. Ярко-фиолетовые тени подобрались к дубам и березам, сухая земля потрескалась, жгла босые ноги. За межевой канавой, поросшей высоким желтым коровяком, сурепкой, мимо хутора медленно тащилась арба, и дядька в заношенных офицерских галифе и пара сивых круторогих волов будто засыпали на ходу от жары, засыпала и пыль, лениво курившаяся из-под высоких колес. Одни зацветающие подсолнухи глядели широко, лучисто и сами напоминали маленькие солнца.
Охнарю надоело работать. Натруженные мускулы обмякли, ломило поясницу, к горлу паутиной липла слюна. А тут он еще, по неопытности, напился тепловатой воды из обливной макитры, накрытой лопухом, и совсем отяжелел. Его трудовой порыв угас так же, как и вспыхнул: незаметно и быстро. Осталась одна усталость и вялая пустота.
– Ша! – сказал он, утирая пот, и, бросив мотыгу, полез в кусты молодого березняка.
– Чего ты? – окликнули его ребята.
– Спать, – коротко ответил Охнарь. – Уморился.
Среди колонистов проскользнул недоумевающий смешок.
– А работать за тебя кто?
– Холуев нету, – отрезал Ленька. – Я им не нанимался.
– Обожди: кому «им»? – спросил Владек.
– Заведующему Паращенко. Воспитателям. Кому ж...
Заремба присвистнул:
– Нашел буржуев! Что это, их дом, земля? Эх ты, тепа-недотепа! Тут, брат, все для себя стараемся. Небось сам потом захочешь поесть молодой картошечки.
– Да еще с помидором! – весело подхватила Юля Носка.
Известный в колонии балагур Сенька Чулков, по кличке Жареный, тощий, с острым подбородком и большими оттопыренными ушами, которыми он умел смешно двигать, воскликнул:
– В нахлебники, Охнарь, целишься? Не выйдет! У нас что потопаешь; то и полопаешь!
Хлопцы окружили Охнаря, стали уговаривать. Ленька был искренне удивлен. Он никак не мог понять колонистов. Ужели они в самом деле согласны все время гнуть спину? Да что это – крепостное право? Теперь свобода! За что боролись, семь лет в братской могиле лежали? Вот он не хочет работать – и амба!
– По-свинячи твоя делает, – весь красный, бросил ему татарин Юсуф. Он еще что-то хотел сказать, но только сердито мотнул головой.
Это вы что же, учить меня собрались? – рассердился Охнарь. Он даже усмехнулся при мысли, чтоб он, урка, и вдруг стал зарабатывать мотыгой кусок хлеба. Всю жизнь сумел прожить, не замарав рук, а тут нате вам... копайся в земле, словно крот. Да его бы ребята с «воли» засмеяли.
Он поднялся, выпрямился, бросил раздельно и едко:
– Я не легавый и никому не продавался. Не то что вы...
Владек Заремба сдвинул густые белесые брови, карие глаза его недобро блеснули.
– Ну ты... легче на повороте.
– А что?
– А то.
– Ударишь? Ух, какой ты красивый. Хотел бы я посмотреть.
Владек побледнел, вытянул вперед левое облупившееся плечо; его красный горбатый нос угрожающе приблизился к самому лбу огольца, а непокорная прядка волос, казалось, встала дыбом. Заремба был почти на голову выше Охнаря. Но Охнарь и глазом не моргнул, только весь напрягся, ожидая удара, готовый к драке. Он даже злорадно-сладостно ждал кулачной схватки. Ему стыдно было вспомнить, что тогда, в столовой, он струсил перед воспитателем. Он был рад на ком-нибудь сорвать обиду. По воровской привычке драться ножом или кастетом, Охнарь искал чего-нибудь тяжелого. Ага, вот мотыга.
Однако пустить ее в ход не пришлось.
Владек круто повернулся и пошел к своему картофельному рядку. По большим красным кулакам, по напряженно согнутой шее было видно, какое он сделал над собой усилие, чтобы сдержаться. Он схватил мотыгу и с таким азартом стал работать – только комья земли полетели.
Хлопцы молча и угрюмо расходились от места ссоры. Одна Носка не вытерпела и звонко бросила Охнарю в лицо:
– Сволочь ты, вот кто!
– Ну, ну, ты... барыня с мусорного ящика. Потише, – пробормотал оголец, внезапно усмиряясь.
– Я-то не барыня. У меня дело есть – птичня. Я индюками, курами заведую, кормлю их, снабжаю яичками всю колонию, а вот пришла подсобить хлопцам. Ты же паразит и белоручка. Паныч подзаборный.
«Гадюка языкастая». Ленька отвернулся, снял рубаху, расстелил ее на траве меж старых, обомшелых березовых пней и лег. Его душила злоба. На «воле» он бы этой Юльке все волосы повыдергивал, а тут чувствовал: хлопцы не дали бы и обругать ее как следует. Как это понять? На «воле» он был душа-парень, козырной валет, первый заводила! Кто больше водки выпьет из пацанов? Кто может проиграть в карты последнюю «бобочку»? Кто на бешеном ходу спрыгнет с вагона экспресса? Кто пойдет на «шарапа» – налетит на торговку и схватит товар из корзинки, с лотка? Он. А здесь его отталкивают? За что? Стервы они все!..
– Такой парнишка хороший был и, на тебе, испортился, – как бы про себя сказала Анюта Цветаева, и ее личико с острым подбородком и светлой челочкой над лбом отразило наивнейшее недоумение. Постоял на солнышке с мотыгой и завял. Я-то думала: вот ухажер. А этого ухажера надо с ложки кормить, как нетрудоспособного.
В глазах ее вспыхнул лукавый бесенок и пропал, но все, кто слышал ее слова, уже смеялись.
Охнарь с подчеркнутым пренебрежением сплюнул. «И девки-то все тут вредные. Осы какие-то».
Колонисты вновь стали мотыжить картофель, постепенно отдаляясь от березнячка. Сначала они оглядывались на Охнаря. Сенька Жарёный даже крикнул:
– Слышь, новенький, как твое здоровье? Может, градусник поставить? – И, дурашливо задвигав ушами, схватился обеими руками за живот – «кишки надорвал»,– свалился на межу и задрал ноги. Хлопцы и девчата встретили его шутку дружным хохотом.
Вскоре Юля Носка затянула своим грудным контральто:
Стоит гора высокая,
По-пид горою гай.
Колонисты подхватили песню и перестали обращать на Леньку внимание.
По дороге к селу в двуколке, запряженной мерином, проехал заведующий колонией Паращенко, в шляпе, с роскошной бородой. Он приветственно помахал работающим. Охнарь не пошевелился в ответ. По мере того как он успокаивался, изменялись и его мысли.
«В чем дело? Ведь почти все колонисты беспризорничали, воровали. Ну, пускай лишь немногие из них смотрели сквозь тюремные решетки (а только таких Охнарь считал равными себе), зато большинство испытало голодную «волю». Выходит, хлопцы настоящие, не «мамины дети». Отчего же они теперь превратились в таких старательных землероек? Почему Владек Заремба, чистосортный блатняк, громила, заделался таким активистом? Он и член исполкома, и староста артели, и председатель товарищеского суда. Какая ему за это плата: общественное уважение? А с чем его едят?»







