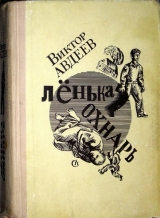
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 55 страниц)
Лицо, плечи Осокина секла ледяная крупа. Гонимая ветром, она катилась по перрону, скапливалась у киоска, у ног миловидной девушки в синем пальто, что стояла за фонарем возле пустого, недавно прибывшего состава, липла к ее двум чемоданам. Девушка пристально, с надеждой вглядывалась в сторону вокзала, видимо кого-то поджидая, и вид у нее был обиженный, беспомощный. Носик ее покраснел от холода, покраснело ушко под мягкой прядью светлых русых волос, она едва заметно передергивала плечами.
Леонид очень внимательно на нее посмотрел, прошел мимо и вдруг вернулся.
– Вы что тут стоите?
Возможно, девушка видела, как он провожал Кулахметовых, и приняла его за подносчика вещей. Или ее насторожил его вид: валит ледяная крупа, а он в пиджаке, надетом на свитер, с голыми красными руками.
Она испуганно прижала к груди скромную кожаную сумочку, наверно с деньгами. Глаза у нее были с голубинкой, брови темнее волос, с золотистым отливом.
В другое время Леонид ушел бы, а то и выругался. Сегодня он был растроган встречей с колонистскими друзьями, подогрет пивом, да и чем-то задела за сердце эта девушка. Стоит как брошенная. Впервые в Москву приехала? Кого– то ждет?
–Может, вам помочь? – предложил он.
Она опять промолчала. У нее был вид перепелочки, которая вдруг увидела, что рожь, в которой она пряталась, скошена и вокруг голое поле. Провинциалочка? Мама насталяла опасаться незнакомых? Вот такие-то и служат добычей для жулья. Глядишь, и на нее найдутся ухари. Надо помешать.
– Вы меня боитесь? – сказал он и рассмеялся.
Улыбнулась вдруг и девушка, глаза ее блеснули застенчиво, и Леонид обнаружил, что она удивительно хорошенькая.
– Вы впервые в Москве? Деться некуда?
– Нет, – решилась наконец она вступить в разговор. – Я здесь живу.
Этого Леонид не ожидал. Вопросы по намеченной программе кончились, новых у него больше не нашлось, и он лишь пробормотал:
– Чего же... домой?
Девушка вновь не ответила. Как будто она одумалась я пожалела о том, что заговорила с незнакомым, подозрительным парнем. Было в ней что-то домашнее, располагающее к откровенной беседе, и казалось, что от ее теплых губ пахнет яблочным пирогом, сливками, а среди вещей у нее лежат чистенькие полотенца с вышитыми инициалами.
– Вас, девушка, кто-то должен был встретить? – найдя новую тему, заговорил Леонид. – Мама? Дядя? Словом, давайте, я помогу вам поднести чемодан. Вы на какой улице живете? На трамвае вам, на автобусе?
– Я у Пышкина огорода квартирую. У знакомых. – Девушка не выразила никакой готовности принять услуги Леонида.
– Это где – Пышкин огород? Москву я знаю плохо, сам живу тут первый год. Вам каким транспортом ехать? Мое дело доставить оба чемодана на площадь. Не беспокойтесь, донесу, не привыкать.
Он хотел взяться за ручки чемоданов. Девушка смущенно покраснела, сделала протестующее движение: видимо, ей не хотелось, чтобы Леонид нес кладь. Он с недоумением сбил кепку на затылок, кудрявый чуб рассыпался по чистому лбу, его жесткой рукой взъерошил ледяной ветер.
– У меня... денег нет заплатить, – прошептала она.
– Да вы за кого меня приняли? – расхохотался Леонид и обрел обычную уверенность. – Не за бобика ль, сбивающего с пассажиров рубли за подноску? Мне ведь от вас ничего не надо... кроме ласкового взгляда. Видите, даже в рифму заговорил. Просто хочу помочь, не до ночи ж вам на перроне дежурить.
Он взялся за чемоданы: они оказались тяжеловатыми. Почему-то Леониду вспомнился давний случай, когда он воровал чемодан на донецкой станции, чтобы «перетырить корешу» Ваське Блину. Тот «угол» был тоже тяжелым, и Охнарь тогда с ним засыпался.
– Мне так неудобно, – говорила девушка. – Меня должны были встретить...
– Дома встретитесь.
Прижимая к груди сумочку, она шла рядом, поглядывая на Леонида с признательностью, сквозь которую еще сквозили недавние опасения.
– Теперь я знаю, девушка, – весело говорил он, слегка раскачивая плечами под тяжестью клади. – Вы меня за жулика приняли, сознайтесь. Таким я был раньше. Давно. Теперь я студент.
Он хотел было сказать, что учится в институте иностранных языков, да не сказал. Она и без того улыбалась, очевидно принимая его слова за остроту или за желание ближе с ней познакомиться.
– Почему бы это я вас приняла за... нечестного человека? – сказала она, покраснела и засмеялась. – Совсем-совсем нет.
Видимо, Леонид угадал, она действительно приняла его за жулика. Он на минутку поставил чемоданы, вытащил из кармана два последних мандарина и протянул ей.
– Отведайте. Эти вот в самом деле ворованные.
Девушка фыркнула в синюю, расшитую варежку и глянула на него совсем доверчиво. С ней было удивительно легко.
«Нешто проводить деваху до самого дома? – думал Леонид. – Где это Пышкин огород? Небось у чертей на куличках. Не опоздаю в институт? Глядишь, может, в кино согласятся пойти. Уедет ведь – никогда больше не увижу. Как бы подсыпаться половчей? »
Перрон кончался, они приближались ко входу в Казанский вокзал. Леонид наконец обдумал фразу: «Вам, девушка, наверно, не дотащить чемоданов. Давайте уж провожу до крыльца, а заместо платы скажете свое имя». Ничего получится? А опоздает на первую лекцию – черт с ней.
Внезапно девушка радостно вскрикнула и бросилась вперед. Запнулась, схватила Леонида за руку, потянула вниз, словно прося не уходить, поставить вещи: возможно, она все-таки боялась, что он скроется с ее чемоданами. Леонид поставил их на мокрый, усыпанный ледяной крупой асфальт перрона, а девушка уже висела на шее у высокого молодого человека в зимней шапке пирожком, в пенсне, целовала его.
«Муж», – первое, что разочарованно подумал Леонид. В другое время, будучи трезвым, он сам бы удивился: какое ему, в сущности, дело? Ведь его знакомство с девушкой, скорее всего, протянулось бы не дальше вокзальной площади. Нет, человек всегда на что-то надеется, хочет большего.
– Заждалась, Вика? Понимаешь, трамвай остановился. Выключился ток, авария где-то на линии. Стояли-стояли, и не выдержал, пошел пешком. Как доехала? Как мама?
– Хорошо. Письмо тебе от нее.
Лицо молодой женщины осветилось радостью и уже не казалось озябшим. Она так была счастлива встрече, что Леонид счел себя лишним свидетелем этой сцены. Он давно выпустил ручки чемоданов. Сперва хотел попрощаться, затем повернулся и пошел мимо вокзала на выход а город. Оглянулся: взяла ли-де парочка чемоданы, – еще свистнет кто, а на него подумают. Молодая женщина смотрела ему что-то говорила мужу, – может, что вот-де привязался какой-то назойливый малый.
«Всех хороших девок расхватали, – горько усмехнулся Леонид, уже решительно сбегая по ступенькам на площадь – Успевают... некоторые».
XXVI
Снег падал тихо, словно бы лениво, незаметно белела оттаявшая, в жирной грязце земля, мокрые тротуары. А снежок не перестал и ночью, валил весь следующий день, я вот уже крыши домов, деревья, улицы лежали белые, заглохшие, зимние. Снежок все сыпался, мягкий, голубоватый, хрупал под ногами.
В побелевших гранитных берегах Москва-река текла грифельно-черная, дышала ледяным парком, глотала снежок, падавший, словно тополиный пух. На заборе, на верее ворот одиноко каркали вороны, оглашая хриплым криком примолкшую окраину.
А однажды утром на кустах пустыря Леонид увидел стайку красногрудых снегирей и остановился, пораженный красотой их наряда. Нахохленные, безмолвные птицы слегка покачивались на лиловых прутиках, и от их рубиновых перьев пустырь принял праздничный вид – казалось, озарились сугробы, ярче зацвела герань в окнах домиков. Прилетели снегири, – наступила русская зима.
В конце года Леонид увидел в газете новые стихи Прокофия Рожнова и зашел к нему в общежитие на Старосадский. Прокофия он застал одетым, прифранченным, в новых ботинках с прюнелевыми гамашами, в отличном пальто.
Вовремя, Ленька, – сказал он, глядясь в небольшое зеркальце для бритья. Рожнов сложил большой выбритый рот куриной гузкой, старательно выпустил из-под кепки рыжий чубчик. – Еще бы пять минут – и не застал.
– К баронессе на свидание?
– Забирай выше, – с важностью сказал Прокофий.
– Куда еще? В Совнарком?
– А не меньше, – серьезно сказал Рожнов. – К Максиму Горькому.
Леонид почувствовал волнение.
– Заливаешь! – не поверил он. – Думаешь, примет.
– Звонил вчера его секретарю. Назначил на четыре часа.
«Вот это Прошка, добился», – уважительно подумал Леонид.
Раздеваться не имело смысла.
Еще в ноябре однокурсник-москвич дал Осокину поносить свою армейскую шинель: в ней Леонид ездил в институт на лекции. Покупка пальто откладывалась, на товарных станциях не всегда можно было найти разгрузочную работу, да и где взять свободное время? Занятия не оставляли и часа.
Из рииновского общежития вышли вместе. На трамвайной остановке Прокофий неожиданно предложил Осокину поехать с ним вместе – может, удастся пройти к Г Горькому «на пару». Леонид испугался, стал отнекиваться: неудобно.
– Неудобно воровать, сказал Прокофий. – И то мы с тобой не считались. Загвоздка в другом: пустит ли тебя секретарь Крючков? Я скажу, что ты художник из «своих» и будешь делать обложку для второго номера альманаха «Вчера и сегодня». Договорились? Дуем. Познакомишься с Горьким, а то, может, другого случая не подвернется. Знаешь, какой к нему наплыв? Не всех, брат, пускают.
И, не слушая возражений Леонида, потянул его с собой.
Леонид хорошо знал общительность поэта и был уверен, что Прокофий всеми средствами постарается протащить его на прием к писателю. Ему и очень интересно было, и он, непривычно для себя, робел. Похож ли Горький на обыкновенных людей? Мировая величина. Как себя с ним держать? К этому времени Леонид уже прочитал «Городок Окуров», «Дело Артамоновых», дилогию о детстве, видел в театре «На дне». Горьковские босяки привлекли его красочностью, цветистостью речи.
Кое-где зажглись ранние огни. Трамвай повез парней к центру. У Никитских ворот они сошли и отправились в тихий снежный переулок, к великолепному особняку, выложенному голубыми и коричневыми плитами, с цельными зеркальными окнами.
Вошли в большой двор, обнесенный высоким зеленым забором. Прокофий толкнул калитку. Перед ними открылся второй двор, скорее парк – так густо он зарос деревьями, кустарником. Дорожки всюду были аккуратно расчищены, и по сторонам их сугробился снег.
Словно проверяя, кто идет, со скамейки у особняка поднялся плотный молодой красавец с кольцами черных кудрей, смуглым румяным лицом.
– К нам?
Прокофий поздоровался с ним за руку.
– Вот с корешком. Алексей Максимыч назначил.
Когда они вошли в подъезд особняка, он шепнул Леониду:
– Это Кошенков. Комендант. – И хвастливо добавил: – Выпивал с ним. Мужик свойский.
Чувствовалось, что Рожнов здесь не впервые и всех знает.
В просторной передней, устланной коврами, они присели за столик у высокого узкого окна, и о них доложили личному секретарю писателя. Вскоре из соседнего кабинета к ним вышел толстый, коренастый мужчина в брюках-гольф, в длинных клетчатых носках и крупных тупоносых ботинках на белой каучуковой подметке. Леонид впервые видел людей, одетых не по-русски, и почувствовал, что попал в другой мир.
– Пришли? – сказал Крючков, раскуривая трубку, и внимательно сквозь толстые очки посмотрел на Леонида, – А это что за паренек?
– Из «своих», – хлопнув Леонида по плечу, представил его секретарю писателя Рожнов. – Художник. Обложку будет делать для альманаха. Сейчас студент института иностранных языков. Алексей Максимович просил меня знакомить его с нашими ребятами.
– Сомневаюсь, – выпустив табачный дым, сказал Крючков и еще больше выпятил толстые маслянистые губы.
– Не один хрен, что ли, Петр Петрович? Сам я или нас двое? Больше часа не задержимся.
– Один хрен, говорите? – улыбнулся Крючков.
Видимо, он заколебался и наконец велел подождать: доложит Горькому.
Блестя сытой розовой лысиной, секретарь снова скрылся в своем кабинете. В окно был виден сад, черные липы, клены, до половины стволов заваленные снегом, дорожка к очищенной скамейке. Вторая дверь вела в глубину дома, и Леонид подумал: «Там, наверно, кабинет Горького». Где-то за стеной важно тикали часы. «Вот какая житуха у великих людей».
Вошел Крючков и предложил обоим студентам снять пальто.
– Помните старый уговор, Рожнов? Не утомляйте Алексея Максимовича лишними вопросами. Сорока минут вам вполне хватит.
– Лады. Сам сочинитель, знаю, что значит для писателя время.
Еще большее волнение охватило Леонида. Ему было стыдно за свой заношенный пиджак, брюки другого цвета, за отсутствие галстука, за плохо остриженные ногти: Дом уж больно особенный: Леониду никогда не доводилось в таких бывать.
У него разбегались глаза, и он боялся чего-нибудь не заметить, упустить. Прокофий смело вступил в огромную квадратную комнату; Леонида поразили книжные шкафы красного дерева, стоявшие вдоль всех стен. На полках за стеклом выстроились неисчислимые тома книг и в кожаных переплетах, и в ледериновых, и в мягкой обложке. Огромное, во всю стену, окно было наглухо закрыто серой толстой шторой, не пропуская с улицы звуков. Широкий красный с прочернью ковер покрывал паркетный пол. С белого лепного потолка спускалась блестящая люстра, разливая вокруг спокойный свет.
Навстречу парням медленно шел высокий, худой, сутуловатый человек в простеньких очках, с длинными рыжими, поседевшими усами, коротко остриженный бобриком. Он был в темно-сером костюме, в сиреневой рубахе, фиолетовом галстуке. Домашние туфли с меховой оторочкой глушили его шаги.
– Проходите, юноши, проходите, – сказал Горький низким глуховатым баском, по-волжски выделяя «о», и протянул им крупную руку: пожатие у него было крепкое. – Вы, Рожнов, верны своей привычке? Всегда с товарищем.
В его серо-голубых водянистых глазах вдруг промелькнула улыбка. Почему-то Леониду показалось – он даже готов был побиться об заклад, – что секретарь рассказал Горькому о рожновском: «Не один хрен, что ли? » Горький указал студентам на кожаные стулья, сам уселся в кресло за круглый стол, стоявший посредине кабинета и покрытый скатертью.
Рожнов слегка подтолкнул Леонида вперед, полуобнял за плечо.
– Познакомьтесь, Алексей Максимович. Это наш блатной Микеланджело.
Та же улыбка вновь мелькнула в глазах Горького.
– Не меньше? – спросил он серьезно.
– Ну... я, может, малость прибавил, – не смущаясь, ответил Рожнов. – Пускай хоть там Верещагин иль... Бродский. Знаете, какие из наших ребят таланты есть? Нам только развернуться – длинногривые умоются, как увидят.
– Умоются – это еще не так плохо, – сказал Горький, легонько проводя пальцами по длинным моржовым прокуренным усам, словно скрывая улыбку. Из-под клочковатых бровей он зорко, внимательно осмотрел Леонида. – Вас, молодой человек, и скульптура интересует? К искусству тоже самоучкой шли?
Леонид никогда не лепил и вообще даже не мечтал о ваянии. Чего Прошку надоумило сравнить его с Микеланджело? Кому загнул! Тут уж рисовать-то, наверно, разучился. Он хотел было во всем признаться Горькому – такому хотелось всю душу открыть, – да побоялся подвести Рожнова. Ну ну чего, на улице рассчитаются.
На вопросы Алексея Максимовича, откуда он, Леонид, родом, в каких краях скитался, где, как живет сейчас, Осокин отвечал сдержанно, почти односложно. Куда девались его развязность, острословие? Подавляло обаяние хозяина, обстановка? Вообще Леонид давно заметил: чем грамотнее, культурнее он становился, тем меньше «заливал» и тем больше следил за своими словами, манерами.
Возможно желая дать ему освоиться, Горький стал расспрашивать Рожнова:
– Ну, как живете, Прокофий? Альманах сдали?
– Давно в производстве, Алексей Максимович.
И Рожнов начал говорить о сборнике рассказов и стихов бывших правонарушителей и беспризорных, который брошюровали в типографии. Этому сборнику великий писатель предпослал свое предисловие, рукописи полуграмотных авторов редактировал, правил своей рукой.
В Максиме Горьком Леонид сразу заметил одну черту: он давал человеку возможность «оклематься» в своем присутствии. Странно было видеть, как этот писатель, чье творчество четыре десятилетия волновало весь культурный мир, терпеливо слушал вчерашнего преступника, вылавливая что– то ценное из его слов. Так мог слушать только человек, который глубоко интересовался людьми.
– Я уже высказывал свое мнение и устно и в печати, – заговорил он своим глуховатым баском. – Ваш сборник, несмотря на незрелость авторов, очень хорошее начинание. Он говорит о том, что на «дне» живут даровитые люди. Факт выхода сборника убедит и колонистов и заключенных в домзаках, что перед ними действительно открыты все пути к честной, полезной работе – вплоть до литературы. Сказать об этом «своим» – дело истинно товарищеской, и сделали вы это неплохо, потому что – искренне.
Горький живал в мундштук ватку, вставил папиросу. Рожнов тоже попросил разрешения закурить, запустил pyку в хозяйскую пачку, фасонисто заложил ногу за ногу.
– Ваш альманах, – продолжал Горький, не затягиваясь и выпуская и дым через плечо, – только звено в цепи. В борьбе с преступным миром советская власть далеко перегнала Европу, которая, впрочем, и не делает, попыток перевоспитать социально опасных. Буржуазные властители ничего не придумали для них, кроме каторжных работ и «мертвых домой». Недавно одна из нью-йоркских газет сообщила, что в Соединенных Штатах более двух тысяч несовершеннолетних преступников подвергались в исправительных тюрьмах немилосердному избиению за малейший проступок. Мальчиков и девочек наказывали плетьми, сажали в ледяную воду, в темные карцеры на хлеб и воду и всячески издевались, доводя некоторых до самоубийства. Специальная комиссия доложила об этом президенту Гуверу. Вывод ее был такой: несовершеннолетние преступники не только не исправлялись но, наоборот, выходили оттуда озлобленными и извращенными.
Незаметно для себя Леонид крепко сжал руками колени, удивленно покосился на Рожнова, – тот слушал, вытянув шею.
– У нас в новой России нет крупных собственников, кроме государства, – гудел басок. – Все, чем богато оно, принадлежит всем и каждому. Вот что на днях написал мне один из вчерашних тюремных обитателей. – Горький взял со стола конверт, вынул тетрадочный листок в косую линейку; прочитал: – «Теперь стало так, что человек, если хочет, найдет себе место на земле по достоинству своей силы». «Достоинство силы» – отлично сказано. Тысячи таких, как вы, – указал он длинной рукой на студентов, – убедительнейший пример сему.
Немолодая горничная в белом фартучке принесла четыре большие рюмки водки, бутерброды. Она поставила поднос на столик и вышла.
– Всякая беседа утомляет, – с улыбкой сказал Горький, – и требует подкрепления сил.
– А вы, Алексей Максимович? – спросил Рожнова
– Хозяин обязан угощать. – Он вдруг усмехнулся: очень просто и в то же время озорновато. – Не дают мне. Берегут здоровье.
Вторичного приглашения Рожнов ждать не стал, выпил рюмку, зажмурился – «ну а мы свое не бережем» – и стал жевать бутерброд с кетовой икрой. Леонид, освоившись, последовал его примеру. «На всю жизнь запомню, —думал он. – У самого Максима Горького выпивал. Скажи нашим ребятам – не поверят, паразиты! »
Горький поднялся, еще раз удивив Леонида своим ростом, шириной кости, худобой, открыл дверцу одного из шкафов. Сутулясь, бережно взял с полки маленькую, тощую книжечку, держа ее, словно птичку, своими большими узловатыми руками. Морщинистый лоб его прояснился.
– Прочитал, Прокофий, я вашу книжицу, – сказал он, вновь садясь за стол, – Извините, что в тот раз не успел. Стихи надо пить маленькими глотками, не торопясь. А то и вкуса не почувствуешь. Что я вам могу сказать? В стихах я знаток небольшой, но люблю их. Вы пишете о том, что отлично знаете, чем перемучились. Это похвально. Способный вы человек. Но будьте строже к себе, не многословьте: не всякий цветок краше от лишнего лепестка.
– Я и так «бью каждой строчкой в упор», – вскинулся Рожнов. – Это цитата из моей поэмы.
– Не хвастайтесь, Рожнов, – строго остановил его писатель. – Хвастовство – не та визитная карточка, которую следует показывать людям. Сейчас вы шагнули на широкую дорогу, вас читают десятки тысяч людей – берегите свое имя. Учитесь у всех – не подражайте никому. Слушайте, но не слушайтесь. Шагайте своей собственной дорогой и помните слова Альфреда де Мюссе: «Мой стакан мал, но я пью из своего стакана». В искусстве подобная мораль сохраняет лицо, дает право на долгую жизнь. Старайтесь, чтобы в стихах не было бородавок. Посему неутомимо пишите, беспощадно черкайте. Талант – дар природы, много раз помноженный на труд. Скороспех – везде грех. Читайте почаще Пушкина, он нам всегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин устарел, не верьте: стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетленен. И не забывайте, что литература у нас на Руси – не отхожий промысел, а дело священное, дело величайшее.
Горький положил книжечку на стол. Леонид увидел, что это был сборник стихов Рожнова. На зеленом поле обложки было написано заглавие: «От «пера» к перу» – и сверху нарисовано «перо» блатное – финский нож, а ниже – ручка, вечное перо. Кивнув на книжечку, Рожнов весело сказал: – В издательстве никак не хотели принимать такую обложку. «Блатная романтика! » Я редакторам: «Да здесь графически изображен весь мой творческий– путь: от вора в писатели. Максиму Горькому понравилось». Ни в какую! И лишь когда я позвонил вам и вы им по телефону сказали пару теплых слов, – сдались. Во, деятели!
Горький пригладил прокуренные усы, пряча в них усмешку:
– Характерная особенность чиновников – в том числе и литературных – где можно избегать беспокойства.
Сидел он облокотись на кресло с высокой спинкой, подняв острые широкие плечи. Леонид украдкой, с жадным интересом разглядывал его. Уши у Горького были большие, слегка оттопыренные, кожа на скулах натянута, а на щеках – в морщинах, с еле заметными бледными оспяными пятнами. Очки сейчас лежали перед ним на столе. Начиная читать, Он надевал их на широкий утиный нос; вглядываясь в лица собеседников – снимал. Рыжий седеющий ежик волос щетинился надо лбом, видимо не покоряясь расческе. Когда Горький замолкал, на лице его проступало глубокое и несколько болезненное утомление; иногда он глухо, бухающе кашлял. Пахло от него легким ароматом табака.
Не один раз удивился Леонид памяти писателя. Он свободно, без всяких затруднений приводил цитаты, читал целые строфы из русских классиков.
«Какую же надо было иметь работоспособность, какое трудолюбие, чтобы из босяков, портовых грузчиков стать одним из образованнейших людей? – вслушиваясь в мягкий бас, думал Леонид, – Вот кому надо подражать, вот у кого учиться». Правда, у него, Леньки, нет большого дарования, живописец из него не удался. Ну и что? Зато «человеком с большой буквы» может стать каждый.
Час пролетел незаметно. Крючков раза два предупреждающе покашливал. Рожнов сказал, что «закругляется», и порекомендовал писателю Осокина, как «талантливого художника», которому смело можно поручить обложку для второго номера альманаха.
– Ребят у нас прибавляется, Алексей Максимович, – говорил он с довольным видом. – Вот недавно один парень дал рассказ. Вовка Жид. Он был...
– Не смейте так говорить, Рожнов! – вдруг резко перебил Горький и хлопнул рукой по столу. – Никогда не произносите это слово!
– Это ж кличка, Алексей Максимович, – опешил и сразу сбавил тон Рожнов. – Вовка на нее не обижается. Между прочим, сам-то он украинец, просто...
– Все равно, – резко продолжал Горький, брови его шевелились, и в речи заметнее стало выпирать округлое, нижегородское «о», – И в шутку не произносите. Это – оскорбление целому народу, причем незаслуженное. Антисемитизм – это сифилис души.
Рожнов забормотал извинения. Горький смягчился.
– Вы еще молоды, чтобы это понять. Но в новой России не должно быть наносной грязи прошлого.
Когда студенты стали прощаться с Горьким, Прокофий Рожнов задержался в кабинете. Леонид один вышел в приемную, надел шинель. Ему пришлось ждать минут пятнадцать, пока появился Рожнов.
Вскоре они радостно, ходко шли по зимней, морозной улице к Никитским воротам. Москва светилась резко, по-вечернему. Снег везде был очищен, и черные тротуары, напоминавшие плиты подсолнечного жмыха, блестели игольчатыми искрами. Парни свернули на Тверской бульвар. Здесь было глухо, голые липы, редкие тополя тонули в синих сугробах, по бокам аллеи громоздились высокие наметанные валы. Снег вокруг был исполосован тенями и яркими золотыми треугольниками, ромбиками, падавшими от высоких горящих фонарей, похожих на громадные рюмки с чугунными ножками.
– Чего это ты оставался, Прошка? – спросил Леонид. – О чем говорил?
– Дельце было, – усмехнулся Рожнов. – Через пару лет я должен институт кончить. Где жить? Не в общежитии ж? Да и, может, женюсь. Куда бабу приведу? Просил я комнату в Моссовете: шиш в масле показали. Мол, жилищный кризис, поважнее есть персоны, чем ты, простой студент, бывший тюремный квартирант. Вот я и рассказал Алексею Максимовичу. Что мы, не люди? Обещал поддержать. Наверно, звонить будет. О тебе еще задал пару вопросов. Видать, понравился ты ему, Ленька. Правда, мировой мужик?
– Спрашиваешь! – ответил Леонид. – Я таких в жизни не видал. Живой классик, а совсем простой.
– Да уж не то что некоторые наши литераторы. За душой одна-две посредственных книжонки, но чин в Союзе писателей – и вот дерет рыло. Руководитель! Помню, рассказал я Горькому, как у меня в редакции стишок искорежили. Он помолчал-помолчал, а потом говорит: «Надо очень много знать самому, чтобы осторожно советовать другому». Видал? У нас же всякий старается в твою рукопись с ногами залезть – от рецензента до редактора. Все «исправляют»... пока всю оригинальность не вытравят.
Из полутьмы вырос заснеженный памятник Пушкину.
Пешком по бульварам они дошли до Покровских ворот, и всю дорогу Рожнов рассказывал о своих встречах с писателем, как ездил к нему на дачу.
Несколько дней спустя Леонида неожиданно вызвала заведующая учебной частью института Эльвира Васильевна и, мило грассируя, сообщила, что его просили срочно приехать на Малую Никитскую: звонил Крючков.
– Вы разве знакомы с Максимом Горьким? – удивленно, с оттенком почтения спросила она.
И, выслушав ответ, протянула:
– Во-он у вас какие связи.
«Ехать или не ехать? » – размышлял Леонид, направляясь к трамвайной остановке. Как у всякого «вчерашнего» вора, первая мысль у него была тревожная: уж не подумали ль, что он чего-нибудь спер у Горького? Может, у него какая вещь пропала из кабинета? Не вляпаться б в историю. А вдруг Максим Горький вызвал еще побеседовать? Прокофий же говорил, что он, Ленька, понравился писателю.
Встретил Осокина личный секретарь Горького Крючков – доброжелательный, как и тогда, важный, в гольфах, с трубкой в толстых губах.
– Мне в институте передали... – начал Леонид, все еще не зная, как держаться: козырным валетом или битой шестеркой.
– Да, я им звонил, – перебил Крючков и не торопясь затянулся из трубки. – Идемте, распишетесь.
– В чем?
Секретарь не ответил и направился в свой кабинет. Леонид нерешительно последовал за ним. Здесь на диване лежал большой сверток в серой шершавой магазинной бумаге. Крючков кивнул на него:
– Берите.
Леонид ничего не понимал и не двигался. Тогда Крючков разрезал ножничками шпагат и вынул из свертка отличное теплое драповое пальто с меховым воротником.
– Это вам подарок от Алексея Максимовича.
Кровь прихлынула к щекам Леонида. Он не поверил глазам.
– Мне? Но...
– Шинель на вас чужая? Ну вот. Рожнов рассказал, что вас обокрали. Алексей Максимович и велел купить. Одевайтесь и носите на здоровье.
Пальто было почти в самый раз – чуть-чуть просторное. Растерявшийся Леонид попросил разрешения на минутку повидать Горького и отблагодарить. Секретарь сказал, что Алексей Максимович на даче в Серебряном бору, ему нездоровится, и он, Леонид, может просто написать записку.
По улице Леонид шел счастливый, в новом пальто, неся в свертке старую чужую шинель. Он отвык от теплой одежды, ему было очень жарко, почти душно. Небо хмурилось – то ли к оттепели, то ли к снегопаду, погода стояла гриппозная, а Леониду день казался весенним.
«Ну уж этот клифт буду под подушку класть, – рассуждал он. – Никто не сопрет. Сохраню до конца жизни».
Ему казалось, что все встречные оглядываются на него: эка парень ладный, и одет прилично. Знали бы, чей подарок на нем, совсем бы очманели! Эх, и есть же на свете люди!
Леониду хотелось с кем-нибудь поделиться своей неожиданной радостью. Вдруг он украдкой оглядел улицу, как делал это уже несколько раз: не увидит ли случайно молоденькую женщину, которой подносил вещи на Казанском вокзале? Показаться бы ей в этом шикарном пальтишке! Почему он думал об этой бабеночке, вспоминал ее? Надеялся на что-нибудь? Кто знает... Может, и просто так, очень уж с ней было легко и приятно.
XXVII
Занятия института иностранных языков все еще проходили в Наркомпросе и по-прежнему в различных комнатах – в зависимости от того, какая в этот вечер была свободна. Студенты без конца кочевали по второму этажу. Преподаватели сидели за обыкновенными служебными столиками, обычно возле стенки у окна. Аудитории пестро освещали и электрические лампочки, свисавшие с потолка, и настольные, под зеленым абажуром.
За первый семестр Леонид освоился в институте, упорно нагонял свой курс и чувствовал, что теперь, пожалуй, «оправдал» студенческий билет.
Он не принадлежал к тем студентам, что льнули к преподавателям, а таких сразу наметилась целая группа, состоявшая преимущественно из девушек. На переменах Леонид сразу же уходил к товарищам, в коридор, покурить. Он не умел оказывать профессорам мелкие и почтительные знаки внимания, задавать такие вопросы по их дисциплине, которые бы говорили о том, что Леонид весьма интересуется их курсом. Таким студентам всегда это учитывается при оценке знаний. Зато все то, что ему было непонятно, Леонид спрашивал.
Курс русской истории в институте читал профессор Вельяминов – необыкновенно подвижной густобровый старичок с прозрачной седой бородкой, с лукавинкой в зорких глазах. Ходил он в старомодном котелке, демисезоне с узким бархатным воротником, бойко постукивая тяжелой сучковатой палкой с серебряным набалдашником, на лекции приносил пузатый желтый портфель. Но, взгромоздив портфель на кафедру, вернее – на канцелярский стол, никогда его не открывал и читал без конспектов. Рисуя перед студентами какую-нибудь эпоху, Вельяминов умело вставлял исторические анекдоты, на память сыпал датами.
О своем предмете он однажды отозвался так: «История – это свидетельница, призванная давать показания современному обществу». Когда его спросили, почему у разных авторов освещение некоторых событий разноречиво, профессор Вельяминов, не задумываясь, ответил:







