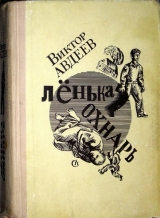
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 55 страниц)
Ливень разделил его с подводами, точно занавесом.
Однако чем ближе к колонии, тем менее уверенно чувствовал себя Охнарь. Почему это? Ведь он наконец порвал с «мамиными» и возвращается в родную семью! Ленька давно замечал за собой: все, что он предпринимал в пылу и что казалось ему правильным, впоследствии, когда он остывал, вдруг представлялось совсем в другом свете. Ну, что он скажет Тарасу Михайловичу, ребятам? Чем щегольнет, похвастается? Они там небось думают, что он уже заделался заправским ученым, а он нате вам... припрется с побитой мордой.
«Скажу: надоело в девятилетке, и все, – бодрился Охнарь. – Вон в Москве, у циркача Дурова, свиньи знают четыре действия арифметики: пускай они заместо меня в школе учатся».
Если же и откроется его хулиганство, пьянка, то это будет не сейчас, а когда-то еще потом, и стоит ли заранее беспокоиться? Зато как разинут колонисты рты при виде его этюдника. Художник первого класса Леня Охнарь, младший брат Айвазовского!
И все-таки никакие рассуждения не могли успокоить Леньку. Ведь он действительно... отступил. Вспомнилось трусливое бегство из квартиры еще спавших опекунов. Он поступил чисто по-блатному: нашкодил – ив кусты, подальше от всякой ответственности. На столе он оставил Мельничукам записку: «Я уехал насовсем. Куда – мое дело. Лучше и не ищите, не вернусь, хоть бы что. Можете проверить все вещи, а этюдник не считайте». Что ни скажи, а новая жизнь в городе не приняла его, как не принимает чистая вода мусор, наплав и выбрасывает обратно на берег.
Вчера он был пьян и слишком взбудоражен, чтобы взвесить, обсудить свой поступок. Сегодня же он просто старался себя приободрить, оправдать в собственных глазах. Копаться в причинах своего хамского поведения, затеянной драки он, по обыкновению, всячески избегал.
Показался знакомый лес, похожий на огромного зеленого ежа, в нем красная крыша колонии, и сердце Охнаря заныло.
Дождь прекратился, в прогалах рыхлых туч показалось синее небо, а откуда-то сверху еще сыпались мелкие брызги. Охнарь надел свою помятую, но сухую одежду, постарался взбить обвисший мокрый чуб. Вот и поворот дороги от хутора, старый курень на бахче, мокрый, почерневший сруб водяной мельницы у реки. Вот клумба перед каменными ступенями крыльца с орхидеями, огненно-красным горицветом, бархатными анютиными глазками. Под водосточной трубой стоит памятная ему бочка: ее он еще в первый день приезда в колонию перевернул смеха ради. У крыльца, на сухом месте, защищенном тополем от дождя, лежала рыжая Муха; она вся была облеплена репьями, точно папильотками. Муха не узнала Охнаря, но, как все детдомовские собаки, привыкшие к множеству сменяющихся ребят, не ощетинилась, не залаяла, а полуприветственно помахала самым кончиком хвоста. «Кто тебя знает, – как бы говорил ее вид, – может, вместе в колонии жить придется? Глядишь, еще когда корочку хлеба дашь».
Берясь за дверную ручку, Охнарь испытал истинное волнение, на сердце его было и тревожно и радостно.
На втором этаже, в зале, сипела расстроенная панская фисгармония, в палате девочек пели, по коридору со смехом взапуски носились воспитанники. Ясно, что это дождик загнал всех ребят в здание. Все окна были открыты, пахло зябкой, сырой прохладой; небо повисло тусклое, серое, пол испятнали мокрые следы. В лесу примолкшие было щеглы, пеночки, зорянки вновь пробовали голоса, начинали высвистывать на разные лады, словно подзадоривая и ребят выйти во двор и огласить окрестности песней.
В колонии появилось много новичков, это Охнарь сразу заметил. Они с удивлением рассматривали Охнаря, очевидно в свою очередь принимая его за новичка. Старых товарищей Ленька узнавал не без труда, так они выросли. Когда человек чувствует себя неловко, виноватым, он склонен преувеличивать в окружающих положительные качества, которых сейчас нет у него самого. Ленька завидовал уверенности колонистов. Несколько робея, он положил пальто на стул, поставил этюдник, чтобы освободить руки, – он устал-таки. В коридоре было полутемно, и несколько знакомых хлопцев и девочек прошли мимо Леньки, оглядывая его с настороженным любопытством. Наконец один колонист нерешительно остановился, подошел поближе, удивленно и обрадованно воскликнул:
– Гля! Ленька! Да чи это ты, козаче?
– А ты думал, забрела моя покойная душа? Вот шакалы: отчурались и не признаете!
– Да как же тебя узнать: разрядился, что твой нэпманский сынок! Если б не этот войлок, и я бы прошел мимо, – и он крепко дернул Охнаря за кудри.
По колонии тут же во все углы разнеслась весть, точно у нее было сто ног.
– Охнарь приехал!
Через три минуты в коридоре уже нельзя было протолкаться. Хлопцы и девчата, которые раньше видели Охнаря, но прошли мимо, стали уверять, что признали его с первого взгляда, да боялись ошибиться. Сбил с толку его костюм, а главное, этюдник. Почему-то Леньку приняли за фотографа, которого завтра, в воскресенье, ожидали из города. А из красного уголка, -из читальни, из палат подбегали все новые колонисты, в полотняных панамах, в полотняных трусах, загорелые, с запахом полевых трав, и здоровались с гостем крепким пожатием сильных мозолистых рук. Владек Заремба, такой же белобрысый, горбоносый и еще более долговязый, с ходу обнял и поцеловал Охнаря, словно младшего брата, Так же приветствовал его и Юсуф Кулахметов. Татарин еще шире раздался в плечах и походил на борца; от солнца он не то что загорел, а будто прокоптился. Но больше всех поразила Охнаря Юля Носка. Давно ли он ее видел? Еще вчера была глазастой задиристой девчонкой, а сегодня превратилась в пышную, совсем развившуюся девушку. Так бутон шиповника вдруг за одну ночь раскрывается в юную, крепкую душисто-лепестковую розу.
Юля по-мальчишески тряхнула Леньке руку, радостно засмеялась.
– А чего ж ты меня не поцелуешь? – весело спросил Охнарь.
– Шибко нос задерешь.
– Все равно до твоего не достану. Он с детства журавлей в небе ловит.
Он наглядно показал, какой у Юли кирпатый нос.
Послышался общий смех.
– К нам в отпуск? – спрашивал Владек. – На одно воскресенье?
– В каком классе учишься? – торопился узнать другой колонист.
– Хорошо устроился в городе? Вот повезло кому: в шубе родился.
– Ты, Ленька, небось там все кинокартины пересмотрел?
– Отъелся-то: чистый боров!
Вопросы, восклицания сыпались со всех сторон; Охнарь едва успевал отвечать. Он видел, что ребята искренне рады за него, завидуют хорошей, здоровой завистью, гордятся им. Вот, мол, из нашей колонии пошел хлопец в жизнь, «на люди», и стал как все фраера: совершенно не подумаешь, что он когда-то ночевал в асфальтовом котле, ездил в собачьем ящике, ходил по середине мостовой между двумя милиционерами с наганами.
Ленька тотчас воспрянул духом; задрал выше голову. И вдруг прежняя мысль опять ужалила его, точно оса: как же ему теперь признаться колонистам, что он... будто волк в известной сказке, прибрел обратно с оторванным хвостом? Ведь, пожалуй, все его акции упадут сразу. И, выигрывая время, он сделал вид, что не расслышал вопроса Зарембы насчет отпуска или просто ему некогда на него отвечать.
– Леня, как до нас добирался? – спросил Юсуф. – На воздухе дождик, а ты совсем сухой, как вяленый таранка.
– На подводе, конечно, – соврал Охнарь и хлопнул себя по тощему карману. – Что мне, заплатить нечем? Волами, правда, зато тетка дерюжку дала прикрыться.
– Вот черт, буржуй!
– Обождите, хлопцы, – сказал Владек Заремба и положил руку на плечо Охнарю. – Я тебя спрашиваю: надолго к нам?
Его глаза заглядывали в глаза Охнаря. Отмалчиваться больше не было возможности. Охнарь, замялся, подбирая слова помягче, чувствуя, как по груди его словно поползла холодная гадюка.
– И чего ты, Владька, прицепился? – весело перебила поляка Юля Носка. – Конечно, на одно воскресенье. Разве отпустят на больше? Скоро зачеты в школе.
И Охнарь сам не заметил, как пробормотал покорно, словно попугай за человеком:
– Верняк, Юлечка. На воскресенье.
И показал один палец.
Ленька густо покраснел, точно ему сделали отличный массаж. Как же это вышло, что он опять заврался? Отступать, во всяком случае, сейчас было просто невозможно. Придется потом, исподволь, намеками все объяснить Владеку, Юсуфу, старшим ребятам. А может, сделать вид, что он действительно приехал в отпуск, но ему опять так понравилось в колонии, что решил остаться насовсем!
– Ну и Охнарище! – восхищенно бубнил один из хлопцев, пробуя пальцем добротность его бархатной толстовки. – Небось теперь считаешь пятью... семьдесят?
– А что это за сундучок? – спросила Параска Ядута, рассматривая этюдник. – Не для фокусов?
С видом алхимика, показывающего превращение простого камня в червонное золото, Ленька открыл этюдник. Авторитет его среди ребят подскочил еще на целый вершок. Всем хотелось в собственных руках подержать палитру, помусолить на ней пальцем краски, попробовать холст. Но внезапно колонисты расступились: к Охнарю шел воспитатель Колодяжный. Он совсем не переменился: немного, правда, пополнел да купил новый костюм. Ленька сразу понял, что теперь ему не миновать объяснения.
– Здравствуй, Леонид, – сказал Тарас Михайлович, приветливо улыбаясь, а его серые, холодные глаза оценивающе оглядывали бывшего воспитанника. – Да тебя прямо не узнать: настоящий городской хлопец. Рад тебя видеть, рад. Ты разве один приехал? Тебя одного отпустили?
И Колодяжный уверен, что его отпустили. Вся колония как сговорилась. Значит, у них и мысли нет о том, что он, Ленька, мог провалиться в новой жизни? Врать воспитателю было труднее, чем ребятам, и Охнарь призвал на помощь все свое нахальство.
– А что, Тарас Михайлович, – сказал он, скрывая под грубоватой развязностью смущение, – опекунам надо было волочить меня сюда, как поросенка в мешке? Или вести за ручку? Я по всей России сам раскатывал, а в колонию и подавно дорогу найду.
– И никакой увольнительной тебе не дали? – настоятельно повторил Колодяжный. – Ну... записки для меня?
– А чего про меня писать? «Отпускается домашний хлопец из своей семьи»? Я ведь теперь не казенный. Да и где опекуны возьмут печать, чтобы приляпать на отпуск?
Некоторые колонисты засмеялись: «Отмочит же этот Охнарь». Колодяжный тоже улыбнулся, показав крепкие желтые зубы, своей широкой мускулистой рукой поерошил Охнарю кудри, но Ленька ясно увидел: воспитатель ему не верит.
– Ты остался все такой же: в карман за словом не лезешь, – сказал Колодяжный. – Разве только приложение печати удостоверяет истину? Просто руководители ячейки «Друг детей» могли бы написать, каковы твои успехи в учебе, не баламутничаешь ли. Мы ведь тебе не чужие? Вот в конце месяца я сам буду в городе и тогда зайду к тебе в гости. Примешь?
«Подозревает», – окончательно решил Охнарь.
– Заходите, Тарас Михалыч. Угощу смородиной, черешней... из соседнего сада. К тому времени авось поспеет вишня, я знаю, где растет ранняя, шпанка; дойдут яблоки белый налив. Все фруктовые деревья в городе у меня на учете.
По улыбкам колонистов было видно, что Ленька для них сегодня герой дня. Авторитет его сбить было невозможно.
Колодяжный вдруг дружелюбно усмехнулся, переждал шум и привычным голосом человека, уверенного в своей власти, сказал:
– Сегодня, друзья, вы все взбудоражились: гость приехал! Действительно, гость у нас дорогой. Леня Осокин – птенец из нашей скворечни. Мы теперь гордимся им, любим. Так что у нас, хлопцы, сегодня двойная радость: и старого товарища принимаем, и дождь прошел добрый, а его мы тоже давно-давно ждали. – Воспитатель командирским взглядом обвел колонистов. – Дождь кончился, на дворе провяло, а поэтому айда все на работу. По холодку. Завтра воскресенье, целый день проведете с Леонидом, наговоритесь досыта. Да мы его попросим выступить перед нами.
Дежурный по колонии уже звонил во дворе в подвешенный рельс.
«Вот как поворачивается дело, – думал Ленька. – Заставляет выступить перед ребятами, рассказать об успехах».
– Пож-жа... – Сказал он развязно. – Могу и выступить. Отчего не потрепаться перед пацанами?
– Лучше не трепаться, – поправил Колодяжный, – а побеседовать.
Во дворе колонисты стали разбирать инструмент, кое-кто наскоро точил его. Ребята, девочки группировались вокруг артельных старост, чтобы идти по своим рабочим участкам.
– Вы, Юсуф, буряки полоть? И я с вами, – вызвался Охнарь. – Тяпка найдется?
– По работе соскучился? – обрадовался Владек.
– Молодец, Леня, – сказала Юля Носка, – сразу видать: свой колонист. А я хотела было тебя позвать с нами, да посовестилась.
– Когда-то не совестилась меня лодырем называть. Помнишь, я раз в бурьянах заснул? Ты глядишь: ни цыплят, ни сторожа!
Вновь, теперь еще дружней, засмеялись колонисты.
Тут в общий разговор вмешался Колодяжный и сказал, что неудобно гостя сразу отправлять на работу. Он положил свою тяжелую руку на плечо Охнаря, как бы не отпуская его от себя.
– Я сейчас тоже пойду на плантации и захвачу Леонида. Так он сразу и лучше увидит всю колонию.
Для Леньки стало совершенно очевидным, что ему предстоит длинный и нудный разговор с воспитателем. Объяснений Охнарь не любил. Как-то выходило так, что они всегда складывались не в его пользу. Дело, по его мнению, заключалось в том, что он, Ленька Охнарь, был парень-рубаха и орудовать любил в открытую, напрямик. Правда, нередко случалось, что он не успевал заранее обдумать свои поступки. Появилось вдруг желание – он и выполнял его. Чего долго философствовать, мямлить, раз надо действовать? Зато он всегда ратовал за справедливость. Надо сознаться: справедливость эта обычно заключалась в том, чтобы ему, Леньке, не мешали весело и беспечно жить на свете. Но почти, как правило, воспитатели начинали копаться во всех его поступках, словно доктора в кишках, выворачивали их и так и этак, просвечивали с какой-то совершенно неизвестной стороны и.., вдруг умудрялись находить в совершенно «здоровом теле» «больной дух». А уж в этом визите в колонию, где его вина была так же наглядно видна, как горб у верблюда, Колодяжный и подавно сразу разберется. Не ругаться же с ним? Вон и Владек Заремба почувствовал, что воспитателю необходимо поговорить с гостем.
– В самом деле, отдохни, Леня. А ужинать сядешь за наш стол и спать пойдем вместе в клуню к Омельяну.
И когда звенья колонистов, вызывая у Охнаря зависть, растеклись по плантациям, он остался один с воспитателем. Ленька решил держаться начеку, не совать шею в расставляемые петли вопросов, отвечать не сразу, обдуманно, как он это делал когда-то у тюремного следователя или во время приводов в отделение милиции. «Да. Нет. Забыл. Откуда я знаю?» Просто любопытно, с чего начнет Колодяжный его «путать».
Воспитатель начал с кладовой.
Привел Охнаря к завхозу, попросил отвесить для гостя полфунта медовых пряников, – видно, получили из города. «Умасливает», – решил Ленька и еще больше насторожился.
По мокрой черно-лиловой дорожке они отправились на лекарственную плантацию: Тарас Михайлович хотел посмотреть, как пропалывают наперстянку. Ленька все ожидал каверзного вопроса; почему-то Колодяжный не задавал его. Вообще, казалось, он и не собирался начинать объяснение. Наоборот, сам рассказывал о жизни в колонии, о том, что прошлогодний жеребенок вырастает в славного коня, что они в бочаге сделали вышку для прыганья, что на птичне (помнит Леонид свою прошлую работу на ней?) появились новые жители, цесарки, что оформление стенной газеты «Голос колониста» с его отъездом победнело, но выходит газета регулярно два раза в месяц.
В недавно еще пасмурном небе показались голубые проемы, широкий, пыльный, светящийся луч скользнул сквозь облака, словно солнце высунуло ногу в окошко и собиралось вот-вот вылезти само. Обмытая крыша колонии заблестела, будто ее только что покрасили. Обычно после дождя у Охнаря появлялось какое-то обновленное состояние духа; сейчас он шел за воспитателем, внутренне упираясь, как осел за хозяином. Когда они равнялись с осинками или соснами, легкий ветерок то и дело стряхивал на них с веток дождевые брызги.
– Скучал, значит, по колонии, Леонид? – спросил воспитатель, ласково улыбаясь.
Это был первый вопрос, который он задал. Как будто никакого подвоха в нем не заключалось, и потому Охнарь ответил вполне искренне.
– Скучал, Тарас Михайлович. Приехал ну... прямо как домой. Родился я, как вы знаете, в Ростове-на-Дону, но тетка у меня стерва была, да и не знаю, живая ль. Мабудь, и знакомых-то никого не осталось. А тут все свои. Только новичков много, и они какие-то... мелкие, смирные. Совсем на колонистов не похожи.
Колодяжный усмехнулся в рыжие усы.
«Чего это он?»
– А ты как же думал, Леонид? Нам без конца будут присылать великовозрастников и отпетых уркаганов... вроде Зарембы, тебя? Это время, дружок, отошло безвозвратно. Откуда таким браться? Многие воровские притоны разгромлены, милиция вылавливает на вокзалах, из асфальтовых котлов последних маленьких бродяжек. Теперь во все колонии и детдома действительно одна мелочь пойдет: круглые сироты, у которых умерла родня. Так что кончилась дешевая и грязная блатная романтика, начинается романтика трудовая.
Вот так номер! Охнарь забеспокоился: не помешает ли это его намерению вернуться обратно в колонию?
– А старшие ребята – Юсуф, Владек, Юля, Охрим Зубатый? Так и будут жить с этими... детишками? Здорово им интересно! – сказал он, забыв, что решил только отвечать на вопросы воспитателя: «Да. Нет. Откуда я знаю? Не помню»..
– Колония, дружок, не монастырь, оставаться тут долго нечего. Ты вот ушел в большую жизнь, а думаешь, товарищам твоим не хочется? Они давно оперились, пора брать в руки профессию, учиться. Безграмотность – плохой паспорт в нашей стране. Скоро все старички полетят из этого гнезда.
– Так что же это будет за колония, – возмутился Охнарь. – Разве новая мелочь сумеет пахать, корчевать пни, ходить за конями, рыть ямы под шалфей?
Тарас Михайлович посмотрел на своего бывшего воспитанника с одобрением.
– Однако, Леонид, у тебя неплохо котелок варит, как говорят наши хлопцы. Толково рассуждаешь. Только к поднятому тобою вопросу надо подойти совсем с другой стороны. Много ли у государства останется воспитанников этак... ну, годков через пяток? Я тебе сам отвечу: вместо миллионов – какие-нибудь сотни тысяч. Причем сплошного малька. Колонии – явно временное мероприятие. Вместо них воспитанников начнут направлять в обычные девятилетки, где сейчас учишься и ты, или в профшколы, которые стали создавать по типу дореволюционных ремесленных училищ, то есть детдомовцы даже и внешне ни в чем не будут отличаться от других детей... «маменькиных сынков», как вы их окрестили на улице.
Ну и ну. С каждым часом становится не легче. Значит, «маминых детей» Леньке нигде не миновать? Неужели это правда? Вот жизнь какая треклятая!
Ленька мысленно плюнул на всю эту философию и стал рассматривать знакомые места. Вон за деревьями блеснул бочаг. Сколько раз купался в нем Ленька, загорал на бережку. Утречком можно попробовать и сигануть с вышки. А вот совсем новый свинарник под желтой прошлогодней соломой: хрюшек заводят?
Больше Колодяжный не задал ни одного вопроса. Примолк и бывший воспитанник. В голове у него, словно кость в горле, застряла мысль: необходимо обстоятельно покалякать с ребятами.
IX
После ужина Охнарь со старшими хлопцами отправился спать в клуню. Там было чисто, пахло прошлогодней рожью, в гнездах под соломенной застрехой ворочались, тихонько попискивали воробьи. Колонисты бросили на душистое свежее сено большой жесткий брезент, на котором осенью сушили зерно, постелили в ряд простыни, подушки и улеглись.
После расспросов об отпуске, разговора с воспитателем Охнарь было совсем приуныл, но теперь он опять повеселел. Как тут хорошо!
Луны не было видно, она стояла где-то над лесом, за клуней, но резкий свет ее заливал землю, листву двух пирамидальных тополей. Отчетливо виднелись ближние хаты хутора: белые стены их, казалось, светились. Тихо было вокруг. Изредка в каком-нибудь дворе залает собака, да и та скоро замолкнет, точно и ей хочется понаслаждаться этой ясной теплой украинской ночью. Временами от бочага, от лесных не– просыхающих луж доносилось смягченное расстоянием: «Уорррр... уоррр... уоррр». Это кричали поздние зеленые озерные лягушки: казалось, они кого-то убаюкивают.
За квадратом двери косо и бесшумно пролетел нетопырь.
Уткнувшись лицом в брезент, Охнарь раза три подряд глубоко вдохнул запах увядших скошенных трав.
– Прямо как... сироп какой пьешь.
– Это верно, – сказал сторож Омельян и дернул черным усом. – Этот суроп кони наши не только пьют, а и едят. Хочешь, и тебе кину охапку сенца, пожуй.
– Я и сам могу взять, – засмеялся Охнарь.– Не знаю, где стог, что ли? Немало я с тобой за саврасыми походил, из хвоста репьев у них потаскал.
Посмеялись. И сторож и каждый хлопец старались заговорить с Охнарем, напомнить какой-нибудь случай из его жизни в колонии: как он отказывался картошку окучивать, как ловчил на раскорчевке пней, как с шахтерским фонарем гонялся за ворами, как прославился на птичне с загородкой и с выпуском газеты. Гость был свой, близкий, каждому хотелось перекинуться шуткой, словцом.
Вскоре Омельян заснул, и тогда между хлопцами начался «настоящий» разговор. Колонисты расспрашивали Охнаря, как он живет в городе. Ленька поведал, что опекун у него «мужик – во! на большой, с присыпкой». Бывший кочегар. Плавал во всех океанах и на море. Поняли? Рассказал и о том, что он, Ленька, никого не боится в школе, а из своих шестых параллельных любого вызовет на левую ручку. Однако, видно, не это интересовало колонистов. Они то и дело перебивали Охнаря вопросами: много ли бывает уроков, строгие ли учителя, какие предметы?
– Трудно тебе, Лень, заниматься?
Охнарь хотел пренебрежительно присвистнуть: «Что вы, хлопцы! Чи я меньше знаю этих фраеров?» Но с языка почему-то сорвалось:
– Трудно, братцы. Догонять приходится, многого не понимаю – хоть тресни! Основ не хватает. Не хотел, ишак, в детдомах учиться, вот и проездил зайцем всю учебу. Ну, да теперь решил грызть гранит науки – хоть зубы долой!
Он тут же пожалел, что снизил свой авторитет в глазах ребят. С этюдником приехал, козырь в девятилетке, а в занятиях простая шестерка. К удивлению, никто из ребят не хихикнул, не сострил.
– Все мы отстали, – задумчиво сказал сосед слева. – Не тому учились на воле.
Юсуф, наоборот, стал утешать:
– А легко тебе, Охнарик, был первый время в колонии?
– Завидую тебе, Ленька! – с жаром воскликнул Заремба. – Уже учишься, в науку вцепился. А мы вот только с осени.
– Тоже в школу погонят? – участливо спросил Охнарь. – Ведь на селе ж только четырехклассная?
– Четырехклассная, – проговорил Владек Заремба, не замечая тона друга. – В нее, как сам знаешь, малыши наши ходят. А мы, старшие, готовимся к выходу на волю, только не на старую волю. Юля Носка и Сенька Жареный на рабфак подают. Тут их сейчас все воспитатели готовят. Юсуфу скоро в армию, он тоже хочет в школу курсантов, с грамматикой русского языка и спать ложится.
Знаю теперь, кто подлежащий, кто сказуемый, кто глагол, где какой род, – засмеялся Кулахметов.
– Я какого рода? – спросил его Охнарь.
– Бестолкового.
Колонисты захохотали. Охнарь громче всех.
– А куда ты сам, Владя, собрался? – спросил он потом, вновь обретая безмятежное расположение духа.
– Хочу сперва на завод, – не сразу ответил Заремба. Чувствовалось: вопрос задел самые заветные его думы. – Отец мой котельщиком был. В Лодзи работал, в Познани. Хочу и я в рабочем котле повариться, а там – в совпартшколу. Понимаешь, люблю организаторскую работу, На своей шкуре испытал, как много советская власть сделала для человека и. душу за нее положу, увижу паразита – перерву горло. Предлагали мне тут на курсы поехать, в Изюм, а после поступить воспитателем у нас же в колонии, да я не хочу, К тому же Тарас Михайлыч уходит.
– Куда уходит? – встрепенулся Охнарь. – Зачем?
– Забирают, брат,– гордо ответил Владек. – Заведующим! Тоже в колонию, но в областной центр. Там у него будут производственные мастерские.
Те, те, те! Совсем, значит, колония меняется? Да! Без Колодяжного станет уж не так интересно. Не ожидал Ленька услышать здесь столько Новостей. Может, именно поэтому он совсем равнодушно отнесся к сообщению о том, что долговязый пекарь Яким Пидсуха живет в Нехаевке. Вошел в приймаки к немолодой вдове с четырехлетней дочкой. Зато теперь у него пара рябых волов, кобыла, овечки, сад: хозяйствует. Отпустил усики, колонистов сторонится.
Двое из ребят задремали. Луна светила так же ярко, но слева появилась тень от тополя, словно кто бревно бросил на землю.
Горизонт на востоке слегка забелел, и стала заметна легкая тучка над ним. В колонии, на птичне, заорал петух, ему отозвались петухи на хуторе, и протяжная голосистая перекличка всколыхнула ночную тишину. Сильнее, душистее запахло сено, оно стало волглым. Хлопцы вышли из сарая покурить перед сном. Оказывается, упала роса, трава тускло блестела и была мокрой. Откуда-то с поля набежал ветерок, сонно зашепталась листва тополей. Где-то в лесу, за бочагом, крикнул филин. Сладко зевая, колонисты улеглись на свои умятые места.
– А какую у нас, Ленька, библиотеку завели, посмотришь завтра, – мечтательно сказал один из хлопцев.
И опять все вдруг заговорили разом. Охнарь с благодарностью вспомнил Оксану. Он тоже мог назвать и «Детство» Льва Толстого, и «Оливера Твиста» Диккенса, и «Слепого музыканта» Короленко, и «Хижину дяди Тома» Бичер-Стоу, подаренную Буч– мой, которого он так по-хамски обидел, и еще добрый десяток книг.
– У меня тут стихи есть, – горячо сказал Владек и, порывшись в сене, достал вчетверо сложенную газету. – Вот. В «Комсомольской правде» напечатаны. Поэт Эдуард Багрицкий, называется «Дума про Опанаса», о гражданской войне. Хотите, почитаю? Закачаешься.
Он свободно стал читать при лунном свете, и Охнарь выслушал литые, звенящие строфы о своем любимом легендарном герое:
Долго бы еще, наверно, проговорили хлопцы, да проснувшийся Омельян цыкнул: «Годи. Разыгрались, как жеребцы стоялые. Завтра дня не будет?»
Колонисты притихли. И когда дремота, казалось, совсем опустилась на клуню, смежила всем глаза, Владек Заремба вновь приподнял с подушки белокурую голову.
– Главное-то не спытал: как у тебя с комсомолом? Вступил?
– Только приехали в город, сразу побежал в ячейку, – сказал Охнарь, подмигнул и засмеялся.
Заремба сел, шурша сеном, долго молчал.
– Эх, ты... свой из помойной ямы, – раздельно с презрением сказал он. – У нас в колонии и то уже есть своя ячейка. Семь человек ребят приняли. Тут и Юля, и Якуб, Охрим Зубатый, я тоже.
– Это вы – комсомол? – вдруг расхохотался Охнарь и зажал ладонью рот, чтобы не разбудить товарищей, сторожа. – Вы? Да какая ж вы ячейка? Шпана! Ой, уморил!
Ответил Владек опять не сразу, словно всячески боролся, старался сдержать себя.
– Ну, недалеко ж ты ушел, Ленька. Правду на суде говорил Тарас Михайлович: закоренел ты, как... бородавка. Видал я разное жулье, дураков всех мастей, отпетых, недотеп, но таких лопухов, как ты, ни разу. А еще в городе живешь, в девятилетке учишься. Как тебя там не выгнали?
– Заве-ел! – задетый его тоном, враждебно сказал Охнарь. – Да ты, никак, Владя, все-таки в воспитатели метишь? Или, может, прямо в красные попы?
– Жалко, что ты гость, – яростно, шепотом проговорил Заремба.
Казалось, еще минута, и друзья поссорятся, как это не раз случалось в прошлом году, а то и пустят в ход кулаки. На попоне вновь зашевелился Омельян, и Владек скрипнул зубами, резко натянул на голову простыню, и повалился на соломенную подушку. Не стал спорить и Охнарь.
Он долго лежал не двигаясь, перебирая в памяти весь этот день, ночной разговор здесь, в клуне, и его удивило, как радуются колонисты и предстоящему ученью, и вступлению в комсомол. Ведь они тоже сядут на одну парту с «домашними», станут активистами. Может, действительно настало время, похожее на какой-то весенний разлив: куда ни ступи – вода, все вокруг бурлит. Один он, Ленька, вроде промерзшей кочки.
Странные вообще вещи творятся с ним. Только разберется с величайшим трудом в окружающей обстановке и подумает! «Ага, наконец я додул, какая теперь жизнь», – как, глядь, а все уже переменилось, родились новые запросы, понятия, и он остался позади, будто комок грязи за телегой. В самом деле, колония для него, как и для всех воспитанников, должна стать вчерашним днем. Сейчас хлопцы и девчата хотят одного: ученья. Учиться за партой, учиться за станком, учиться с винтовкой на плече, но только учиться, Идти в большую жизнь полноправными советскими гражданами. Чего же, спрашивается, он, Ленька, сюда приперся? Иль дурней всех?
«Уж не вернуться ль назад? – впервые отчетливо понял он то, что еще по пути сюда смутно стучало в сознании. – Но примут ли? Попросить разве прощения, как тогда в колонии?»
Гадко стало у Охнаря на душе, мерзко. Год назад каялся и опять? Раньше здесь судили, теперь в школе? И долго ли ему сидеть перед своими товарищами в роли оболтуса и разгильдяя, нового Митрофанушки-недоросля? (Охнарь прочитал комедию Фонвизина.) Когда ж он наконец почувствует себя равным со всеми? Не пора ли пошевелить мозгами?
Заснул Ленька беспокойно, так и не придя ни к какому выводу.
Утро принесло столько удовольствий, сколько оно приносит только в юности, когда каждый наступающий день встречается нетерпеливо, радостно, с ожиданием чего-то особенного, что должен подарить именно этот день. Вскочили старшие колонисты довольно рано, и сразу в клуне сделалось весело, шумно, и на повестку встало множество неотложных интересных дел, с которыми никак нельзя было мешкать. Охнарь не высыпался вторую ночь подряд, все некогда было, но это нисколько не отразилось на его настроении. Наоборот, поднимись Ленька позже и прозевай зорю, он очень бы огорчился.
– Покажем тебе все номера газет, что вышли.
– Стригунка теперь не узнаешь: вот сходим на конюшню.
– Рисовать-то когда будешь?
– Я барсучью нору в лесу нашел: хочешь посмотреть?
– Какое нам знамя шефы подарили!
– А сад, сад, – глаза вытаращишь! В акурат сейчас в цвету.
– Не забывайте, хлопцы: фотографироваться нынче.
Владек установил порядок дня:
– Ладно. Сперва на бочаг?
– Конечно. Не умываться ж у колодца!
Захватили мыло, полотенце и всей гурьбой отправились на речку. Окрестные жители еще не начинали купаться, но колонисты «открыли сезон» вскоре после разлива, едва отстоялась вешняя вода.
Обвитый легким туманом, затененный вербами, тополями, бочаг лежал темно-зеленый, неподвижный, точно бутылочное стекло, и казался бездонным. Мельничные постава молчали, лишь с однообразным шумом падала вода плотины, а внизу покачивались плети аира. Изумрудный головастый зимородок, сидевший на камне у берега, разбил сонную поверхность воды, вынырнул с рыбешкой в клюве и улетел в лес. В воздухе чувствовалась ночная прохлада, сырость, от невидимого в тумане хутора неслось мычание коров, утренний ленивый лай собак. Огненный восход окрасил бочаг только у западного берега.







