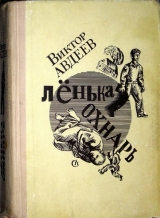
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 55 страниц)
– Если всыпать в дождевую бочку пуд соли, может, и мой линкор всплывет?
– Какой линкор? – Это Опанас ко мне.
Отвертываться было поздно, я повел его во двор.
Снял во дворе рубаху, перегнулся в бочку и достал. Зря я опасался. Опанас и не подумал смеяться.
– Модель линкора? – говорит. – Сам вырезал? Хорошо. Трубу и орудийную башню гвоздем приколотил?
Подкинул в руке раз, подкинул другой раз, да вдруг глянул на меня хитро-прехитро.
– Вот что значит, Леня, – говорит, —закон Архимеда плохо ты знаешь. Почему, спрашиваешь, потонул? Да вес твоего корабли получился тяжелей веса вытесненной им воды. Вот мы с тобой и сделали наглядный опыт по физике.
Мне будто фонариком присветили: все вокруг стало ясно. И не только ясно – какой-то интерес появился. Самому захотелось что-нибудь такое надумать.
И когда сдал Офене зачет (на «удочку» всего сдал), сам по самоличной инициативе втер ему закон Архимеда. Офеня чуток со стула не свалился. А я тут же попросил: «Запишите в физический кружок, как Опанаса. Опыты делать».
Теперь до свиданья репетиторы – адье, бонжур и вуаля!
Начну гонять в футбол, отдохну на всю губу. В Донце прямо закупаюсь,– а загарец приобрету – будьте покойны! Теперь и у меня есть нормальное детство.
23 августа 1927 г.
Опять ничего особенного не случилось, все время пропадаю на речке, но хочется позаписывать, иначе зачем было бы и дневник заводить? И так редко веду. Решил что-нибудь придумать.
Вот, например, подходят занятия в школе.
Что я сделал за лето? Беспощадно занимался с репетиторами и сдал все зачеты. Раз и это «раз» – главное. Правда, если мне описать в дневнике по совести, то получается другое. Учителя свободно могли меня засыпать и оставить на второй год. В ботанике, к примеру, я еще совсем-совсем мелко плаваю, а также па русскому. Русист мне сказал: «Вижу, Осокин, стараетесь». Это без дураков. Весь в мыле – вот как стараюсь. И достараюсь, что нагоню класс – не я буду. В общем, раз – это перешел в седьмой класс. Есть и два. Два – это я прочитал книжки. Вот какие: Короленко. «История моего современника». Загоскин. «Юрий Милославский». Еще прочитал «Ласарильо с Тормеса», про испанского беспризорника. (В этом сочинении на обложке нет автора, забыли написать.) Еще Помяловский. «Очерки бурсы». Здорово понравилось. Ох и ловко раньше драли школяров: «на воздусях»! А. П. Чехов. «Степь». Эту тоже прочитал и вспомнил родной Дон. Будто это я сам по степи ехал. Еще Толстой. «Аэлита». (Не тот Толстой, а другой Толстой, совсем не Лев.) Еще Свирский. «Рыжик». Это уж прочитал совсем про такую шпану, как был я, про «волю». Похоже на английского «Оливера Твиста». Ляшко. «С отарою». И прочитал разные другие книжки. (Перечислять я не буду, список у меня составлен в иной тетрадке, зачем же я буду второй раз перечислять?)
Еще, кроме чтения, я играл в футбол вратарем нашей улицы. Загорал. Работал в сельской коммуне «Серп и молот». Удил рыбу, и с дядей Костей ночью на Донце соменка поймали почти в пуд весом. На этом происшествии я перевернулся в воду, да тут же выплыл. Были и еще разные дела, всех не упомнишь. Вот еще: отец подарил Кеньке Холодцу велосипед, и я с ним тоже научился кататься.
В общем, все было очень интересно.
11 сентября 1927 г.
Эх, ходи, Ваня, я пошел,
Ты маленький, я большой!
Теперь я комсомолец! Вот обрадовался! А собрание было бурное. Конкретное. Я, признаться, сидел, как из-под угла мешком прибитый, аж дух заходился. «А вдруг, думаю, откажут?»
Все меня расспрашивали насчет моей автобиографии. Заведующая Полницкая дала мою полную характеристику и сказала, что я теперь парень подходящий. Спрашивали еще: буду ли я в комсомоле работать? Я сказал, что буду работать и зачем же я тогда в комсомол записываюсь? Потом Толька Шевров задал вопрос:
– В бога веришь?
А я ему смеюсь:
– Что же ты, Индюк, говорю, ломаешься, как на театре. Будто сам не знаешь. Что мне твой бог, штаны подарил?
А Шевров поглядел гордо, вроде меня и не узнал.
– Если вы, товарищ Осокин (вот даже как обозвал), если будете такие ответы отвечать, я вас из собрания освобожу. По уличному я, может, и Фазаном даже зовусь, это меня не интересует. Советую и вам на кличку Охнарь не отзываться, это только собак зовут по кличкам. Да и не «окурок» вы, а полноправный гражданин СССР. А за бога по уставу имею право спросить.
Я с ним согласился. Очень, конечно, нехорошо, что я оговорился насчет Индюка. Это уж я потом понял. Ну просто сорвалось. Ну, думаю, теперь меня угробят. Нет, смотрю, комсомольцы улыбаются, да и сам Шевров губы закусил, весь трясется. Поговорили еще там по уставу, что полагается, и решили, что остатки моей неорганизованности перевоспитают во мне коллективно.
Приняли меня единогласно, и даже не воздержался никто. Стали поздравлять, только здесь случай один случился. Подымается Офеня и говорит этак важно, как прокурор:
– Я хоть и беспартийный, но хочу дать совет. Тут еще разные неэтические тенденции изжить ему надо.
Это, значит, мне изжить.
Ну, я сразу смекнул, куда он метит. Опять, думаю, поклепы. Что это за «тенденции» разные понавыдумывал? Хотел покраснеть, но тут произошло такое, что я сейчас это опишу.
Встает со скамейки Кенька Холодец, волосы торчком, как у сердитой кошки, и протягивает Офене обыкновенный тетрадочный лист в клетку. Ладно.
– Нате, – пыхтит. – Специально принес.
А сам торжествует и глядит на меня.
– Что такое? – говорит Офеня и не понимает.– Опять рисунок?
Достал свои очки, глянул на листок, да тут же и свернул его в карман. Уж после я узнал, что это был за тетрадочный листок. На нем карандашом был нарисован голый костлявый рыцарь на кляче, с мечом, ну... тютелька в тютельку, как тогда в классе на доске и опять подписано про Мальбрука и поход. Тут Офеня как заревет:
– Опять те же художества? – и уставился прямо на меня, будто больше ему и смотреть некуда.
Уж теперь, как я ни крепился, не вытерпел и покраснел.
Собрание тоже на меня начало смотреть. Кто ничего не понимает и спрашивает: «Да в чем дело?» Кто, пока Офеня очки надевал, успел разглядеть рисунок. А кто просто вспомнил мою историю с фулюганством и головой качает. В общем, поднялось такое, что ничего не поймешь. А у меня точно винегрет в голове, совсем ошалел, коленки трясутся. И тут наконец Кенька, чтоб ему повылазило, говорит опять:
– Так он, Клав Палыч, тут дожидается с ребятами за дверями. Что с ним делать?
– Да кто «он»? – совсем взбеленился Офеня.
– Известно кто: Садько, – говорит Кенька Холодец и удивляется. – А то про кого же я говорю? Про Садько, ясно. Мое слово закон.
– Как Садько? Так это Садько тогда и на доске рисовал? А мел из шкафчика? И это его дело? – Это спросили все чуть не разом.
– Ясно, как в учебнике. – Это Кенька им. – Он, Садько, и на доске рисовал. Сам признался, как я у него мазню эту увидал дома, в старой тетрадке. И мел тоже. Там шкафчик и ломать было нечего, петля-то сама выскакивала.
И опять на меня глядит и торжествует.
Опять шум поднялся, как на базаре. Конечно, все собрание на меня стало смотреть совсем с другой стороны. Офеня навел порядок и говорит важно как ни в чем не бывало:
– Так как, – говорит, – Осокин сумел оправдаться, то я беру свое заявление назад. А Садько я сниму с урока и пускай без родителей не является в школу.
Я тогда встаю и говорю ему:
– Оправдываться я и не думал уметь, а оправдало меня время. Важен не поступок, а как к нему относишься. (Это я уже опекуновы слова сказал.) А тенденций ваших я все равно не боюсь.
Досказать до конца мне не дали ребята. Секретарь Шевров сделал заключение.
– Тем лучше, – говорит, – что Осокин не рисовал. Но все равно мы берем ребят в ячейку, чтобы воспитывать их в коммунизме.
Уж тут меня многие просто за руку потрясли. И Офеня тоже. Он сказал: «Я очень доволен». И я сказал, что тоже доволен, и сам ему потряс руку.
15 сентября 1927 г.
Опять ничего не происходит. Что это у меня за жизнь наступила? Раньше, до колонии, бывало, то подерусь, то чего-нибудь сворую, то в милицию попаду, нарежусь пива – всегда есть какие-нибудь происшествия. А тут даже не знаю, что записывать в дневник.
Учусь, и мне это интересно, не то что раньше было. Решил ни по одному предмету не допускать отставаний, а также ни «сокращать» уроки – да так и зубы целее будут, а то я их совсем залечил в амбулатории. Теперь мне легче заниматься, нету хвостов в предметах, как это было в шестой группе. Вот только еще по физике качаю, но тут мне стал помогать сам Офеня.
Он такой теперь внимательный, что я решил – он и вправду мужик подходящий. Надо нажать на его предмет, а то неловко будет.
Дома я единолично таскаю воду: нужно раскрепостить женщин от плиты и колодцев. Я и дрова сам колю. Вообще, дядя Костя говорит, что человек, какой с утра до вечера ничего не делает в смысле ручной, физической работы, – неполноценный. Огород – его участок, но я и тут помогаю. Мне это нипочем, я еще в колонии привык.
Да, чуть не забыл. Опишу еще один случай.
Встретил я вскоре после того Садько на улице. Хотел ему морду начистить, да вспомнил, что я комсомолец и по уставу драться не полагается. Прямо жалко стало, надо бы попозже вступить. Очень уж кулаки чесались.
– Зачем же ты, Мыкола, – спрашиваю, – меня подсиживал? Рисовал такие нецензуры? Я тебе соли на хвост насыпал или в кашу наплевал?
Он только носом сопит, сжался весь.
– Я сам, – говорит, – не знаю зачем. Знал, что твое дежурство, и хотел, чтобы ты позлился. Я не думал, что это Офене попадет на глаза. А увидал, как на тебя насели, и... побоялся признаться.
Да как захнычет самыми настоящими слезами.
– Ну ладно, – говорю, – тип ты замечательный. Зуб на тебя я не держу, потому что сам на этом деле кое-чему научился. Только не мокни, пожалуйста, и больше этого не делай, а то рожу растворожу, зубы на зубы помножу.
Я справился у ребят про автобиографию Садько. Бабка у него монашкой была, отец мясник, по дворам бьет скот, на базаре туши рубит, а старший женатый брат держит лавочку, разными петлями от дверей да рогожами торгует. В общем, дух залежалый, ближе от нэпманов живут, чем от социализма. Конечно, свой, советский парень разве станет такую пакость рисовать в классе и свинью товарищу подкладывать? Надо мне будет взяться и подействовать на него морально в другую сторону.
XVI
Солнце золотится на резьбе старой гнилой беседки, спрятавшейся в гуще заросшего и желтеющего по-осеннему сада. Внутри беседки полутемно, сыровато, пахнет паутиной, Земляным полом и увядшей ромашкой: старый букет ее валяется в углу. Сквозь полузасохший местами красный дикий виноград, обвивающий деревянные колонки, в беседку падает пыльный яркий солнечный столб, точно льется косой светящийся дождь, и в этом свете горят листья винограда; те, что в тени, кажутся глянцевито-темными и синеватыми.
На вытертой камышовой циновке, расстеленной по сырому полу, полукругом расположились три фигуры. В самом дальнем углу неудобно согнулся Опанас Бучма. Около него, опираясь на локоть, полулежит Оксана и, взяв в руку толстую косу, сама не замечая того, тихо покусывает ее. Охнарь, в расстегнутой блузе, с растрепанными волосами, сидит впереди всех на коленях. Его перепачканное в красках лицо задумчиво и сосредоточенно, губы сжаты. На скамеечке разбросано несколько антоновских яблок.
Тихо. Все трое внимательно смотрят в одно местом – на картину, прилаженную на старый мольберт.
– На школьной выставке она будет самая лучшая,– произносит Оксана таким голосом, точно боится разбить что-то хрупкое.
Молчание.
Опанас говорит серьезно и тоже тихо:
– Тебе, Леня, после девятилетки надо на художника учиться. В Москву ехать или в Ленинград, прямо в академию.
– Там посмотрю, – слегка краснеет Охнарь.– Мне еще в строители хочется. Возводить новые заводы, вокзалы, – это вот да! А ты сам кем думаешь стать?
– Геологом.
– Чего это такое?
– Ну... буду исследовать землю, раскрывать недра. Стране нужны золото, нефть, вольфрам...
– А я агрономом, – вставляет Оксана. – Закончу вуз, выберу сельскую коммуну, вроде нашего шефа «Серп и молот», и поеду туда работать.
Новая пауза.
– А как, Леня, ты назовешь свою картину? – по-прежнему негромко спрашивает Оксана.
– Как-нибудь... сам еще не знаю как.
И, покосившись на ребят, Охнарь опять жадно, горделиво и радостно смотрит на картину.
На большом куске фанеры из-под ящика, со следами дырок от гвоздей, масляными красками нарисован беспризорник с толстыми, немного вывернутыми ногами и толстыми щеками. Наступив ботинком на сброшенные лохмотья, он надевает на пионерский костюм красный галстук, и лицо его улыбается во весь рот. Фон картины представляет, с одной стороны, завод, выкрашенный кармином, с черными завитушками дыма из трубы, с другой стороны, сельская коммуна с трактором на первом плане. Около беспризорного в деревянных позах стоят несколько ребят. У них тоже толстые, слегка вывернутые ноги, вокруг шеи повязаны красные галстуки, румяные лица похожи одно на другое. Надо воем этим, веером разбросав расширяющиеся кверху лучи, восходит огромное желтое солнце. Нижними лучами оно упирается в землю, а верхними в небо, до самой рамки. Картина еще не совсем закончена, но основные группы написаны, и только не хватает кое-каких деталей – нескольких мазков кисти.
Дорога в Сокольники

I
Бурлящий поток пассажиров вынес Леонида Осокина из тоннеля на широкую привокзальную площадь, выложенную голубоватым отшлифованным булыжником.
В уши ему яростно ударил звон трамваев, цокот копыт, треск извозчичьих пролеток, редкие гудки автомобилей, крики горластых газетчиков, лоточников.
Напротив, за чугунными решетками небольшого сквера, скамейки были заняты транзитниками, зорко сторожившими тощие мешки, фанерные баулы, скрипучие корзины. Неподвижная листва кленов, отцветающих лип еще хранила утренний глянец. Окна ближних громадных домов ловили солнце, дробили его в стеклах, выбрасывали ослепительные стрелы.
Гул многомиллионной столицы витал над яркой, словно движущейся площадью. Леонид выбрался из потока, поставил новенький чемодан, блестевший стальными наугольниками и замками, положил сверху синее бобриковое пальто-реглан, вздохнул всей грудью, огляделся.
«Вот она и Москва».
Сюда он стремился семь лет назад, беспризорником, – и не попал. Что же осталось в нем, молодом слесаре Осокине, от бездомного, шкета, вора?
Леонид покосился на свой серый, в красную нитку пиджак, на ремешок от карманных часов, на синие шевиотовые брюки, тупые носки желтых ботинок. Вкус к яркой, пестрой одежде – вот все, что осталось у него от воровских привычек, (Однотонные костюмы Леонид считал признаком чиновничьей муштры.) А теперь, через две недели, он собирался стать студентом. Должен стать! Неужто провалится на экзамене? Быть того не может.
Дорогу ему пересекла девушка в свеженьком халате, малиновом берете. Перед собой она неторопливо толкала голубую ручную тележку с крупной косой надписью через всю стенку: «Мороженое».
Дайте, пожалуйста, вафлю, – неожиданно для себя попросил Леонид.
Девушка окинула его быстрым взглядом и остановила тележку.
Осокину весной исполнилось двадцать лет. Года три назад он как-то неожиданно вытянулся, раздался в плечах, заговорил сочным, окрепшим голосом; по-прежнему горделиво, круто выпирала его сильная грудь, но движения потеряли резкость, угловатость, кисти рук стали по-мужски широким Кудрявые каштановые волосы Леонид зачесывал набок, небрежно, без пробора, считая его признаком пижонства, недостойным пролетарского парня. Как и раньше, задорно oттопыривалась его верхняя губа, покрытая темным густым, пушком, легкий румянец красил щеки, обросшие по линии челюсти светлым, курчавым, почти незаметным волосом. Сиреневая косоворотка, расшитая по вороху, открывала юношески округлую, загорелую шею. Серые глаза под темными бровями смотрели прямо, ясно, и в них читались то вызов, то внимание, то бездумная беспечность.
– Вам какое? – чуть кокетливо спросила девушка, снимая крышку с двух медных ушатов, стоявших в наколотом льду, и улыбнулась: – Крем-брюле? Или сливочное? То и другое?
– Неужели я кажусь таким прожорливым? – шутливо сказал Леонид. – Хватит и одной. Сорт – на ваш вкус.
– Я не к тому, – смеясь, проговорила мороженщица. – Может, вы с товарищем приехали?.. Или с подружкой?
– Рано еще мне о подружках думать.
Хромированной лопаточкой она ловко наложила ему в формочку снежно-зернистого сливочного мороженого, подала. Леонид двумя пальцами подхватил порцию за верхнюю и нижнюю вафли, лизнул. Заплатив, небрежно сунул новенький кошелек во внутренний карман пиджака.
Мороженщица легко толкнула тележку, ушла игривой бойкой походкой, зная, что он посмотрит ей вслед. И Леонид действительно проводил ее долгим взглядом.
Девушки волновали его, притягивали. Встретив какуюнибудь хорошенькую, он, не отдавая себе отчета, словно пытал судьбу: не она ли станет его подругой?
Малиновый берет мороженщицы затерялся среди множества голов.
Десять минут спустя Леонид стоял на задней площадке трамвая, громыхавшего к центру, и прижимал ногой чемодан к зыбкой, собранной гармошкой железной решетке. Навстречу летели свежеполитые тротуары, заполненные густой толпой нарядно разодетых загорелых москвичей, мелькали дома причудливой архитектуры – от желтых облезлых дворянских особняков с башенками и каменными львами у подъездов до пузатых купеческих хоромин с узенькими окнами, ошелеванных мещанских флигелей во дворе с густыми тенистыми садиками.
Леонид с жадностью во все вглядывался, и ему казалось, что он попал в пенистый водоворот.
«Домищ-то! Людки! – думал он. – Не то что в нашей задрипанной Основе. Хоть в лепешку разбейся, а надо тут кинуть якорь».
Он испытывал радостное чувство подъема и в то же время был немного растерян, ошеломлен оглушающей сутолокой. Такую растерянность всегда чувствует человек неустроенный, одинокий, не вполне уверенный в своем будущем. Несмотря на победительный вид, в душе Леонид изрядно робел.
Опять, и уже в который раз в жизни, перед ним встал прежний вопрос: примет ли его новая обстановка, среда? Не окажется ли он на рабфаке лишним? Понравятся ли приемочной комиссии его рисунки? Снова пытать счастье, снова устраиваться, карабкаться на очередную ступеньку, когда вокруг все чужое, незнакомое. Приноровится ли он? Есть ведь такие счастливчики: «от соски до папироски» уютно гнездятся в семье, оберегаемые родительским крылышком от резких толчков. Все им готово: вкусный завтрак, чистый костюмчик, сильное плечо, на которое можно опереться, чтобы сделать прыжок в институт или на тепленькое служебное местечко. Ему же, Леньке Охнарю, везде приходится пробиваться своим плечом, все добывать своими руками.
Сделав пересадку на другой трамвай, он сошел у Мясницких ворот и, задрав голову, глядя на таблицы номеров, долго отыскивал нужный дом.
Здание рабфака искусств оказалось четырехэтажным, грязно-желтым – типичное учреждение. Парадные двери были наглухо закрыты. Вывеску Леонид обнаружил у прохода во двор со стрельчатой аркой. Здесь, среди нескольких табличек, извещавших о том, что в такой-то квартире врачуют мочеполовые болезни, а в такой-то живет машинистка, берущая на дом перепечатку, и помещается граверная мастерская, висела под стеклом неприглядная дощечка: «Рабфак искусств».
Не сразу в полутемном дворе Леонид нашел дверь. Добрая полдюжина подъездов, зевая, глядела на него изо всех углов двора; сотни окон равнодушно блестели стеклами.
Вспотевший, Леонид в затруднении остановился, держа в руках чемодан, пальто, и наконец вынужден был обратиться к прохожим. Двое вообще не слыхали о таком учебном заведении; третий жилец равнодушно кивнул на грубую, обшарпанную дверь: «Ступайте туда».
Осокин был обескуражен. Школу искусств он считал чем то вроде святыни и по душевной простоте полагал, что о ней знает и шумит вся Москва.
В длинном полутемном коридоре сильно пахло известкой, олифой. Заросшие пылью окна скупо пропускали яркий дневной свет, пол был забрызган мелом, в углу стояла грязная стремянка, валялись пустые ведра, похожий на метлу помазок для краски с длинной, пестрой рукоятью. Широкая «барская» лестница вела наверх, у коричневых липких перил висела бумажка с карандашной надписью: «Осторожно окрашено». Ни людей, ни таблички, извещавшей, где учебная часть.
«Что за черт, – подумал Леонид. – Где же канцелярия? Или хоть швейцар? Неплохо встречают! Коли так – будем действовать сами».
Запустение увидел Леонид и на втором этаже. Лишь гулкое эхо его шагов раздавалось под высоким потолком грязного и пустого коридора. Здесь было множество дверей – наверно, аудитории. Неожиданно в противоположном конце коридора мелькнула темная фигура и так же внезапно исчезла. Леонид открыл ближнюю дверь, вошел. Совершенно верно: пустая аудитория. Небольшие черные столики и стулья сдвинуты в один угол, нагромождены горой до потолка. В спертом, нагретом солнцем воздухе, охраняемом закрытыми окнами, пахло сыростью, плесенью, ссохшимся деревом. Стены, потолок светились чистейшей побелкой, пол был неимоверно замусорен.
Теми же признаками ремонта были отмечены и соседние аудитории. Леонид заглядывал в каждую, тщетно ища следы присутствия человека.
Вдруг перед ним опять, но гораздо ближе, мелькнула та же темная фигура и вновь исчезла. Что за хреновина? Какое– то привидение, но, вопреки всем правилам, темное. Кого это носит?
Терпеливо разглядывая аудиторию за аудиторией, Леонид совсем забыл о блуждающем существе, когда двери столкнулся с ним нос к носу. Оба слегка вздрогнули от неожиданности.
– Вы не канцелярию ищете? – спросило «привидение».
Оно оказалось скуластым пареньком лет девятнадцати, в черных, аккуратно зашнурованных тупоносых ботинках. Из-под сдвинутой на затылок кепки выглядывал белокурый клок, похожий на «коровий зализ».
– Да хоть что-нибудь, – ответил Леонид.
– Я вас давно заметил, но не мог поймать.
– И я. Мы с вами будто в кошки-мышки играли.
– Оба вдруг рассмеялись.
Паренек был плотно сбитый, верткий, сдержанные, короткие движения его напоминали силу сжатой пружины. Лицо у него было чистое, розовое, с небольшим носом, пиши совершенно белые, и левый тронут маленьким бельмом: обычно фотографы зрачки таких глаз подрисовывают карандашом. Серая каламянковая рубаха без галстука, с пристежным воротничком, туго стягивавшим шею, была явно тесна, и диагоналевые брючки, круглые, словно двуствольное ружье, видно, никогда не утюжились.
Вы сюда поступать? – спросил парень, с уважением покосившись на пальто и чемодан Леонида,
– Хочу попытать судьбу-сучку.
– И я за ней бегаю, может, удастся за хвост ухватить. Не в ИЗО, случаем? Правда? Вот здорово! Я тоже на художника.
Обрадовался и Леонид. Оба вдруг почувствовали себя союзниками, которым вместе придется брать крутизну: можно подпереть друг друга плечом, удержать от падения. Это вселяло взаимное расположение.
Паренька звали Иван Шатков, приехал он из Баку. Осокин сообщил, что лет шесть назад жил в этом городе в баркане. Белые, почти невидимые брови Шаткова скакнули к белокурому зализу, он втянул губы, словно увидел невесть что, и вдруг радостно и сообщнически ткнул Осокина локтем в бок:
«Своими» называют друг друга жулики.
– Заслуженный обитатель мусорного ящика, – весело кивнул Леонид. – И ты?
– Натурально! Держи пять, – и Шатков коротким энергичным жестом протянул крепкую руку. – В киче жирок нагуливал? Я тоже. После я воспитывался в Бакинской труд-коммуне, вкалывал токарем. Совсем уж окопался; монету стал заколачивать, да, понимаешь, рисование... зудит и зудит. Братва, мастер, воспитатели в оба уха дуют: «Художник ты, Ванька». Как у Чехова про кобеля Каштанку: «Талант! Талант! » Вот и сыпанул сюда, в Москву, на рабфак искусств.
Со стороны можно было подумать, что Осокин и Шатков били давно и коротко знакомы, не виделись несколько лег я вдруг случайно встретились. Осокин почувствовал, что он уже не одинок в этом огромном городе.
– Одолеем ли экзамены? – спросил Иван Шатков, и в голосе его проскользнуло сомнение. – Примут ли?
– Хрен его знает. Где наша не пропадала!
– Ты чего кончил?
– Восемь классов.
– Ого! Ну ты-то наверняка выдержишь. А у меня только шесть. Лады, чего хныкать? Вернусь обратно в Баку. Заведующий так и сказал: «Завалишься – снова примем к станку».
– Не-ет, – решительно протянул Леонид. – Назад пускай мухи летают да раки ползают. Я нынче решил окончательно: срежусь на экзаменах – все равно зацеплюсь в Москве, На завод пойду, наймусь грузчиком, а обратно – ша, атанде!
В обоих так глубоко сидел уличный жаргон, ухватки, что при воспоминании о воровской «житухе» невольно изменилась речь, манеры. И потом еще долгие годы Осокин замечал за собой эту особенность, но не мог ее вытравить, – так трудно бывает вытравить въевшуюся в кожу татуировку.
Шатков, видимо, взвесил ответ Леонида, принял к сведению.
– Ты совсем буржуй, – шутливо сказал он, кивнув на осокинское пальто, и ткнул пальцем в чемодан: – «Угол» какой!
Почетное место в чемодане занимал ореховый этюдник с масляными красками и небольшие, написанные Леонидом холсты, в основном пейзажи. Остальное имущество составляли рубахи, трусы. Вообще чемодан был легче, чем это хотелось бы его владельцу.
– Спрашиваешь! А твое барахло где?
– Гардероб? Вот! – Шатков показал на зажатую под мышкой папку, – Носовой платочек и альбом с рисунками.
– Ничего, корень, Из худших положений выворачивались.
Они решили осмотреть здание рабфака, отыскать канцелярию или хотя бы сторожа. Бегом поднялись на третий этаж и почти сразу за одной из дверей услышали голоса, смех.
– О! Повезло! – сказал Шатков. – Надыбали.
Оба оправили на себе одежду, чинно открыли дверь – к удивленно остановились на пороге.
Вместо служебного помещения парни увидели обычную аудиторию. На сдвинутых столиках сидели трое молодых людей и оживленно разговаривали. Три чемоданчика стояли в углу, на одном покоился довольно заношенный плащ.
При виде Осокина и Шаткова молодые люди замолчали и уставились вопросительно.
– Скажите... где здесь приемочная? – неуверенно обратился к ним Леонид.
Те обменялись взглядом, дружно захохотали.
Будущие великаны искусства? – весело обратился к вошедшим длинный узкоплечий паренек в тюбетейке, голубой футболке, с тонкими, голыми по локоть руками. Подогнув ноги в резиновых тапочках, он по-турецки сидел на столе, и впечатление было такое, словно у него нет ни позвоночника, ни костей – настолько гибким казалось его тело.
– И вы поступающие? – догадался Шатков. – Тогда принимайте в компанию.
Гибкий парень с засученными рукавами футболки пружинисто соскочил со стола, сорвыхал с длин русых волос тюбетейку, театрально взмахнул ею в поклоне и почтительно указал на стену, у которой стояли три чемодана:
– Номера свободны. Вам люкс?
– Можно и просто коечку... с клопами. А где, гостеприимные хозяева, канцелярия?
– Сбежала.
– В самом деле, ребята, – сказал Леонид. – Шутки шутками, а хвост набок. – Узнать бы, допущены ли к экзаменам. Вы отмечались?
– Отметились, если б нашли, – сказал худенький, желтоглазый парень с длинным подбородком, в дешевом однобортном костюме. – Не видите – ремонт? Сторожиха говорила, что секретарша рабфака действительно реальное существе и даже на часок появляется на рабфаке, однако легче сразу девять блох, чем одну эту даму. То она в моно, то в роно, то еще в каком «но».
– А как же вы в эту аудиторию попали? Кто разрешил?
– Секрет изобретателей. Да, чай, мы не к тёще на пироги приехали. Учиться. Сдвинули столы и раскинули табор.
– Здорово! – воскликнул Леонид. – Станем, Вань, тут на прикол. Ты бери вот этот угол, а я рядышком. Не возражаете, ребята?
– Только будем приветствовать! – басом сказал третий парень. – Вы кто? Ага, художники? Мы с Колей Мозольковым, – кивнул он на гибкого малого в тюбетейке, – на театральный приехали сдавать. Скулин – на литературный. Теперь у нас тут представлены все три рода искусст, которые есть на рабфаке.
Добродушием и силой веяло от этого крупного, красивого здоровяка с бесхитростными, навыкате глазами. Он был в расшитой украинской рубахе, опойковых сапогах, смотрел простецки, будто хотел сказать: «Подсаживайся. Как дела?» С такими людьми хочется ближе познакомиться, войти в доверие, а то даже и пуститься в откровенность.
– Тебе-то, Матюшин, надо бы в консерваторию подавать, – сказал ему Коля. – Оброс ты у себя в Донбассе, в шахте, углем и не знал, куда соваться. С таким-то голосищем! А ну-ка рявкни.
– Поете? – спросил Шатков. – Любитель послушать.
Оглаживая подбородок, Матюшин молча и широко улыбался толстыми губами. Слез со стола, косолапо вышел на средину аудитории, деревянно опустил здоровенные руки и, немного осев, напружинив толстую шею, запел:
Был молод, имел я силенку,
И крепко же, братцы, в селенье одном
Любил я в те поры девчонку.
Его молодой бас заполнил все уголки аудитории, отдался дребезжанием в стеклах венецианских окон.
– Богато! – сказал Леонид, когда певец кончил, и восхищенно мотнул головой.
Шатков посмотрел на донбасского шахтера, с явным почтением: будущая знаменитость!
– Дуешь, как... оперник!
И лишь «писатель» Скулин, одобрив певца, сделал критическое замечание:
– Репертуарчик с душком. Поближе к современности надо.
– Ну-ка покажите свои картинки, – попросил «художников» Матюшин, довольный успехом.
– Могу! – Шатков быстро открыл папку, вынул альбом.
Рисунки были исполнены в карандаше и акварели. Большею частью – фигуры беспризорников в лохмотьях, схваченные старательной, но еще слабой рукой; уголки Баку, пейзажи Каспийского моря.
Альбом подвергся пристрастному осмотру и снискал похвальные отзывы.
Показал свои холсты и Леонид. Те же беспризорники, закат на Донце, украинские хаты под косогором, поясной портрет металлурга в замасленной спецовке. Рисунок живой, но не во всем верный, краски яркие, пестрые.
Будущие студенты одобрили и осокинские этюды. Он раскраснелся, с волнением выслушал оценки.
Затем решил продемонстрировать свое искусство Коля Мозольков. У себя, в городе Вязниках, он участвовал в постановках драмкружка, пользовался неизменным успехом. Но, как выяснилось, сила его заключалась не в игре на подмостках, а в пластических танцах и акробатических номерах. Коля свободно принимал невероятные позы: казалось, это не человек, а резиновый шланг. Ему долго и дружно аплодировали.
– Ты, Коля, тоже маленько ошибся адресом, – сказал ему худенький, желтоглазый Скулин. – Тебе в балетную школу надо, не то в цирк.
«Писателя» тоже попросили блеснуть своим творчеством. Не дожидаясь вторичного приглашения, Скулин тонким и каким-то режущим голосом прочитал длинный, тягучий рассказ. Его так же, хотя не столь уверенно, признали талантом. Судьи не скупились на похвалы. Ребят взбудоражила, волшебно. согрела атмосфера искусства, надежда на успех, на то, чего все они были лишены в родных уголках. Парни чувствовали живейшее расположение друг к другу, охотно бы поддержали любого чем могли, и каждый ревниво определял свое место среди новых знакомых.







