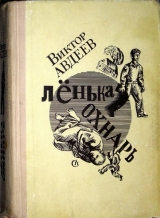
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц)
И внезапно от окна раздался холодный, насмешливый голос:
– Только это у нас, блатняков, и есть: на страх брать. Сразу ходить с козырного туза, ставить жизнь. Вот и получается, что житуха наша ломаной копейки не стоит.
Все повернулись к Грому. Он уже сидел на топчане, отложив книжку, и в голосе его слышалась злая, сдерживаемая горечь. У Москвы вдруг бешено затряслись губы.
– Еще не комсомолец, Ларион, а уже агитируешь? Как мне поступать – ни у кого не спрошу. Понятно, нет? Трусом не был.
– Знаю. Голову заложишь – не моргнешь. Но знаешь, какая это храбрость? Самоубийцы! Отчаяние это, а не храбрость. А все потому, что не понимаешь жизни, боишься ее. Раньше у воров была причина людьми себя считать. «Богачи из народа кровь сосут, а мы у них кошельки трясем». А теперь? Любому ход. Поступай на завод – директором можешь дослужиться. Иди в институт – чем черт не шутит, глядишь, наркомом назначат. Так кого же обворовывать? Работяг? Сам видишь: советская власть не боится амнистировать. Так неужто оставаться подлецом из подлецов? Не сразу я до этих мыслей допер, долго ходил вокруг да около. А теперь порешил: отрезаю свой грязный хвост. И тебе советую.
Москва вдруг криво, искусственно зевнул, показывая, что ему надоел этот никчемный разговор.
– Просто ты, Гром, ослеп.
«Вот какие бывают воры», – подумал Охнарь. Он смотрел на Пашку и со страхом и с любопытством. «Гад с холодной кровью. Такой укусит и уползет: ничего в нем не дрогнет».
Открылась дверь, в палату вошел новый ночлежник.
– Обед раздают, – сказал он. – Пошли, что ль, горячего пошамаем, братва?
– Мы же детки, воспитанники, – загоготал угрястый, проигравший пиджак.
Закрыв книжку, Гром встал, молча взял из-под изголовья хорошую суконную куртку с барашковым воротником, не спеша оделся. Москва проводил его острым, ненавидящим взглядом, сплюнул, далеко цвиркнув слюной сквозь зубы.
– А ты, Павлик? – спросил вора вновь пришедший ночлежник.
– Не охота.
Москва отвернулся: видно, ему хотелось остаться одному. Все потянулись в столовую.
Из палаты Охнарь вышел вместе с другими урками.
– Небось Москва ночлежную шамовку и в рот не берет, – поделился Ленька своим предположением с Червончиком. – Вон сколько монеты выиграл, может колбасы купить, а захочет – и водки.
– Всяко бывает, – вяло отозвался Червончик.– Когда и сухарю рад. Просто свидание у него с марухой. Помнишь Ирку, ту, в коридоре? В записке ему назначила. Сейчас он выйдет, а я пока на дворе у столовой ее посторожу.
XXIII
После обеда Леньку позвал в общую палату Колька Пижухин. Его корешу недавно удалось сбежать из ночлежки в город. Полтора дня он «боговал на воле» и так перемерз, что простудился и добровольно вернулся назад. Из своей экскурсии он принес две совершенно новенькие, еще не распечатанные колоды атласных карт: украл в магазине.
– Научи нас в «буру», – предложил Колька Охнарю.
Друзья пригласили Охнаря потому, что о нем в кругу ночлежников уже шла слава как о «деловом». Он рассказал Кольке Пижухину о своей связи с киевскими ворами в чайной «Уют», о том, как якобы судился за «хапок» лаковой сумочки у тетки и сбежал из-под стражи. А Колька поведал об этом другим корешам, и на Леньку стали смотреть с опаской и уважением.
Огольцы уселись на полу, стали играть в карты.
С улицы в окно заглянули ранние зимние сумерки, под голым потолком накалились докрасна металлические волоски лампочки, она вспыхнула, раза два мигнула и загорелась неровным вздрагивающим светом.
Здание уже приобрело жилой вид, соответствующий новым поселенцам: пол был заплеван, зашаркан грязными подметками, стены исчерчены похабными рисунками, надписями, одно окно зияло выбитым стеклом, и сквозь него тянул ледяной ветер, залетали мокрые снежинки.
В ночлежке наступил обычный вечер. Гул от выкриков, шум, хохот стояли в обеих палатах почти круглые сутки. Недалеко от входа на полу сидел дурачок Маруся – нечесаный, вшивый парень лет пятнадцати, с широким задом, одетый в лохмотья. Лицо у него было почти без лба, рябое от грязи, припухшее, рот вечно полуоткрыт, с нижней лиловой губы свисала длинная слюна, бессмысленно ворочались белки глаз. В руках Маруся держал драную шапку, дном книзу. К нему подходили ребята, клали куски хлеба, вываливали из газетных пакетов вареную гречневую кашу, захваченную из столовой; шутники бросали щепочки, комья соли, клопов. Бессмысленно и добродушно поводя на всех глазами, Маруся пригоршней брал из шапки подаяния, клал в рот, жевал.
Маруся, спой «Блатная моя». Закурить дам,– просил кто-нибудь.
И дурачок начинал дрожащим, козлиным голосом:
Блат-на-ая,
Блат-на-ая моя,
Блат-ная-ая.
Огольцы, смеясь, расходились, а Маруся все пел. Потом опять совал в рот кашу и начинал жевать.
Раздавая новые, скользящие карты, Охнарь хвастливо рассказывал, как встретил в ночлежке кореша по воровской «малине».
– ...гляжу: стоит. Голос знакомый, а чей – понять не могу. Поворачивается – так и есть. Он, Васька Червончик. Вместе с ним кое-какие дела обтяпывали. Думаете, заливаю? Стервец буду!
– Тут, у нас? – не поверил Колька Пижухин.– А говорил – в Киеве.
– Так это «малина» была в Киеве, около Евбаза. Чайная «Уют». Приносили мы туда краденое, гуляли в «номере». Да хочешь, я тебе его покажу? Червончика?
Вдруг обладатель карт, наливаясь лиловой краснотой от болезненного кашля, сделал огольцам предостерегающий жест. Охнарь незаметно оглянулся. Недалеко от них стоял молодой человек в пальто с поднятым воротником, в низко надвинутой на глаза кепке. Делая вид, будто ищет что-то по карманам, он весь подался в сторону игроков.
– Сексот[14], – справившись с кашлем, весь мокрый от пота, просипел хозяин карт.
Молодой человек придвинулся еще ближе, стал так, чтобы разглядеть лицо Охнаря. А Ленька, делая вид, что продолжает рассказывать какую-то историю, громко, с таинственным видом говорил:
– И вот прихожу я в баню. Гляжу – а там все го-олые. Нет, думаю, до такой некультурности я не дойду: чем ополаскиваться снаружи, дай-ка лучше я ополоснусь снутри. Взял четвертиночку и – буль-буль – буль... – Охнарь вдруг поднял голову, ясным невинным взглядом в упор посмотрел на молодого агента. – И выпил за ваше здоровье.
Игроки тоже посмотрели на сотрудника розыска, громко расхохотались. От неожиданности тот смутился, достал из кармана пачку папирос, сунул ее обратно и быстро пошел к выходу. Огольцы заулюлюкали ему вслед, засвистели.
Со двора вошел подросток без шапки, с озябшими ушами, подсел к бурометам.
– Примите, братва.
– Где так замерз? – спросил его хозяин карт.
– В красном уголке был. Пацаны говорят: прокурор притопал, какую-то шмару в дежурке допрашивал.
– Во, налетели вороны, – сказал Охнарь. – А тут сейчас легаш крутился. Ну, я его отшил.
Огольцы вновь рассмеялись.
В этот вечер Охнарь не попал в палату к «деловым »: до ночи проиграл в карты. Он беспечно решил, что так, пожалуй, и лучше: пусть сперва Червончик переговорит с урками, и, если они согласятся его принять, он завтра переберется в их палату. Заживет рядом с Громом, познакомится ближе.
С тем он и заснул. А наутро, наспех позавтракав, прямо из столовой отправился к «деловым».
В палате почти никого не было. Двое урок играли в карты, у окна сидел Илларион Гром и, поглядывая в книгу, что-то писал карандашом в тетради: наверно, занимался. На топчане, прикрыв лицо кепкой, дремал парень в грязной зефировой рубахе.
– Где Червончик? – громко спросил Охнарь.
Игроки глянули на него мельком и вновь склонились над картами. Не ответил ему и Гром.
– Может, в красном уголке?
То же молчание. Наконец один из игроков, известный всей ночлежке рыжий головорез Абраша Исус, одесский еврей и страшный антисемит, угрожающе картавя, произнес:
– Ты, сопля, умеешь ходить ногами? Так давай топай отсюда, мине тошнит от всей твоей поганой хари. Заворачивай. Ну? А то встану, допомогу, но уж тогда вот эту дверь твоим бараничьим лбом открою.
Дремавший на топчане снял с лица кепку: Охнарь узнал парня с высоко подстриженным затылком, который вчера проиграл Москве пиджак.
– Обожди, Исус, – лениво сказал парень. – Это кореш Червончика. В Киеве в одной «малине» были, он рассказывал вчерась.
Теперь игроки посмотрели на Охнаря с интересом. Но вскоре они опять азартно зашлепали картами. А Гром продолжал переписывать что-то из книги в тетрадку, словно ничего не слышал.
– Так вот, оголец, – вяло зевнув, продолжал угрястый парень. – Помахай Червончику вслед. Ясно? Ночью он с Пашкой Москвой... и еще тут одна маруха с ними, Ирка, все втроем у-тю-тю-у из ночлежки.
Охнарь опешил.
– Вчера Васька ничего мне не сказал, – пробормотал он в полном недоумении.
– А он и не думал смываться, – усмехнулся угрястый. – Да слишком горячо стало. Легавые, видать, пронюхали, что тут кое-кто из блатных скрывается. По палатам вчера вечером шнырял один сексот. Прокурор приходил, Тоньку Ласточку допрашивал по старому делу. Ну, Пашка Москва и решил нарезать. Рассусоливать было некогда.
– И далеко они?
– Может, в Петроград, а может, и в Ленинград. Куда поезд повезет. Додул? Москва с выигрыша бухляночку поставил, мы раздавили... Один Гром отказался.
Бывший вор поднял голову от учебника.
– За глупость не пью, – хладнокровно заметил он. – И еще раз повторяю: Москва – такой же дурак, как и ты, кобёл. Пока не поздно, людьми надо становиться. Не испугался же я открыться прокурору: Нет. У нас несовершеннолетних не боятся амнистировать. .. да, говорят, и воров скоро в перековку возьмут
Угрястый не ответил. Охнарь попрощался и ушел: делать ему в этой палате больше было нечего.
Месяц спустя Леньку Охнаря вместе с другими малолетними огольцами отправили во вновь открытый детский дом. Его постригли, сводили в баню, одели в новые казенные штаны, рубаху. В светлой тесноватой палате ему отвели чистую постель, и он стал ходить учиться в четвертый класс.
Рисование в трудовой школе преподавал старый художник-латыш. Ленька пристрастился к цветным карандашам и целыми днями просиживал над листом александрийской бумаги.
Позади осталась голодная, неприютная жизнь на «воле». Исполнилась мечта, с какой он в августе убежал от тетки из Ростова.
Но наступила весна, прилетели скворцы, нежно зазеленела пушистая травка, и Охнарь вдруг затомился, затосковал. Были забыты грязь улицы, волчьи нравы жулья, голод, хотелось только одного – свободы, легкого, привольного житья. Неужели всю жизнь сидеть ему в казенных стенах и хлебать кондер?
Сговорившись с одним товарищем, Ленька, не дождавшись недели до окончания учебного года, покинул детдом, прихватив с собою кошелек из кармана воспитательницы. А в середине лета в Мелитополе Охнарь попался на краже сапог из кожевенной лавки, и его посадили в тюрьму.
Дом в переулке

I
Кривые переулки выводили Охнаря то на городскую окраину к оврагу, то на запорошенную снегом свалку, а то упирались в тупик. Раз он вышел на забурьяневший пустырь: в нос, вместе с резким ветром, ударило тяжелым, мутящим душу запахом падали, он увидел трех горбатых худых собак, трусливо грызущих огромную кость, и понял, что приземистое строение впереди – бойня. Прохожие, у которых Охнарь спрашивал нужный ему переулок, в ответ пожимали плечами: «Второй Живодеров? Не слыхали». А кто и знал, объяснял сбивчиво, и опять Ленька петлял по кривым тропкам, проваливался в сугробы.
«Вот чертова блатня, куда захоронилась», – думал он, сердито потирая замерзшее ухо.
Плюнуть на все, повернуться и уйти на вокзал? Что он, нанимался лазить по снегу за сапожником? Однако, рассуждая так, Ленька отлично понимал, что не бросит поисков. Очень уж хотелось посмотреть на воровскую квартиру, да и слово дал в камере Куприяну Зубку, что непременно передаст записку. Вот она, зашита в подкладке пиджачка: он часто ощупывал ее сквозь дырявый карман. Зимний холод давно пробрался сквозь этот худой пиджачок; изношенные ботинки не грели ноги. Тюремная жизнь ослабила Охнаря, ходьба на морозце отнимала последние силы, отощавший желудок настойчиво напоминал о своих привычках. Щеки огольца утратили былой румянец, верхняя задиристая губа словно опустилась, и только по-прежнему из-под кепки крупными кольцами вился чуб.
Сюда, в Самару, Ленька попал случайно: пробирались вместе с корешем в «Азию» – поесть кишмиша, сладкой чарджуйской дыни, покупаться в Аральском море. Сделали остановку в Самаре, отправились на базар, чтобы чем-нибудь разжиться, и Охнаря схватили.
В тюрьме, ожидая следствия, он познакомился с местным самарским вором Куприяном Зубком. Когда огольца отправляли на суд в Комонес и у него появился шанец выйти на «волю», Зубок дал ему записку, наказал: «Коли обыскивать начнут – сожри. Я тут об одном деле передаю. Приписал, чтобы тебе клифтишко какой-нито подкинули. Зима».
И вот Охнарь выполнял его волю. В этот день после суда он сбежал от конвоира и теперь блукал по глухой самарской окраине, отыскивая сапожника.
Вновь и вновь спрашивал он редких прохожих о Втором Живодеровом. Гляди, скоро сумерки наступят, совсем закалеешь. Наконец старик в сибирке и наваченном картузе толково объяснил ему, как надо идти, и Охнарь с досадой увидел, что все время топтался вокруг нужного ему переулка. Домишко сапожника он нашел без труда, по вывеске, изображавшей рыжий, боком лежавший сапог, похожий на чулок. Громко постучался в низенькую дверь.
Впустил его лысый человек с редкой, взъерошенной бороденкой, окаймлявшей узкий кошачий рот, в грязном фартуке.
– Меня Куприян Зубок прислал, – сказал Ленька, с любопытством глядя в его глубоко запрятанные под нависший череп глаза. – Знаешь его?
И Ленька важно и ухарски шмыгнул носом, показывая, что он-то хорошо знает Куприяна Зубка. Знает и то, что сам хозяин вор, да и вообще ему известно гораздо больше, чем он говорит.
Его сообщнический вид оставил сапожника безучастным. Не вынимая из кошачьего рта деревянные шпильки, он невнятно буркнул:
– В камере с им сидел?
Охнарь, приготовившийся к длинному объяснению, согласно кивнул головой:
– Сидел.
Хвастливо выпятил грудь, небрежно пояснил:
– Освободился. В вакоприемник вели, так я прыснул по дороге. Сиганул наперерез трамваю, мильтошка хлёбало разинул. А я уцепился с той стороны за подножку – только он меня и видел.
Охнарев подвиг, по-видимому, ничуть не тронул лысого сапожника; так же безучастно двигая реденькой бороденкой, окаймлявшей кошачий рот, он спросил:
– Чего Куприян велел передать? Следствие…
Не ожидая, когда сапожник кончит говорить, Охнарь выпалил:
– Куприян велел, чтобы ты меня к дяде Климу провел. Дядю Клима знаешь?
– Еще чего?
«Глазки-то у него как гвозди вострые. Наскрозь видит».
– Куприян велел передать сапожнику записку. Охнарь так и собирался сделать, да почему-то теперь передумал. Обидело, что лысый хозяин так скупо цедил слова, не пригласил сесть? Разочаровало, что квартира оказалась будничной, бедной, заподозрил, что шайка живет в другом месте? Что, если сапожник не покажет его дяде Климу? И Охнарь тут же уверил себя, что передать записку Куприян Зубок велел именно дяде Климу. Так он сапожнику и сказал:
– Остальное Зубок наказал дяде Климу. В личность.
Опять бородатое лицо сапожника ничего не выразило.
– Приходи завтра к вечеру, – хмуро сказал он и открыл дверь, выпроваживая огольца.
Бойко размахивая руками, Охнарь зашагал по переулку, зорко поглядывая по сторонам, стараясь запомнить дорогу. Теперь его уже не обескураживала явная нелюдимость сапожника.
Наоборот, он вдруг повеселел, посчитав, что так и надо. Значит, к настоящим ворам попал. Так они и будут с каждым встречным рот разевать? А вдруг бы его подослали легавые? Дурак, что ли, этот дед-сапожник?! И хоть Охнарь рассчитывал отогреться у него в мастерской, получить угощение, а то и ночлег – его и это мало огорчило. Теперь он знал наверняка, что непременно завтра вернется на Второй Живодеров и увидит дядю Клима. Может, вся его житуха изменится. Только неужели в этой хибарке находится кодло? Комната совершенно голая, всего в два слепых окошка, с громадной русской печью, косым грязным полом, вся пропахшая кислой кожей, варом. У ближнего окошка на табуретке стояла круглая коробка из-под ландрина с деревянными гвоздями, в беспорядке валялись заготовки, молоток, шило, обрезки кожи. В углу почему-то приютились слесарные тиски. Все– таки, наверно, у шайки была другая блатхата.
Он весело побежал на вокзал – пристанище мелкого жулья, беспризорников. Очень хотелось есть, но Охнарь не позволил себе заглянуть в чужой карман или протянуть руку к чьей-нибудь кошелке: сцапают, и еще, гляди, не минуешь эвакоприемника. Пробравшись в ресторан, он жадно похватал остатки застывшего борща за каким-то усачом в белых бурках и даже не огрызнулся на швейцара, что пугнул его из первого класса.
В сумерках на другой день Охнарь застал у сапожника двух новых людей: быстроглазого молодчика с довольно толстыми, но красивыми губами и пожилого сухощавого мужчину с подстриженными щетинистыми усиками, до блеска выбритыми щеками. Одет мужчина был в бобриковый наваченный пиджак с барашковым воротником и косыми опушенными карманами, в галифе и блестящие хромовые сапоги с калошами. Охнарь почему-то сразу понял, что это лицо весьма значительное. Скорее всего, это и был дядя Клим. Мужчина сидел на чурбачке, лениво курил, щурил черные, тяжелые, пронзительные глаза и, казалось, ничем не интересовался. На перевернутом ящике, служившем сапожнику столом, блестела пустая бутылка, на серой оберточной бумаге лежало несколько кусочков колбасы, половина булки, луковица.
– Это ты от мильтона нарезал плеть? – поощрительно спросил Леньку молодчик. В черных быстрых глазах его таился смешок, заметный пух покрывал верхнюю губу.
Ленька радостно и гордо оживился.
– В детдом, что ли, пойду? Рыжих нету.
– Считай, что ты вырвался из царства Аида и переплыл обратно подземную речку Стикс.
Ленька вытаращился, замигал и ограничился тем, что независимо шмыгнул носом. Молодчик весело повернулся к сухощавому мужчине, сказал:
– Хорош оголец, Клим? Орел… жалко, сопливый.
– Ага, значит, это и есть дядя Клим! Охнарь теперь не отрывал от него глаз.
– Дядя Клим молча бросил на пол окурок, растер ногой. Негромко, словно бы от нечего делать, но голосом, который заставлял насторожиться, спросил:
– Чего Зубок наказывал для меня? Записку принес?
– Принес.
Распоров подкладку пиджачка, Охнарь достал записку. Дядя Клим развернул ее, стал читать. Содержание записки Охнарь знал наизусть: очутившись на «воле», он несколько раз перечитал ее. «Климок, – своими неровными, падающими одна на другую каракулями выводил Куприян, – посылаю с огольцом записку. Все обо мне ты знаешь. Зайди к Соньке. (Охнарь знал, что Сонька была сестра Зубка, приносила ему в тюрьму передачу.) У нее затырен сармак, хватит. Помоги". Из разговоров в камере Охнарь помнил, что Куприян все говорил о том, что надо подкупить кого-нибудь из суда и закрыть дело.
Дочитав записку, Клим передал ее старику сапожнику:
– Кубышку Куприян раскрыл. Надо чегось-то придумать.
– Клим обратился к Охнарю:
– Как он там?
– А чего ему? Путляет следователя.
– Та-ак. – Клим расспросил его еще о Зубке, прищурился, проговорил совсем другим тоном: – По чем бегаешь? [15]
Очевидно, вопрос дяди Клима нужно было понимать как знак благосклонного внимания. Быстроглазый молодчик подморгнул Охнарю, даже старик сапожник, кладя письмо на ящик, поощрительно сморщил свой кошачий рот. Ленька бойко ответил:
– Все, что плохо лежит, – мое.
– Гляди, какой грамотей, – тем же тоном, уже с легкой насмешкой сказал дядя Клим. – А то я встречал одного. Спрашиваю: «По чем бегаешь?» Он думал-думал, юлил глазами, юлил, да как скуксится: «По земле-е».
Все, кто был в сапожной, рассмеялись; не отстал и Охнарь. Дядя Клим продолжал опрос:
– Может, с-под угла куски сшибаешь?
– «Сам сшибаешь», – хотел дерзко ответить Охнарь, да вдруг оробел.
– За куски в кичу не сажают, – проговорил он и далеко и ловко цвиркнул слюной.
Тонкие губы дяди Клима дрогнули под жесткими, щетинистыми усиками: видимо, его забавлял маленький оголец. Он стал расспрашивать Охнаря, откуда он родом, где жил, знает ли кого из деловых воров. Ленька назвал Бардона, Пашку Москву, Червончика и стал врать, будто участвовал с ними в грабежах. По его словам выходило, что его ценила киевская блатня и у него даже был маленький револьвер системы «монтекристо».
– Ловко фуфлыгу заправляешь, – сказал дядя Клим и засмеялся. – Куда ж ты теперь намерился податься?
– А я и сам не знаю, – чистосердечно признался Ленька. – Мы ведь осенью куда с корешем ехали? К Аральскому морю…
– Хотели рыбки в соленой водичке половить? – словно бы заинтересовавшись, спросил Клим.
– Покупаться.
– Покупаться ты и сейчас не запоздал. Скоро крещенье, Иордань. Во льду начнут проруби ладить, поп крестом причешет и ныряй на здоровье. Загнешься – бог прямым сообщением в рай переправит. А в раю лафа – ни вшей, ни Надзирателей. Это не в тюрьме сидеть.
– Хохот покрыл слова Клима. Ленька крепко помнил посул Куприяна Зубка о «пальтишке» и, чувствуя благодушие подвыпивших воров, ловко навел на него разговор.
– Думаете, забоюсь нырнуть в прорубь? Да во что после оденусь? В снегу обкатаюсь? Мне бы маленько отогреться, выспаться… совсем околею. И касса пустая, – показал Ленька на свой живот. – Весь золотой запас вышел. Клифтишко бы какой раздобыть. А то ветер как подует в мои лохмоты – будто на трубе играет.
– Забыл, как добывают? – словно поддразнивая, сказал дядя Клим. – Иль заливал, что в Киеве с деловыми жил? На гоп-стоп надо идти. Дрейфишь?
– Охнарь уже знал, что на воровском языке гоп-стоп обозначает вооруженный грабеж.
– Спробуй возьми!
– А коли попадешь в лапы легавых? Не заложишь «малину»?
– Чутьем угадав, что этот сухощавый, жилистый, с щетинистыми усиками главный в шайке, Охнарь картинно выпятил грудь.
– Словечка не звякну. Пускай хоть язык клещами рвут.
– И наивно, обычным тоном добавил:
– Да я тут, в Самаре, и улиц не знаю. Нездешний.
– Черные, тяжелые, пронзительные глаза дяди Клима сузились, легкая гримаса, похожая на судорогу, сбежала от усиков к бритому подбородку; верхняя часть лица его совершенно не изменилась, но весь облик, с выдвинутой челюстью, вдруг приобрел скрытно-угрожающий вид, и Ленька внутренне вздрогнул. Чем-то жестоким, беспощадным дохнуло на него, и он почувствовал, что перед ним сидит человек, который ни секунды не дрогнет, чтобы уничтожить того, кто ему помешает.
– Гляди, Охнарик, – пошевелив ноздрями, не повышая голоса, спокойно, как он все время говорил, произнес дядя Клим. – Вздумаешь заложить – деловые на том свете сыщут, все кишки из брюха вытащат и на балалайку заместо струн натянут. – Он сжал небольшую руку в кулак ладонью кверху, показывая, как воры будут тащить кишки. – А верным будешь – напротив, набьют брюхо, чем пожелаешь, навек забудешь, что такое голодуха… В беду попадешь – выручат; пальцем кто обидит – разорвут того на шмотья. Вот такие у нас ребята.
Под конец речи голос дяди Клима звучал веско, и он поднялся с чурбачка.
– Вот такие, – повторил он. – Свечку богу не ставим, черту душу не проигрываем. На горбу своем чтобы, значит, кататься – этого никому не дозволим. Сами любого заседлаем.
И дядя Клим замолчал, как бы показывая, что больше объяснять нечего: чувствовалось, что эти мысли он не раз повторял. Ленька боялся пропустить хоть одно его слово, жест. И этот вор с щетинистыми усиками, и его молодой напарник, и связанный с ними сапожник с кошачьим ртом, и даже вонючая мастерская – ее холодная печь, обрезки кожи на косом, щелеватом полу – все представилось Леньке значительным, не похожим ни на что виденное. Несколько раз в своей жизни он сближался с «настоящими блатными» и никак не мог войти в их свору.
– Сейчас и эти уйдут?
– Попасть к деловым было его давнишней мечтой. Во время скитаний на «воле» Охнарь слышал множество легенд о ворах, и они представлялись ему людьми необыкновенными. Не боятся ни пули, ни решетки – сам черт не брат. Попробуй тронь такого – ворон костей не соберет. Объединяет воров железная товарищеская спайка, живут они в никому не известных тайных притонах – «малинах», в вечной опасности, ежечасно готовые друг за друга пожертвовать жизнью. Зато никому не кланяются, силой отнимают у людей все, что им понравится, и с пожарной каланчи плюют на законы. Одеваются во что захотят, кутят, гуляют с бабами, раскатывают по разным городам, – ух, душа вон и лапти кверху! Очень лестно было бы услышать от других: «Вон Охнарь пошел. Блатач». Разве не честь – стать равным с жиганами? Да и просто любопытно поглядеть, каковы они, пожить под одной крышей.
– Дядя Клим кивнул старому сапожнику:
– Ну, бывай, борода. Васе Заготовке почтенье и так дале. Как там с Шипировичем?
– Зайди через неделю. Васька в точности будет знать.
– Если опять трепанет – пожалеет. – Дядя Клим скользнул взглядом по Охнарю, как бы мимоходом обронил: – Что ж, собирайся, оголец, отогреешься у нас ночку-другую. А там найдешь партнеров.
Охнарь просиял, сорвался с табуретки, чуть не опрокинув ее.
Дядя Клим усмехнулся одними складками рта, пронзительные зрачки его потеплели. Он поднял барашковый воротник, сунул руки в косые карманы бобрикового, до колен пиджака, толкнул ногой дверь.
На улице было совсем темно, под ногами хрустел чистый молоденький снежок. Фонари здесь, на городской окраине, расставлены были очень редко. Дружно светились окна бревенчатых домишек, а в основном свет исходил от горбатых засугробленных крыш и от чистого молодого снежка, отражавшего пасмурное, вечернее небо.
Хруст этого недавно выпавшего снежка под разбитыми, изношенными ботинками многое вызывал в душе Охнаря.
Хруст этот как бы говорил о том, что кончилась целая полоса в его жизни и начинается новая. Он уже не за тюремной решеткой, но и не в палате эвакоприемника. Орел или решка? Выиграл или проиграл? Вдруг будет гораздо хуже? У него есть еще возможность отказаться от воровского кодла. Вот они, тонущие во тьме улицы, закоулки, стоит только шмыгнуть за угол, и ты свободен. Опять получишь привычную школьную парту, казенный кондер и… серенькую детдомовскую скуку.
Нет. Во всяком деле главное – начать. Страшно было в Курске воровать вяленого чебака, но уже во второй раз Охнарь смелее протянул руку к чужому добру. Он шибко боялся тюрьмы, суда, казалось: все кончено, погиб, а посидел, выслушал приговор, узнал, как все происходит, и опять освоился. Страх перед неизвестностью – вот что всегда томит, пугает человека.
Почему бы ему не потереться в шайке? Дяде Климу он вроде понравился; если хорошенько попросить, гляди и оставит. Тогда впереди грабежи, с револьверной перестрелкой, с кровью, увечьем и даже смертью. Ну и что? Зато житуха – первый класс!
Притом Ленька никак не мог поверить, что когда-нибудь умрет. Вот струсь он, и земля перестанет его держать, бросит людям под ноги.
Через три квартала, у бани, воры встретили порожнего извозчика, взяли. Переехали через овражек, поднялись наверх по крутому взлобку.
Улицы ближе к центру города были шире, дома больше – каменные, усадистые, с толстыми каменными воротами под навесом. Витрины магазинов манили выложенным на черном бархате золотом колец, часов, шубами, костюмами, повешенными на распорках, бутылочными ярлыками вин, бочоночками кетовой икры, желтым салом окороков. Под лошадиными копытами, сквозь неглубокий снег, процокивалась булыжная мостовая. Здесь и народу было куда больше, у ярко освещенного кинематографа с пестрыми фанерными афишами толпилась молодежь, слышались звуки гармошки, бойко торговал папиросный киоск.
Затем извозчик свернул, и сани заскользили вниз, мимо старинной церкви. Переехали деревянный мост через затянутую снегами речонку, запрыгали на обледеневших кочках и покатили в слободу.
У продуктовой лавки дядя Клим тронул извозчика за плечо, расплатился.
Воры зашли, взяли две бутылки водки, красного вина, целое толстенное кольцо вареной колбасы, копченую селедку. У Леньки заблестели глаза. «Ого, сколько набирают. Небось деньга водится!» Еда всегда его живо интересовала. Покупками нагрузились все, насквозь прозябшему Леньке пришлось нести буханку ситного.
Углубились в переулки. Идти оказалось не так-то близко, и Охнарь удивился, почему дядя Клим отпустил извозчика. Могли бы и подъехать. Денег стало жалко? Ага, понял: не хочет показывать посторонним, где расположена «малина». Вишь, до какой тонкости тут все продумано!
Завзыкал распустившийся шнурок на ботинке, Ленька поставил ногу на мерзлую скамейку, начал завязывать. Молодой быстроглазый вор, которого дядя Клим и сапожник называли то «Модька», то «Химик», приостановился, поджидая его.
– Теперь у нас в хевре опять будет парнишонок, – сказал он.
– А тот где? Сбежал?
– От нас не сбежишь. Да и к чему было Щелчку бежать? В ширму на толчке к одному завалился: кожан ему бритвой разрезал. Спекулянт был выпивши, сшиб с ног да сапожищами. Так и погиб в одночасье. Трагический случай из жизни графа Пети Ростова с французами. А клевый был малец.
К Модьке Химику оголец успел приглядеться. Каштановые, почти черные волосы его на висках были красиво подбриты, нижняя губа заметно толще верхней, предполагала в парне какое-то добродушие. Модька, видно, любил шикнуть: кепку носил необыкновенно мохнатую, сшитую на заказ, демисезонное пальто – в крупную клетку, а сверху вокруг шеи – великолепное красное шерстяное кашне в полоску. С виду он свободно мог сойти за нэпманского сынка или студента, часто вворачивал непонятные слова. Но Охнарь уже научился безошибочно угадывать воров – по быстрому, щупающему взгляду, по настороженной собранности, по тому, что они всегда закрывали лицо поднятым воротником или шарфом.
– Мне башку не свернешь, – хвастливо сказал Охнарь, словно предупреждая в чем-то молодчика. – Я любому сам наперед ножку подставлю.
– Я вижу, ты парень-молоток… только без ручки, – дружелюбно усмехнулся Модька. – Ладно, завязывай, завязывай, а то отстали.
Впереди у калитки чернела фигура дяди Клима. Он только что как-то по-особому, условленным стуком, постучал в закрытый ставень.
II
«Малина» представляла из себя бревенчатый пятистенок, глядевший на переулок высоко поднятыми окнами в резных наличниках. Дубовая калитка, очевидно, была всегда заперта, и на ней висела дощечка. «Злая собака», – разобрал Охнарь и прижался к Модьке. Никто их не встретил звоном цепи, лаем, никакой собаки он не заметил.
Двор оставил его разочарованным – самый обыкновенный. Чего ожидал Охнарь увидеть, он и сам не знал. Капкан, что ли? Окопчик? Забор, правда, был высокий, крепкий. В углу к дровяному сарайчику прислонился нужник без дверки, сбоку тропинки, пробитой в снегу, из сугроба выглядывало поломанное колесо, невесть как сюда попавшее. Единственно, что привлекало внимание, – могучая старая верба, голые раскидистые ветви которой с одной стороны чуть не касались кирпичной трубы дома, а с другой низко нависали над плоской крышей соседнего сарайчика.







