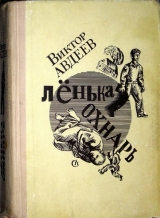
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 55 страниц)
– У меня к вам дело.
– Я давно тебя слушаю. – Заместитель заведующего отделом спокойно открыл палку, искоса, весело глянул на Леонида, стал листать бумаги.
«Ишь какой работяга – Сразу две лямки тянет».
Кинув взгляд на мягкий, обшитый коричневой кожей стул, Леонид переложил кепку в левую руку и рассказал, что он слесарь, приехал поступать на рабфак искусств, но ни путевки, ни рекомендаций у него нет: не знал, что их надо брать. Не даст ли ему ЦК комсомола? А то ребята говорят, без направления мало надежды попасть, ему же охота учиться.
– А почему мы обязаны дать тебе путевку? – вдруг подняв на него глаза и продолжая перебирать бумаги, спокойно, с легонькой усмешкой спросил Ловягин.
Осокин немного опешил:
– Как почему?
– Вот именно – почему?
Говорил Ловягин ровным тоном, словно ведя дружескую беседу, но и от алюминиевого блеска его светлых глаз, и от неторопливых движений крупных рук с отогнутыми назад большими пальцами веяло металлом, неприступностью.
Что-то завалило Леониду горло, вспотели веки. Он переложил кепку в другую руку. Для обиды не было никаких оснований, и в то же время он чувствовал, что не может овладеть собой.
– Потому, что я рабочий... комсомолец, – заговорил он. – Куда мне еще идти? У меня в Москве никого нет.
– Мало ли у нас, дорогой мой, рабочих? И, считай, большинство из них комсомольцы. Не можем ведь мы всем дать путевки на учебу? Надеюсь, ты понимаешь принцип? Даем по ходатайству низовых организаций самым лучшим... премируем. Может, ты лодырем был на производстве, летуном. Откуда мы знаем?
Все, что говорил Ловягин, было совершенно правильно, и Леонид не мог внутренне с ним не согласиться. Притом он ведь действительно сбежал из мастерских да еще за полгода не уплатил членские взносы. Вероятно, ему оставалось лишь повернуться и уйти из ЦК комсомола. Но почему-то Леонид чувствовал себя все более и более униженным. Он стоял перед письменным столом, смотрел на холодно, разумно рассуждающего Ловягина и испытывал к нему самую настоящую неприязнь. Бывают открытые, приветливые люди; узнаешь – влюбишься, потянешься всей душой. Но бывают и такие, как Ловягин: к ним сразу чувствуешь антипатию, отчужденность. Чего Леонид хотел? Ведь, идя в ЦК, он мало надеялся на успех, понимая, что давать ему путевку действительно не за что. Так что ж его взорвало? Отношение Ловягина? Ловягин его ничем не обидел, не оскорбил, и это он тоже поставил ему в вину. Леонид ожидал, что в ЦК с ним поговорят «по-рабочему» – простецки может грубовато, зато по душам. Пусть ничего не дадут, поругают, но и посочувствуют его положению, ротозейству, объяснят: вот так-то надо было, парень, сам прошляпил, а у нас нет возможностей. Дуй, жми, старайся выдержать получше экзамены, авось уцепишься. И вдруг этакое равнодушие, безразличие. «Бюрократ», – ухватился Леонид за излюбленное слово.
Ловягин теперь сидел откинувшись в кресле. В умных глазах под высоким ясным лбом теплилась едкая полуулыбка.
– Значит, вы не верите тому, что я говорю? – спросил Леонид, уже ища причины грубо придраться, выплеснуть злость.
– Мы верим бумагам, – по-прежнему спокойно, даже чуть лениво ответил Ловягин.
Вероятно, он ждал, когда Осокин уйдет, – цепкие пальцы его притянули поближе лежавшую на столе синюю папку, глаза опустились на машинописный текст.
В комнату, неприметно прихрамывая, вошел плотный, среднего роста мужчина с русыми, светлыми волосами, крупными прядями падавшими на лоб. Синий пиджак был распахнут, галстук сбился набок. Он открыл шкаф и стал рыться в подшивках.
Ловягин замолчал, повел вслед за ним взглядом.
– Я считал, что тут по-свойски отнесутся, – запальчиво проговорил Леонид: доводов против заместителя заведующего у него никаких не было, и он терял нить мыслей. – Выслушают по-человечески. А тут хуже, чем у нас в заводской ячейке.
Пора было уходить, только ему хотелось высказать этому бюрократу все, что накипело на душе, пусть его запомнит.
Ловягин слегка нахмурился и заговорил, по-прежнему не повышая голоса, но жестко:
– Скандалить сюда пришел, парень? Какие ты можешь иметь к нам претензии? Разве я тебя не выслушал? Повторяю: мы не можем поддерживать первого встречного, неизвестного нам человека. Где рекомендация твоего коллектива?
И он опять повторил свои доводы, словно хотел убедить не только Леонида, а еще кого-то.
Русоволосый мужчина в синем костюме, успел закрыть шкаф и, положив взятую подшивку на стол, тяжело оперся на нее широкой рукой. Казалось, и он ожидал, когда уйдет Леонид, чтобы поговорить с заместителем заведующего отделом школ.
– Сидите... тут, – сказал Леонид, нахлобучивая кепку, понимая, что о путевке уже не может быть и речи, и лишь желая напоследок больнее уколоть этого невзлюбившегося ему «начальника».
– В самом деле, что ты расшумелся, парень? – вдруг сказал ему русоголовый и вытер платком лоб. – Поезжай домой на завод, заслужи работой рекомендацию, а на будущий год возвращайся. Возможно, тогда и мы поддержим.
Ловягин, который сам хотел возразить Леониду, замолчал на полуслове и одобрительно слушал. Леонид резко, зло ответил:
– Куда домой? В асфальтовый котел?
– Может, повежливее будешь разговаривать, – вдруг повысив голос, сказал ему Ловягин.
– Плохо обучен. Воспитания такого, как ты, не получил.
– Почему в котел? – перебил русоволосый.
– А куда еще? Был бы у меня свой угол! Раньше домом считался асфальтовый котел да тюремная камера.
– То-то разболтанный такой, – твердо вставил Ловягин. – Привык брать горлом. Тут тебе надзирателей нет... надо помнить, где находишься. Отца небось в свое время не слушал, вот и угла нет.
– Отца моего не трогай, товарищ Ловягин. Будь он живой, может, не стоял бы я перед тобой с кепочкой в руке. Ну да я не в обиде. Кому-то надо было и голову сложив за советскую власть. Не все уцелели и на высоких креслах сидят. Отец мой не был ни комдивом, ни орденоносцем, а я вот каждой кровинкой горжусь им. В колонии воспитатель Колодяжный рассказывал, что в Париже есть могила Неизвестного солдата. Когда-нибудь, глядишь, и у нас устроят. Здесь, неподалечку, на Красной площади.
Брезгливая улыбка легла на тонкие губы Ловягина. Он чуть поднял руку, точно дирижируя.
– Здесь глухих нет, Осокин, чего кричишь? И вообще, поменьше драматических жестов.
«Фамилию даже помнит», – с изумлением отметил Леонид.
Русоволосый все это время внимательно, чуть хмуро слушал.
– У тебя какие-нибудь документы есть? – спросил он и протянул руку, – Покажи.
– Не мешало бы у него, кстати, и членские взносы проверить, – посоветовал Ловягин, однако совсем негромко.
Что за человек был этот русоволосый, Леонид не знал. На вид – лет тридцати с небольшим, одет в стандартный москвошвеевский костюм; потрескавшийся ремешок часов опускался от лацкана пиджака в нагрудный карманчик.
– Идем ко мне.
Неприметно прихрамывая, русоволосый, к удивлению Леонида, привел его в кабинет заведующего школьным отделом ЦК комсомола: оказывается, этот простой мужик и был сам Совков. Никогда бы не подумал! Осокин смутился: как он с ним разговаривал? Не зря ему Ловягин сказал: никакого воспитания.
– Учиться дальше захотел? – говорил Совков, садясь, и указал Леониду на кожаное кресло напротив. – Молодец, конечно, что к знаниям тянешься. Только ты ведь не в асфальтовый котел пришел? Поаккуратнее надо себя держать.
И он строго, недобро погрозил Леониду пальцем.
Это почему-то его совсем не обидело. Леонид привык, что его все время одергивали, поучали, наставляли на верный путь, и, несмотря на двадцать лет, еще не чувствовал себя взрослым. Его тронула мелочь: заведующий отделом предложил ему сесть. После приема у Ловягина ему не хотелось замечать мелких колючек. Он искренне рассказал Совкову об отце, о своей жизни, достал из кармана два свернутых в трубочку полотна, нарисованных масляными красками, смущенно показал. Третьяковка заронила в душу Леонида яд сомнения: да есть ли у него настоящий талант? Тем большую надежду он теперь возлагал на художников-учителей, на упорную работу.
Совков внимательно посмотрел его рисунки.
– В живописи я не специалист, – сказал он потеплевшим голосом. – По-моему, ничего. Иной художник такое намалюет – не поймешь, где голова, где хвост. Что ж так поздно к нам? Сани с осени готовят.
С час просидел Леонид у заведующего отделом. Совков расспросил, что он ест, где спит. Затем они вышли в приемную, где у телефонного аппарата, за пишущей машинкой сидела рыжекудрая девушка. Глаза у нее тоже были рыжие, понятливые – и она с полуслова угадывала, что ей хотят сказать. Возле нее с бумажкой стоял Ловягин, объясняя, что и как надо перепечатать.
– Соня, – обратился к девушке Совков, – вот этому неотесанному пареньку выпиши путевку на рабфак искусств. Да, да, я знаю, лимит наш исчерпан и количество предоставляемых мест мы заполнили... Это ходатайство пойдет сверх нормы. – Он пояснил своему заместителю: – Дадим в виде исключения. Конечно, не за личные качества... авось обтешется, окончательно человеком станет. К рисованию, понимаешь, тянется.
Когда заведующий отделом заговорил с секретаршей, Ловягин убрал от нее свою бумажку, как бы показывая, что ею можно заняться во вторую очередь. Услышав решение относительно Леонида, он прищурясь посмотрел на него алюминиевыми глазами, снисходительно и с оттенком покровительства улыбнулся, кивнул на стул:
– Садись. Оформят тебе... Да будь в другой раз поумнее.
Все еще не веря, что все так счастливо обернулось, Леонид покорно опустился на стул. Он растерялся, был рад, смущен и не сообразил отблагодарить Совкова: не привык к выражению «телячьих чувств». Заведующий отделем прихрамывая ушел в кабинет.
Когда Леонид получил путевку, секретарша сказала, что бы он зашел в общий отдел к управделами. Это опять отвлекло его от мысли поблагодарить Совкова. Он спустился на этаж ниже. Здесь сидело несколько человек: морячок, возвращавшийся в Кронштадт и оказавшийся без денег; студентка из Иркутска, обкраденная на вокзале; шахтер из Кузбасса, видно продувной парень, длинно, и темно объяснявший, как попал «впросак». Все они ждали материальной помощи от ЦК. «А куда нам еще топать? – цыгановато блестя глазами, объяснил шахтер, – В милицию, что ли? Тут мы, считай, дома». Вместе с ними кассир выдал деньги и Осокину: оказывается, и этим он был обязан Совкову. Вот, выходит, почему тот расспрашивал, когда, мол, приехал, где ночуешь.
К себе в аудиторию на третий этаж Леонид взлетел бегом.
– Дали? – ахнул Иван Шатков, разглядывая осокинскую путевку. – Ну-у, брат! Отнеси в учебную часть и считай, что ты уже студент рабфака. Тут академия дверь распахнет. На «удочку» – то экзамен, чай, вытянешь?
В этот день друзья с шиком пообедали в столовой.
VII
Приближались экзамены, и здание рабфака искусств менялось на глазах. Ремонт кончался, коридоры, аудитории стали как бы выше, широкие «барские» лестницы с металлическими ступенями – внушительнее, и вновь поступающие косились на беленые стены всё с большим уважением: храм искусства, попадут ли они сюда? Пол еще пестрел известкой, брызгами краски, стремянки не убрали, где-то спешно шли доделки, но уже вид помещения был другой.
Учебная часть, канцелярия рабфака теперь работали регулярно. Будущие студенты каждый день видели внушительную фигуру директора Краба, полную приветливую секретаршу, коменданта. Но не только администрация была на месте; на первом этаже всегда бурлил народ, шумела молодежь. На доске появились приказы, вывесили списки допущенных к экзаменам, и поступающие робко, с надеждой искали свои фамилии. Уверенно толкаясь, проходили второкурсники, будущие выпускники. И хотя вид у студентов был довольно потрепанный, разговаривали они громко, не стесняясь, панибратски отзывались о преподавателях. Новички взирали на них с почтением.
Утром, скатав матрацы, Леонид и Шатков умылись в уборной и побежали вниз по лестнице: в молочную завтракать. Они уже хотели выходить во двор, когда в дальнем конце коридора, у стенгазеты, услышали выкрики, аплодисменты. Осокин и Шатков переглянулись: «Что за шум, а драки нету? Пойдем глянем?»
Кучка парней и две девушки окружали высокого, широкоплечего, сутуловатого парня лет двадцати трех, с крупным веснушчатым носом, большим ртом. Из-под козырька его клетчатой, сдвинутой на затылок кепки торчал огненный, рыжий чубчик, синий пиджак был расстегнут, открывая оранжевую майку и широкую загорелую грудь, покрытую татуировкой. Парень стоял, самодовольно откинув голову, весело, в упор глядя голубыми, выпуклыми глазами с перламутровым белком.
– Великолепно! – раздавалось из толпы. – Талантливо!
– Еще почитайте!
– Хоть одно стихотворение.
Обе девушки захлопали в ладоши. Рыжий приосанился ухарски поправил кепку, с удовольствием прислушиваясь к похвалам.
– Понравилось? Лады. Еще рвану одно напоследок: «Дедово наследство» называется. Это из ранних, когда только начинал писать.
Подняв рыжую волосатую руку, по тыльной стороне ладони покрытую татуировкой, он уверенно, хрипловатым голосом стал читать:
Не припомню, где родился я,
Подростал в притоне за кладбищем.
Рано, рано я узнал тебя,
Злое слово – «нищий».
Я не помню матери своей,
Дед же мой – жиганом был и вором.
Не пригладил мне никто кудрей,
Рос крапивой дикой у забора.
Уходили все по вечерам,
Оставались я да пьяный дед.
Он тогда про молодость бунчал
И про удаль невозвратных лет.
Страшно было с дедом-душегубом.
Жуток взгляд в расщелинах глазниц.
И шептали сморщенные губы
Об удачах «громок» и убийств.
Ночью как-то дед мой занемог,
Весь дрожа, позвал меня по кличке,
Прошептал: «Под тюфяком у ног,
Как умру, возьми себе отмычки...»
Дедов холм крапивою порос.
Вырос я, как сорная трава,
Вороватый, как голодный пес,
По ночам шнырял я по дворам.
А от деда мне осталась кличка, —
И звала меня блатня «Кацыгой».
И гремели дедовы отмычки
По конторам, хазам, магазинам.
. . . . . . . . . . . . .
Я теперь не шляюсь по ночам,
Кинул в воду дедово наследство,
Но осталась злоба к богачам
За мое загубленное детство.
[32]
По спине у взволнованного Леонида поползли мурашки. Шатков молча показал ему большой палец руки – мол, здорово. Глуховатый голос поэта выразительно подчеркивал драматизм стихотворения.
– Клево! – громко сказал Леонид. – Стишок – что надо!
– В точку! – подтвердил Шатков.
Поэт глянул в их сторону.
– Клевый, говорите? В точку? Иль «свои»?
– Были когда-то и «своими». Вы тоже, видать, хлебнули «вольной житухи»?
Поэт, словно забыв об остальных слушателях, дружески подошёл к ним, подал крепкую, сильную руку.
– Хлебнул не только «воли», а и неволи. – Он наложил два растопыренных пальца правой руки на левую и поднес к глазам: красноречивый жест воров, показыващих тюремную решетку. – Ясно? Канц. Блатное эсперанто. С каких вы мест, братва, чем. тут промышляете? Учиться приехали? Дайте пять, будем знакомы: студент РИИНа[33] Прокофий Рожнов.
– Неволю и мы знали, – усмехнулся Леонид. – А познакомиться рады. Вот, оказывается, какие люди из наших ребят выходят!
– Да уж на «воле» куски на помойках не сшибали и теперь, когда «завязали узелок», ботинки фраерам чистить не будем. «Перо» финское Меняем на перо вечное. Куда поступаете?
– В маляры, – сказал Шатков. – Только кисточки у нас поменьше и раскрашиваем не стены, а холсты.
– Художники? Я всегда говорил, что среди нашей братвы полно талантов. Куда ни плюнь – на самородок попадешь.
Острота Прокофия Рожнова вызвала улыбки у поредевшей кучки слушателей. Обе девушки на прощанье одарили его кокетливыми взглядами.
Знакомство с поэтом очень польстило Осокину и Шаткову. Смотрели они на него почтительно и, стесняясь называть, как он их, на «ты», избегали местоимений. Но Рожнов проявил такое простецкое добросердечие, что вскоре оба «художника» приняли его товарищеский тон. Что ни скажи, «свой» парень, со «дна», задирать нос не собирается.
– Курнуть хотите? – спросил Рожнов.
Он достал «Пушку». В пачке оказалась всего одна папироса.
– У меня есть, – проговорил Леонид, хватаясь за карман.
– Ша, – остановил его Рожнов, – Найдем.
Вынул одну папиросу из-за уха и протянул ему; вторая хранилась у него в нагрудном карманчике пиджака – эту отдал Шаткову.
– И еще есть в затырке. – Рожнов снял кепку и показал две папироски, лежавшие в углублении между подкладкой и козырьком. – Привык на «воле» ховырить.
Вместе с ним засмеялись и оба будущих рабфаковца.
– В Москве есть целая группа «своих», – говорил Рожнов, прикурив. – Все с бору да с сосенки. Из Орловской трудкоммуны паренек очерки пишет. Из Куряжа под Харьковом – прозаик. Поэт из Нижнего Новгорода. С Дона один: хорошие рассказы принес. Много разных. Ну, большая часть из Болшева, как и я. Собрали номер альманаха «Вчера и сегодня», Максим Горький предисловие дает. Дуйте в нашу группу, будете художниками-оформителями.
– Это бы классно было, – сказал Шатков. – Верно, Ленька?
– Да уж куда хлестче.
– Запишите мой адрес: я живу на Старосадском, от вас ближе, чем до уголовного розыска. Ну а сейчас я поканал в редакцию «Вечерки», стишок у меня там взяли, гранки надо посмотреть. Сюда-то забегал просто по дороге, хотел одного знакомца третьекурсника повидать... Эх, девчонки ушли, не узнал, как зовут. Одна хорошенькая.
Рожнов обнял «художников» за плечи, подмигнул и пошел к выходу. Мимолетно, как в зеркало, заглянул в стекло канцелярской двери, сжал большой рот, сделал очень серьезное лицо и тщательно поправил рыжий чубчик под козырьком кепки.
Позавтракав в молочной, друзья отправились бродить по городу, все еще переваривая впечатления от знакомства с поэтом. Вот что значит Москва, чего здесь только не увидишь, с кем не столкнешься. Леониду только показалось, что Прокофий Рожнов слишком уж козыряет блатным жаргоном, ухватками. Леонид сам гордился прошлым: не согнула жизнь. Но выставлять это напоказ? Для того и к знаниям потянулся, чтобы «отшлифоваться». Своей мыслью он не поделился даже с Шатковым: ему ли, парню с восьмилетним образованием, критиковать студента РИИНа, столичного поэта?
Друзья заглянули на громадный Сухаревский рынок. Зачем? Сами не знали. И у Осокина и у Шаткова жизнь прошла на базарах, на вокзалах, и оба любили потолкаться в галдящем людском водовороте, как любили провожать глазами встречный поезд, ловить жирный запах угольного дымка, слушать пение рельсов. За два квартала от рынка бойко торговал книжный «развал». Друзья долго рылись в толстенных фолиантах, тощеньких брошюрках, ветхих журналах дореволюционного издания, разложенных на каменном цоколе дворовых оград и прямо на земле.
Шатков наткнулся на роман Леонова «Вор»: его интересовала литература про блатных. Осокин позавидовал ему, но подобной книжки отыскать не мог. Наконец его внимание задержала «Ярмарка тщеславия».
– Может, тоже про шпану? – сказал он. – Во всяком случае, про базар. Как спекулируют, еще там чего. Писатель, правда, не русский, вот тут напечатано «У. М. Теккерей». Наверно, немец... Нет, «перевод с английского». Ну, узнаем, как в разных Лондонах торгуют. Я вот еще в девятилетке учился, дали мне однажды книжку, тоже «перевод с английского»... и заглавие не ахти чтобы интересное: «Оливер Твист», а знаешь какая оказалась? Про урочек, закачаешься! Когда прочтешь «Вора», дашь мне. Ладно? А я тебе свою.
На рабфак друзья вернулись усталые и довольные.
«Опять потратился, – сокрушенно думал Леонид, подымаясь по лестнице к себе на третий этаж. – Что за черт: не заметишь, как вляпаешься в новую покупку. Разор в этой Москве. Больно соблазнов много». Он вспомнил, что вчера приобрел в магазине «Всекохудожника» набор отличных акварельных красок и альбом из александрийской бумаги. Ша, теперь ничего лишнего, железная экономия.
Однако час спустя Леонид нарушил свой обет: Алла предложила сходить в кино на «Путевку в жизнь» – первый звуковой фильм, который шел в России. Леонид уже видел его дважды, был в полном восторге. И, не раздумывая, согласился идти в третий раз. Посмотреть такую великолепную картину! Да еще с кем!
И, конечно, на свои деньги купил оба билета.
VIII
Стояла предвечерняя пора, в аудитории никого не было. Только Никита Матюшин, богатырски развалясь в своем углу, потрясал тишину басовитым храпом.
Шатков улегся на матраце, развернул леоновского «Вора», стал неторопливо шелестеть страницами. Леонид тоже было взял «Ярмарку тщеславия», сел на подоконник. Хотя в английском романе и не пахло базаром, перекупщиками, жульем, читал его Леонид с неослабеваемым интересом. Но сейчас из каждой строчки, из каждой буквы на него смотрели прелестные серые до черноты глаза Аллочки Отморской.
Улыбались красные губы.
Человеку всегда кажется, что именно последняя его любовь и есть настоящая, а то, что было раньше, лишь представлялось любовью. В молодости, когда у вчерашнего юнца вместе с усами появляется мысль о подруге жизни, он тянется ко всякой приглянувшейся девушке и во всяком мимолетном увлечении готов видеть глубокое и постоянное чувство. Леонид искренне считал, что Алла Отморская – первая, кого он полюбил (а давно ли он мечтал жениться на Оксане Радченко?). Он мысленно целовал подвитые локоны Аллы, плечи, каждый ее палец, поверял ей свои самые сокровенные мысли, чаяния. Леонид часа не мог без нее пробыть, она не выходила у него из головы, книга валилась из его рук. Надо же влюбиться, когда экзамены на носу! И он понимал, что именно присутствие на рабфаке этой обаятельной девушки делало все вокруг волшебным, а его самого – счастливцем.
Леонид готов был проводить возле нее круглые сутки, с восхода солнца и до захода луны. Он ежедневно находил десятки самых неотложных причин, чтобы увидеться с Аллой. То ему нужно было иголку с ниткой, чтобы укрепить пуговицу, которая могла оторваться. То он спрашивал, нет ли у нее случайно конспектов по истории? То у него вдруг отставали часы: справиться можно было только у Аллочки, – у кого они ходят вернее? То он нес к ней «чертовски интересную» статью в «Комсомолке» – вдруг не читала? Да мало ли причин может найти изобретательный человек, который только тем и занят, чтобы находить эти причины?
Девушки, завидев в коридоре фигуру Леонида, заранее лукаво и нараспев выкликали: «Ал-лочка-а! » – и поглядывали на него понимающим взглядом. Отморская выходила надушенная, причесанная, точно только и ждала, когда ее позовут, и они пр всякому пустяку (а то и без всякого пустяка) простаивали по часу в коридоре у большого окна, выходившего во двор, каждый раз выискивая предлог, чтобы задержаться еще на лишнюю минутку.
На рабфаке вообще уже образовалось несколько известных всем парочек. Поздно за полночь в разных концах коридоров торчали двойные силуэты.
«Можно ли уже идти к ней или рано? – рассуждал Леонид, ерзая на подоконнике. Он глянул через утонувшую в тени улицу на круглые розово освещенные часы над входом в массивное серое здание Главного почтамта. – Сколько времени, как мы ушли из кафе-мороженого? Скорее бы вечер наступал. Тогда уважительная причина налицо: попросить щепотку соли к помидорам».
Соскочив с подоконника, Леонид потерянно оглянулся, вышел из аудитории, постоял в коридоре, смотря в угрюмый, померкший двор, на зажигавшиеся в окнах ранние огни. Спустился на второй этаж, приоткрыл дверь с лестничной площадки в освещенный лампочками коридор, и волна радости, страха, счастья обожгла его грудь: озабоченно склонив голову, так, что упавшие волосы закрывали ей лицо, Алла чистила щеткой юбку. Она быстро повернулась на стук двери, откинула волосы, взгляды их встретились.
– Вот хорошо, Леня, что я тебя увидела, – сказала она. – Еще вчера хотела расплатиться за «Путевку в жизнь», да забыла. Подожди минутку, я сейчас.
Она исчезла в своей аудитории. Леонид ступил в коридор. Как он благословлял судьбу: есть законная причина для новой встречи. Алла уже стояла возле него. Вместо щетки в руках у нее была красная кожаная сумочка с бронзовым замком, и она оживленно в ней рылась:
– Сейчас. Извини, что сразу забыла отдать.
Сказать по совести, Леонид был немного удивлен. Последние дни и в кино, и в столовых расплачивался он, и это доставляло ему удовольствие. Правда, всякий раз Алла пыталась открыть свою сумочку, но щелканьем бронзового замка и ограничивались их расчеты. Чего она вдруг всполошилась? Однако Леонид и этому был рад. Он накрыл своей ладонью ее руку, нежно сжал: он ведь был обязан остановить ее (какие приятные обязанности существуют на свете!).
– Оставь. Зачем затеяла?
– Я должна. Мне мама немного прислала... Пусти.
Она, смеясь, хотела вырвать у него руку. Леонид сжал крепче. Теперь своей грудью он касался Аллиного плеча, слышал ее дыхание и ничего не хотел больше. В свежебеленом коридоре они были вдвоем.
– Сказал – не возьму. Если ты такая мелочная, после отдашь.
– Упрямец, – с показной обидчивостью проговорила Алла и сделала вид, будто надулась: чуть покусала нижнюю губу.
Чтобы она больше не вздумала отдавать ему деньги, Леонид внезапно выдернул у нее сумочку и сунул под мышку. Это у ребят издавна проверенный способ заигрывать с девушками: пусть-ка отнимет. Завяжется веселая возня, а чего еще надо? И действительно, Алла, улучив момент, рванула сумочку обратно, он перехватил ее другой рукой, замок раскрылся, и на пол, перевертываясь в воздухе, упала небольшая фотография.
– Что-то уронила! – воскликнул Леонид и, выпустив сумочку, бросился к фотографии. Он мог бы и сумочку удержать, но ему неловко было применять мужскую силу. Он чутьем понимал, что где-то этому должна находиться граны Алла могла обидеться. Она тоже кинулась к фотографии:
– Дай сюда. Не смей! Не смей!
Ловкости, стремительности у Леонида оказалось больше, и он первый достиг фотографии, схватил с пола. Лежала она белой рубашкой кверху.
– Ага! У меня!
В ту же секунду сверху на его зажатую руку упали обе руки Аллы, и она стала вырывать фотографию. Дыхание их перемешалось, разгоряченные лица находились совсем рядом, ее душистые растрепавшиеся волосы лезли ему в глаза, в рот. Леонид смеялся, изворачивался. Алла почти обнимала его, когда он заносил руку с зажатой фотографией за спину или вскидывал кверху, а она старалась достать ее. О такой минуте Леонид только и мечтал все эти дни, был счастлив и собирался обхватить ее за шею и поцеловать прямо в губы – раздражающе яркие, близкие. Для этого ему лишь стоило чуть наклониться к Алле. Но почему-то он не целовал ее, а лишь выкрикивал голосом, в котором сам слышал неестественность:
– Вот и не получишь!
– Отдай. Это... нахальство.
– Попробуй возьми.
Почему он не целовал Аллу? Уже в первую минуту борьбы Леонид вдруг почувствовал, что Отморская не играет с ним, не шутит, а почему-то в самом деле очень не хочет, чтобы он увидел эту фотографию. Огорчить любимую? Надо вернуть.
Вдруг его охватили сомнения. Почему Алла так забеспокоилась, даже рассердилась? Вон какой голос крикливый. «Нахалом» обозвала. Может, на фотографии – ее кавалер? Соперник! Интересно: красивый? Надписи на оборотной стороне – никакой. Ладно, пусть немного позлится. Леонид вырвался, отскочил к горевшей лампочке и быстро глянул на карточку.
– Все равно...
И вдруг удивление, какая-то даже растерянность охватили его, помешали докончить фразу. С карточки ему улыбнулось прелестное личико девочки с бантиком на голове. Кто это? Где он видел такого ребенка? Злая рука Аллы грубо выхватила у него фотографию, немного смятую в борьбе. Леонид и сам ее не удерживал. Его поразила резкая перемена в лице Аллы: у нее, казалось, и скулы стали больше, и заметнее выступил толстый подбородок.
– Все-таки увидел! – воскликнул он еще более неестественно.
Она лишь тяжело дышала от недавней борьбы и прятала фотографию в сумочку. Алла казалась ему сейчас совсем совсем чужой. И вдруг овал ее лица напомнил ему фотографию. Так вот почему девочка показалась ему знакомой?! Леонид удивленно, глупо уставился на Аллу, не веря своей догадке.
– Это?..
Ее покрасневшие в борьбе лоб, щеки стали еще краснее, она глянула вызывающе.
– Дочка?
В движениях Аллы появилось что-то надменное. Не отвечая, она поправила волосы, воткнула гребень.
– Дочка? Мировая какая!
Вырвалось это у него очень искренне. Алла глянула на него быстро, испытующе, недоверчиво. Осокин, запинаясь, проговорил:
– Значит, ты... замужем?
Она выдержала его взгляд, отрицательно качнула подбородком.
– Нет? – В голосе его звучал испуг, радостное недоумение: в чем дело?
– Была.
Он сразу понял, закивал: ясно, ясно – разошлась. Сейчас свободна? Это первое, что он усвоил. Свободна! Да, но у нее дочка. Ну и что? Леонид все еще не разобрался, как отнестись к известию, что Алла была замужем, имеет дочку. Он чувствовал, что ему никак нельзя менять былой тон, чтобы не потерять Аллу навсегда. Сейчас она с болезненной настороженностью ловит каждый его жест, каждый взгляд, интонацию голоса.
– Чего ж ты скрывала? – ласково, слишком уж ласково упрекнул он. – Вот чудные вы, девчата.
– Прикажешь всем рассказывать? – с прежним холодком проговорила Алла. – Учебной части рабфака лучше не знать о дочке.
– Разве не все равно?
– Все, да не одно. И я тебя прошу...
– О чем разговор, если ты так хочешь.
Теперь Алла казалась спокойной, и черты лица ее обрели былую красоту. Леонид вдруг почувствовал себя мальчишкой. Что он, действительно, перед ней? Она была матерью.
Собственно, Леонид не однажды подозревал, что она не девчонка. Ее много знающий взгляд, чувственная улыбка, сквозящая в движениях уверенность – все говорило о том, что перед ним женщина. Мог бы догадаться. Или в голове не укладывалось?
Им вдруг не о чем стало говорить. Леонид попытался втянуть ее в обсуждение «Путевки в жизнь». Отморская не поддержала его. Взять ее за руку, сказать: «Я люблю тебя по– прежнему. Дочка будет наша общая». Обнять, как он всегда мечтал? Может, не обидится? Наверное, не обидится. Он длинно, путано стал рассказывать смешную уличную сценку, увиденную днем.
Алла улыбчиво дернула уголком рта, оглянулась на вышедшую из аудитории девушку:
– Да. Забавно... Я пойду, Леня. Мы с Мусей занимаемся русским.
Отговорка была придумана явно наспех. Леонид согласно закивал. Прощаясь, они условились завтра вместе идти в молочную.
Очутившись за дверью, он сбежал с лестницы во двор, через каменную арку выскочил на Мясницкую, оттуда на Чистые пруды, где еще сегодня днем счастливо и беспечно угощал ее и друзей мороженым.
Свернул за первый угол и стал бродить по узким, кривым переулкам.
Мысли его без конца вертелись вокруг фотографии девочки, ошеломляющей новости. Алла была замужем. Она это скрывает. Стыдится? Или опасается, что приемочная комиссия отдаст предпочтение девушкам: дескать, эти надежнее, рабфак не бросят в середине учебного года. Но почему Алла ничего ему об этом не сказала? Хотела поймать в женихи? (Леонид слышал, что женщины «ловят» мужчин в женихи.) Ерунда! Она красива, талантлива, ее скорее будут ловить в жены. Да однажды и поймали. Кто-то страстно обнимал ее, кому-то она отвечала на ласки, девочка – плод этой любви...







