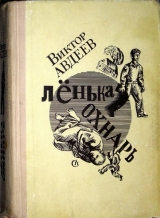
Текст книги "Ленька Охнарь (ред. 1969 года)"
Автор книги: Виктор Авдеев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 55 страниц)
Движения Шаткова стали еще более нервными, энергичными, тело, казалось, готово было выбросить электрический разряд. Белый чубчик топорщился особенно задорно, боевито, а бельмастый глаз стал еще незаметней на побледневшем лице.
– Вот это номер, чтоб я помер, – пробормотал он. – Выдержали ж оба! Ничего не пойму.
Закурили, глубоко затягиваясь дымом, будто хотели затуманить мозг. Леонид до того был ошеломлен, что как-то ничего не мог сообразить. В такое время кажется, что все кончено, погибло, впереди никаких перспектив. Слишком уж большие надежды возлагали друзья на рабфак – особенно Осокин, у которого срывалась не только мечта выбиться в художники.
Прошло добрых четверть часа, прежде чем друзья обрели способность рассуждать.
– Может, ошибка? – вслух подумал Шатков. – Как смотришь? Вдруг напутали?
Леонид вдруг швырнул папиросу в угол.
– Пошли выяснять. Не оставлять же?
– Да уж всмятку разобьемся, а правду сыщем.
Оба почти бегом взлетели на этаж выше: сюда перевели канцелярию. Секретарша – доброжелательная, полная женщина в синем шерстяном сарафане поверх кремовой маркизетовой блузки – сочувственно развела руками:
– Что я, дорогие товарищи, могу поделать? У нас сегодня тяжелый день. Охотно бы всех вас включила, поверьте. Только радуешься, когда видишь, что молодежь тянется к ученью. Я лишь в том случае приняла бы ваши претензии, если бы допустила ошибку в перепечатке списков. Можете проверить.
– Директор здесь? – спросил ее Шатков.
Секретарша молча указала на кабинет.
В дверь пришлось стучать два раза, прежде чем послышалось: «Войдите». Неудачливые «художники» переступили порог кабинета. Директор рабфака искусств Краб сидел за приземистым письменным столом с круглыми толстыми ножками и словно ждал их: перед ним ничего не лежало. Крупную голову его с черными, ежом торчащими волосами, казалось, распирали массивные квадратные щеки, мертво блестели роговые очки; крупными, тяжелыми руками он словно бы от нечего делать с места на место перекладывал цветной карандаш. Красное сукно стола бросало отсвет на его смуглое лицо. Большой портрет Сталина в массивной золотой раме висел в простенке.
Некоторое время длилось молчание.
– Мы пришли выяснить... недоразумение, – волнуясь заговорил Леонид. – – Я и вот товарищ Шатков выдержали экзамены на ИЗО... изобразительное отделение, а нас... почему-то фамилий наших нет в списках.
Массивная квадратная фигура директора оставалась неподвижной.
В канцелярии нам это подтвердили, – вставил Шатков.
Вновь установилось молчание.
Несмотря на погожий августовский день, высокое венецианское окно в кабинете было до половины закрыто тяжелой коричневой портьерой, очевидно от солнца. Места, в которые упирались лучи, тускло светились ржавым цветом. С улицы слабо доносился гул движения, звонки трамваев.
Краб продолжал перекладывать карандаш. Друзья выжидали.
– Что же тут неясного? – сказал он очень спокойно.
– Почему нас нет в списках? – настойчиво переспросил Леонид.
– Потому, что вы не приняты.
Спокойный, холодный тон покоробил «художников».
– Может, вы не совсем поняли, товарищ Краб, – чуть выдвинулся вперед Шатков, энергично, коротко взмахивая сжатой в кулак рукой. – И я и товарищ Осокин выдержали все экзамены. У нас нет ни одного «неуда». Здесь ошибка...
– Не поняли вы, а не я, – отчетливо, не повышая голоса, перебил его Краб. – Ошибки никакой нет, списки составлены правильно. Значит, ваши экзаменационные оценки не настолько высоки, чтобы по ним вас зачислить на рабфак. Другие претенденты выдержали лучше. И приемочная комиссия по конкурсу отдала им предпочтение.
Это был второй удар по «художникам». Конкурс? Его они как-то не приняли во внимание. В начале тридцатых годов заводскую, колхозную молодежь широко приглашали учиться, нередко уговаривали, и многим казалось, что стоит лишь дать согласие, что-нибудь промычать на экзамене, – и ты студент.
Друзья переглянулись, полные смущения. Директор вновь стал перекладывать карандаш из руки в руку.
– Что ж, все выдержали на «отлично»? – с явной иронией спросил Леонид.
– Ведь у нас были путевки, – вежливо и рассудительно подхватил Шатков. – У товарища Осокина – из ЦК комсомола.
– Знаю. Рекомендации и путевки – особенно идущие сверх разверстки, лимита – это не приказы о принятии, а всего-навсего ходатайства. По мере возможности мы их учитываем.
Оба мы воспитанники трудовых колоний, – твердо проговорил Леонид, с открытой неприязнью глянув в стекла роговых очков, – Дети государства. У нас нет папенек, тетушек, которые бы помогли...
– Нам и это известно, – вновь холодно перебил Краб и резко положил карандаш на стол. – Я не пойму, почему вы козыряете прошлым? Если вы бывшие беспризорники, значит, вам надо создавать особые условия? Завышать оценки?
– У нас здесь не Вциковская комиссия помощи детям, а творческое учебное заведение: скидок мы никому не делаем. Вы не проявили явных способностей ни в рисунке, ни в общеобразовательных предметах, приемочная комиссия вас и отчислила. Надеюсь, теперь все ясно?
И он поднялся с кресла, большой, квадратный, внушительный. Задержанные портьерами солнечные лучи клопино-рыжими пятнами отсвечивали на его черном костюме; борта, рукав, пуговицы блестели, и Краб казался закованным в ржавую, непробиваемую броню.
Прием был кончен. Но и Осокин и Шатков понимали демократию по-своему, как они считали – «по-советски». В колониях, детдомах они привыкли, чтобы им терпеливо разъясняли каждый факт. Они должны были убедиться, что все здесь справедливо и никто не покушается на их права, не собирается прижать. Тогда самые суровые трудности, самые горькие известия они приняли бы как необходимость, с которой надо смириться.
Холодный тон Краба, брезгливая складка большого рта, поза явного ожидания, когда они уйдут, – все это взорвало обоих друзей. С Леонидом повторилась та же история, что и в кабинете Ловягина в Ипатьевском переулке, и он, как и там, весь взъерошился.
– Мы считаем неправильными действия комиссии, – сказал он. – И ваши тоже, как директора.
– И будем жаловаться, – напористо поддержал его Шатков.
Все было высказано. Краб молчал, как бы считая себя выше спора с двумя неудачниками. Слова отскакивали от его брони, будто ледяные градинки, и чувствовалось, что ни убедить, ни разжалобить его нельзя. Леонид вновь привычно выпалил, понимая, что терять нечего:
– Это бюрократизм.
– Так не обращаются с людьми, – как эхо повторил Шатков.
Густая краска медленно залила широкие скулы директора, лоб, квадратный подбородок. Он поднял карандаш и опять резко опустил его на стол.
– Я вам все объяснил, больше нам говорить не о чем. Прошу оставить мой кабинет.
– Вас посадили сюда людей воспитывать, – с бешенством сказал Леонид. – А вы... вы тут как чиновник какой! Ничего, найдем управу.
– Найдем. Так не оставим.
И друзья широким шагом вышли из кабинета.
Доброжелательная секретарша по красным лицам парней поняла, чем окончилось их объяснение с директором, – вероятно, слышала повышенные голоса, и посмотрела соболезнующе. Леониду было стыдно глянуть ей в глаза: так он всегда чувствовал себя после учиненного скандала.
Сбежав с лестницы, друзья несколько умерили шаг.
Второй раз в Москве Леониду заявляли в лицо, чтобы не козырял беспризорным прошлым. Он сам не замечал, что везде требовал скидки. В юности справка «воспитанник колонии» возбуждала сочувствие людей к «сиротке», желание помочь, и Ленька привык бесцеремонно этим пользоваться. Теперь ему давали понять, что он обыкновенный, рядовой парень. Он рабочий, слесарь – вот его паспорт. Казалось, надо бы радоваться, что зачеркнули его гнусное прошлое, перестали выделять, коситься, – впоследствии он и радовался, – а сейчас обиделся. Как же, лишили «котельного дворянства»!
Очевидно, и Шатков переживал нечто подобное. Друзья отводили душу в виртуозной брани, вспоминая всех предков Краба от матери до прабабушки. Сейчас у них совпадали не только поступки, мысли, но даже и выражения.
Оба чувствовали себя в положении оступившихся людей. Уже собирались получать студенческие билеты – и вдруг увидели перед носом запертый замок. Неужто все накрылось, и рухнула мечта выбиться в художники? Э, видать, не с таким рылом туда берут, – счастливцев, родившихся в рубашке!
Леонид помнил, что в списке принятых фигурировали и Алла Отморская, и Муся Елина. Он же оплеван, выставлен за дверь. (Еще женихался! Не приведи бог, жалеть начнут.)
Надо во что бы то ни стало добиться зачисления на рабфак. Главное – отказали несправедливо: оба ведь выдержали. Придумали какую-то муру: конкурс! И слово-то нерусское, от буржуев. Рабочие парни на последние копейки едут, за науку хотят ухватиться, а их «конкурсом» по морде?! Раньше дворянские сынки не пускали, теперь бюрократы. Все какие– то шахеры-махеры. Ну да не на тех напали, они руки не сложат, добьются истины и ткнут ею Крабу в очки.
– Куда сунемся? – спросил Шатков, когда они вышли за ворота. – Оба мы комсомольцы. Может, в ЦК? У тебя и путевка из отдела школ. Прямое дело им вмешаться.
– Конечно. У кого еще искать защиты?
Парни дружно зашагали по Мясницкой к Ипатьевскому переулку.
– А чего, Ленька, говорить будем?
– Действительно: чего?
– Ну... во-первых, оба выдержали. Факт? Воспитанники государства – два. Почему это Краб обоих выставил по конкурсу? Пусть-ка хорошенько проверят, кого принял Да в общем найдем что сказать.
Своего они все равно добьются. Краба взгреют, атому морскому раку впору будет в нору забиться. Другие, кто не попал на рабфак, домой возвратятся, а они куда? (Хотя оба прекрасно понимали, что Осокин может вернуться в придонецкий городок Основу, а Шатков – в Бакинскую труд коммуну, и обоих примут.)
В бюро пропусков оба втиснулись в кабину. Леонид позвонил заведующему отделом школ Совкову. Голос секретарши ответил, что Совков в командировке. Этого друзы не ожидали. Там, наверху, в здании щелкнул отбой, и Леонид повесил трубку.
В большой приемной стояла важная тишина. В телефонных будках шел тихий разговор, на диванах вдоль стен сидели молодые люди, ожидали вызова или пропуска. Двое нервно прохаживались.
Парни тут же в кабине стали совещаться.
– Как быть, Ванька. Ждать Совкова?
– Кто знает, когда он вернется из командировки. Как ждать, когда и сверху капает и снизу поддувает? Звякни заму.
– Этот не такой.
– Командировку-то они давали? Чударь! Какой хошь будет – должен заступиться.
– И то верно.
Леонид вновь позвонил и попросил соединить с кабинетом Ловягина. Заместитель заведующего отдела школ оказался у себя. Леонид попросил выписать ему пропуск.
– Зачем? – последовал вопрос.
Я у вас был с неделю тому, товарищ Ловягин... Мне давали путевку на рабфак искусств. – И Леонид горячо и как всегда сбивчиво объяснил суть дела.
Он сказал, что ждет в бюро пропусков. Он уже собрался вешать трубку, уверенный в том, что Ловягин немедленно вызовет его к себе в кабинет и примет решительные меры. Он сказал, что с ним в приемной находится еще товарищ, тоже комсомолец.
Из мембраны донесся спокойный голос:
– Я помню тебя, Осинкин... Осокин? Помню, Осокин. Только зачем тебе подниматься сюда? Если не приняли с нашей путевкой, значит, плохо выдержал и уж в таком случае пеняй на себя. О чем нам, собственно, разговаривать?
– Я вам повторяю, товарищ Ловягин: и я и Шатков – оба выдержали. Отметки у нас только «удочки», а по истории у меня даже «хор» стоит. Понимаете? Выдержали. Ну не мог я никак засыпаться: большинство кто экзаменовался – после семилетки, а у меня восемь классов. Просто директор рабфака Краб уперся. Понимаете? Бюрократизм там...
– Не советую тебе бросаться такими безответственными обвинениями, – перебил его сверху, из кабинета, Ловягин. – Молод еще судить о работе старших товарищей. Что ты можешь знать о товарище Крабе? Наркомпрос ему доверяет. Наверно, сам, как и у нас тогда, вел себя вызывающе... по-партизански. Ты ведь парень недисциплинированный, Осокин, с анархистским душком...
Пока Ловягин говорил, Леонид живо его себе представил. Конечно, сидит, удобно откинувшись в кресле, светлые с алюминиевым блеском глаза прищурены с нарочитым безразличием, аккуратный хохолок царит над будущими залысинами, на отутюженном костюме ни пылиночки, крючковатый нос под высоким лбом – будто клюв, крупная рука машинально перебирает бумаги в подшивке или отряхивает невидимую пыль с борта пиджака.
Прежнее чувство неприязни вдруг овладело им, Леонид грубо, запальчиво крикнул в трубку, безуспешно пытаясь сдержать себя:
– Но мы ведь оба сдали экзамены! И путевка ваша!
– Опять психуешь, Осокин? Беспризорные замашки бросать надо, щеголять ими нечего. Взрослый уже, в рабочем котле варился. Всё скидки ждешь? Этак можно и в недоросля превратиться. Наравне со всеми действуй. Во всяком случае, к отделу школ ты не можешь иметь никаких претензий: мы для тебя сделали гораздо больше, чем ты заслуживаешь. Чего ж тебе еще надо? Вообще странная у тебя манера: ты вечно от всех требуешь, будто тебе чем-то обязаны. Сперва заслужить надо, а потом требовать... да тогда тебе и сами дадут. Словом, нянек за тобой ходить здесь нет.
– Я и не требую нянек, – взорвался Леонид. – Мне справедливость...
Спокойный, теперь с ледяным холодком голос обрезал его:
– Считаю разговор оконченным. Я занят и принять не могу.
В аппарате звякнуло, и в уши назойливо, пискливо побежали короткие гудки.
XIII
Из подъезда друзья вышли в угрюмом, подавленном молчании.
– Эх, Совкова нет, – с горечью сказал Леонид. – Тот мировецкий мужик. Простяга. Говорят, пареньком участвовал в гражданской войне.
– И откуда таких ловягиных берут?
Медленно побрели они по переулку к Иверским воротам. Вторичный провал за один день сильно сбавил им самоуверенности. Оба поняли, что не так-то просто восстановить утерянное, заметно обмякли. И Осокин и Шатков чувствовали сильную усталость. Полуденная жара, духота сморили их, нос забивала едкая московская пыль, пропитанная кислой бензиновой вонью. Мучила жажда, хотелось есть. В сердце закралась тревога, неверие в свои силы. Где ночевать? На какие средства жить? Экзамены кончены, их могут сегодня же выставить из «общежития» – пустой аудитории. Да и невесело оставаться рядом со счастливчиками, попавшими на рабфак. Надо срочно искать выход. А какой?
Леонид глянул на Шаткова, и, не сговариваясь, оба свернули к столовой на Маросейке. За буфетной стойкой ловко умело управлялась толстощекая, толстогрудая женщина в зоркими, приветливо-блудливыми глазами.
– Что вам сегодня, молодые люди? – спросила буфетчица друзей так, словно они обедали здесь каждый день.
– Сосиски с капустой. Две, – за обоих заказал Леонид, как более состоятельный.
– Одобряю ваш вкус, – с улыбкой проговорила буфетчица, ловко суя деньги в ящик стола и зорко поглядывая в зал, все ли там в порядке. – И, конечно, по сто пятьдесят водочки?
Друзья вдруг рассмеялись и мысленно махнули рукой на прореху, которую водка прожигала в их скудном бюджете. Ладно: голова на плечах, руки при себе, спина крепкая – заработают. Пусть оба оплеваны: мало ли за пеструю жизнь с ними каких бед случалось? Правда, в детстве они вроде бы переносились легче: тогда и болячки быстрей затягивались и слезы высыхали незаметней. Теперь приходилось глубже задумываться о будущем.
Отодвинув стопки, закусывая сосисками с капустой, друзья забыли про усталость, начали шутить, едко высмеивали свои неудачи, проходились по адресу директора Краба, Ловягина. Решили непременно дождаться Совкова: не может быть, чтобы не помог. Правды всегда можно добиться.
– Как же найти управу на Краба? – спросил Шатков, кусочком хлеба вытирая с тарелки остатки подливки. – Неужто спустим? Это произвол.
Оба не имели никакого опыта в тяжебных делах. Кому действительно пожаловаться? У кого искать защиты? Кто поможет им восстановить правду?
Правда! Справедливость! Как случилось, что они заставили поклоняться себе двух этих парней, вся жизнь которых в детстве шла вразрез с человеческими понятиями о справедливости, законе? Давно ли подросток Ленька Охнарь жил по своей, воровской правде? Давно ли он считал справедливым лишь то, что было выгодно ему и его сотоварищам по темным делам? Мало ли главарь самарской шайки Клим Двужильный втолковывал ему, что на земле один закон – первым хватать всех за глотку, честность же – басня для простофиль?
Прошло всего несколько лет, и Ленька Осокин и Ванька Шатков забыли блатную науку. Или тяга к правде, к справедливости наследственна? Может, к Леониду она перешла от родного отца, с шашкой в руке сложившего непокорную голову за великую правду обездоленного люда? А тот ее получил от своего отца, вольного донского казака, тот же – от деда, бежавшего с Московской Руси от боярского произвола? Как же глубоко в народе живет непреоборимая жажда правды, справедливости! Уж не с молоком ли матери всасывается она в кровь младенцев?
– Кто бы направил сейчас Осокина и Шаткова на верный путь, посоветовал им, как отыскать их маленькую правду?
Леонид стукнул кулаком по столу:
– А почему бы не пойти к наркому просвещения? Это ведь на Чистых прудах, возле нас.
– Примет ли?
– Не примет – облысеем? Где-то надо пробовать.
– Больно высоко берешь.
– Чего теряем? За это не сажают, а нас и тюрьма не устрашит.
В голове у обоих парней немного шумело. Шатков решительно протянул Леониду руку:
– Дай пять. Махнем.
Закурив, отдохнувшие друзья с новой энергией зашагали по Маросейке к Покровским воротам, свернули на бульвар. Вялость, неверие, мрачные мысли, овладевшие ими после двойного провала, развеялись так же, как и недавняя усталость. Внезапно вывернувшаяся из-за домин серебристо-аспидная тучка брызнула мелким и довольно сильным дождем. Пестрая толпа на аллеях бульвара, тротуарах поредела: москвичи прятались в магазины, забегали в подъезды. Крыши, мостовая потемнели. Кое-где развернулись зонтики: в начале тридцатых годов их носили мало, считая признаком «буржуйства».
Осокин и Шатков не стали пережидать дождь: не картонные. Лишь плотнее надвинули кепки. Вместе с редкими прохожими они ходко шли под намокшей обвисшей листвой деревьев.
Оба готовились принять любое сражение, чтобы занять свои «законные» места на рабфаке искусств. В крайнем случае они должны зацепиться в Москве – кем угодно, хоть noденщиками на той же кондитерской фабрике «Большевик». Говорят, тут при заводах есть разные кружки – литературные, изобразительные, драматические, и в каждом можно заниматься.
Постигшая неудача еще теснее сплотила друзей. Оба с «воли» отлично помнили, что значит поддерживать друг дружку плечом. Вдвоем куда легче! И с этого дня они решили не расставаться, жить в одном городе, в одном месте.
В огромном здании Народного комиссариата просвещения друзы долго бегали по разным этажам, кружили по длинным, запутанным коридорам. То их не туда посылали, то ход оказывался закрытым и приходилось возвращаться назад.
– Тут, брат, одной порции сосисок с капустой мало; надо хорошенько пообедать, а то с ног свалишься, – в сердцах сказал Шатков.
Парни носились с лестницы на лестницу, один раз им удалось прокататься на лифте.
– С меня мыло потекло, – сказал Леонид, вытирая рукавом потную шею.
Нужная друзьям приемная оказалась на втором этаже, недалеко от входа, но самого наркома не было: болел. Солидный мужчина, беседовавший с пожилой секретаршей, посоветовал им обратиться к заместителю.
Здесь их тоже ожидала неудача: отсутствовал и заместитель наркома. В светлой приемной стояла тишина, нарушаемая лишь трамвайными звонками с улицы. Что такое: никого из главного начальства! Друзья недоверчиво покосились на массивную, резную дверь, ведущую в кабинет.
– Когда ж его можно застать? – спросил Шатков у красивой холеной секретарши в легонькой белой вязаной кофточке с короткими рукавами.
Отвечая, она лишь мельком глянула в их сторону:
– Приемные часы два раза в неделю. Вы же грамотные? Читайте сами.
– У нас срочное дело, – сказал Леонид. – И нам только на пять минут.
– У всех срочные дела, и всем на пять минут.
Зазвонил телефон. Секретарша ответила вежливо-безразлично: «Приемная». И вдруг свежее, красивое лицо ее оживилось, она заговорила с ласковыми, щебечущими нотками в голосе: «Вернулись с гулянья? Дождь захватил? Ирушенька не промокла? Покорми сосисками. Не хочет? Шалунья, шалунья. Ах, вот... тогда понятно, если мороженое... Что? Да так и бывает: застудит горлышко и... Одну минутку, я сейчас... – И, не давая отбоя, секретарша взяла трубку со второго аппарата, звонок которого отвлек ее от разговора с домом, официальным тоном ответила: – Приемная. Да. А кто спрашивает? Дмитрия Никодимовича нет. Едва ли. Как хотите, можете еще позвонить». Положив трубку, она опять нежно защебетала по первому аппарату – то ли с матерью, то ли с домработницей – и все о дочке.
Стоя у порога, парни терпеливо ждали три минуты, десять, пятнадцать. Секретарша наконец дала отбой, повернулась, и выразительное лицо ее застыло в холодном удивлении:
– Вы еще здесь?
– Может, замнаркома скоро вернется?
Очень сомневаюсь. В общем, сегодня не будет. Да если бы и вернулся, вас все равно не примет.
– Почему?
– Готовит доклад к совещанию.
Зажурчал негромкий звонок. Секретарша вскочила, семеня высокими каблучками, открыла массивную дубовую дверь, исчезла.
– В кабинете кто-то есть, – сказал Леонид.
– Есть.
Леонид прочитал в глазах Шаткова то, что думал и сам.
– Может, замнаркома?
– Давай глянем?
Открылась дверь, вышла секретарша. Шатков чуть не столкнулся с нею носом, смешался. Оживление на свежем, красивом, холеном лице секретарши погасло, оно приняло неприязненное выражение.
– Я же вам объяснила, товарищи: заместитель наркома сегодня не приедет. Напрасно вы ожидаете.
– Но мы сами слышали, что в кабинете...
– Это совсем другой человек. Его помощник.
Леонид вдруг с вызывающим спокойствием уселся на стул сбоку двери. В нем проснулась вся былая наглость, развязность: вид его говорил, что по доброй воле он отсюда не уйдет. Собиравшийся было отступить Шатков последовал его примеру – правда, более скромно – и тоже опустился на стул рядом.
– Мы обождем, – сказал Леонид. – Это ведь приемная? Может, вернется.
Презрительная гримаса легла на красиво очерченные накрашенные губы секретарши, она передернула полными плечами:
– Как хотите. Наверно, еще комсомольцы?
– Я и член профсоюза, – ответил Леонид. – А вы?
– Оч-чень остроумно! Просто блещете воспитанием!
Шатков больно, с вывертом ущипнул друга за бок. «Заткнись», – беззвучно прошептал он. Леонид чуть не вскрикнул. Поделом схватил. Вот уж действительно, дурак маринованный, нашел время для пререканий. За тем ли шли? Задача – во что бы то ни стало дождаться заместителя наркома. Хоть на ходу, а поговорить с ним. На карте стояла судьба.
«Психует дамочка, – думал Леонид. – Она-то сидит тут обеспеченная, вон ряшку какую наела».
Он прислушивался к тишине за массивной дверью кабинета, к многочисленным шагам в коридоре, перешептывался с Шатковым и нет-нет да и поглядывал на секретаршу. Секретарша открывала шкаф, вынимала какие-то синие папки с бумагами, просматривала. Какая она изящная, выхоленная; круглые, голые до локтей руки покрыты дачным загаром. Лицо с еле заметным румянцем на полных щеках. Волосы, конечно, красит перекисью: модная блондинка. А изгиб шеи! Откуда такие в наше время берутся? Золотые серьги в маленьких ушах, часики. Штучка! Обзавелся замнаркома помощницей!
И что рядом с нею Шатков? Единственная его рубаха с пристежным воротничком – парадная, она же и расхожая – от дождя на плечах потемнела, давно не чищенные ботинки белели ободранными носками. Представил Леонид со стороны и себя – одет, конечно, получше, но тоже обтерхался, намок, словно подзаборный петух. Чувствует в руке тяжесть кепки, пропитанной дождем. Да, они с Ванькой совсем чужие этой дамочке. Ничего, потерпит. Вышколенная.
Круглые настенные часы важно, медлительно отсчитывали минуты. В этой приемной все – от высоких окон со шторами до ковра на полу – выглядело солидно, значительно.
Вошел седоватый румяный мужчина с отличным кожаным портфелем. «У себя?» – кивнув на дверь, спросил он секретаршу. Она ответила наклоном головы, и мужчина исчез и дверью. Друзья терпеливо переглянулись и удобнее утвердились на стульях: мол, не сойдем с мест до конца занятий. Секретарша, словно не замечая их, развернула «Огонек», погрузилась в рассматривание иллюстраций. Важная тишина вновь воцарилась в приемной.
Вошла девушка в передничке, с полным подносом, накрытым белой, накрахмаленной салфеткой, тоже скрылась в кабинете; вскоре налегке выскользнула обратно. Звонил телефон, входили другие сотрудники. Возле секретарши долго вертелся франтоватый молодой человек с безукоризненным пробором, в летних кремовых брюках. Он метко высмеял содержание модной пьесы, в которой завод перевыполняет план по выплавке чугуна, и пообещал достать два билета в «Эрмитаж» на джаз Утесова. Секретаршу он называл Ниночкой. Она смеялась, показывая великолепные зубы, вышучивала какую-то «нашу Фиму». Потом они заговорили шепотом, и молодой человек раза два внимательно посмотрел на парней. «Может, ты еще ввяжешься? – насмешливо подумал Леонид. – Милицию позовешь? Пугай ею фраеров. Да мы и не хулиганим».
Приемная вновь опустела, вновь зашуршали страницы журнала. Заглянул разбитной малый в промасленной кожаной кепке, сказал: «Приехал» – и исчез. Секретарша, еле приметно улыбнувшись, прошла в кабинет. Спины у парней одеревенели, ноги затекли; оба решили не показывать секретарше, что им осточертело сидение. Часовая стрелка упорно ползла книзу.
– Я выйду курнуть, – шепнул Леонид Шаткову, – а ты сиди на зексе. Как только покажется – зови меня.
В коридоре он с удовольствием размял плечи, повертел шеей, словно освобождаясь от столбняка, достал из пачки папиросу. Мимо с озабоченным видом пробегали сотрудники с портфелями, папками – точь-в-точь камни, выпущенные из пращи; оглядываясь по сторонам, читая все таблички на дверях, нерешительно проходили посетители, по-деревенски загорелые, в скромных, старомодного покроя костюмах, не всегда стриженные – учителя из отдаленной провинции, или, как теперь говорили, с периферии.
«Зря день пропал, – думал Леонид, жадно затягиваясь папиросой – Скоро конец работы. Если бы не секретарша – ушли бы. Доставим уж ей удовольствие, досидим до звонка».
С половой щеткой под мышкой подошла старая уборщица в ситцевом платочке, из которого выглядывало доброе сморщенное лицо, выбросила из совочка сор в урну.
– Тетка, – обратился к ней Леонид, – не знаешь, заместитель наркома тут?
Она повернулась к нему, вытерла концом фартука руки.
– Это Митрий Никодимыч-то? – кивнула она в сторону кабинета. – Тут был, милай, тут. Минут десять всего как ушел. Шофер за им приходил в кожаном картузике.
Папироса чуть не вывалилась изо рта Леонида.
– Как ушел? Да я три часа в приемной сидел...
– И-и, сынок. Да рази Митрий-то Никодимыч там ходють? Вона дверь в стенке. Видишь? Там они и ходють.
Очевидно, фигура Осокина выразила такую растерянность ошеломленность, что уборщица сердобольно посоветовала ему:
– Не принял? Уж нынешние начальники такие. А ты, молодец до самого сходи, до Андрей Сергеича. Этот еще с Лениным работал. Подпольной закваски. До него и вашего брата, студюнта, пускают. Уж поможет ли твоей беде – не знаю. характеру не больно покладистого, а выслушать выслушает.
Что-то шепча, старая уборщица ушла по коридору, нагнулась, подобрав в совочек окурок.
Леонид понял, что бой проигран. Весь этот день его и Шаткова преследовали неудачи: они были наголову разбиты. Ой вернулся в приемную, громко, с подчеркнутой вежливостью сказал, обращаясь к секретарше:
– Спасибо, дамочка, за помещение. Обсохли. – И легонько ткнул товарища кулаком под бок: – Айда, Вань. Отбой.
– На здоровье, – саркастически-любезно ответила секретарша. – Я вас предупреждала.
Выйдя из Наркомпроса, парни уныло побрели по свежему, высохшему после дождя бульвару к Мясницким воротам – на рабфак, и Леонид передал Ивану свой разговор с уборщицей.
– Разве сквозь такую бабу пробьешься? – с сердцем сказал он, вспомнив, как насмешливо посмотрела им вслед красивая секретарша.
– С сильным не борись, начальнику поклонись, – усмехнулся Шатков. – А мы хотели с наскоку. Как нас в коммуне мастер по токарному учил? «Легче запускай резец, стружка в глаз попадет». Во.
XIV
Комендант здания рабфака искусств дал невыдержавшим три дня сроку для выселения: перед началом занятий требовалось убрать обе «жилые аудитории». Неудачники разъезжались. Уехал домой на Волгу ядовитый «писатель» с желтыми глазами: приемочная комиссия не признала у него таланта. «Ничего, – пригрозил он кому-то. – И без вас напишу такую повесть о речном пароходстве – «Роман-газета» схватит. Пожалеете». Собрался в путь бас Матюшин. Этому, правда, экзаменационная комиссия посоветовала обратиться в консерваторию, но шахтер рассердился на весь белый свет и в тот же день в предварительной кассе взял плацкарту на Донбасс, в Юзовку. «Буду петь своим ребятам в клубе». Коля Мозольков, которого тоже не приняли, очень быстро устроился в цирк униформистом и был счастлив: «Через два года стану гимнастом, буду работать под куполом на трапеции».
Из всех знакомых Леониду поступающих лучше всех прошла Дина Злуникина. На экзамене по специальности она получила высший балл. Гордую, бледную от счастья Дину все поздравляли.
Слабо пожимая в ответ руки, она неожиданно, тихо и твердо заявила:
– Я не сомневалась в успехе.
«Эту теперь везде поддержат, – подумал Леонид. – Не то, что нас».
Деваться парням было некуда, и они решили дотянуть в рабфаковском помещении до последнего дня. Вечером внизу у лестницы они встретили Мусю Елину. Стихи ее понравились члену приемочной комиссии, поэту Сергею Городецкому, и Муся, тоже не без триумфа, была зачислена на литературное отделение.
– Как ваши дела, ребята? – сочувственно спросила она. Ей было известно, что друзья решили обжаловать заключение комиссии.
Шатков рассказал, как они провели чуть не полдня в приемной заместителя наркома.
– Правильно делаете, – одобрила Муся. – Стучитесь во все двери. К нам на ЛИТО приняли одного парня – обомрешь. Разодет, смотрит свысока. А стихи б послушали! Формалистические, жизни ни на йоту. Да и откуда ему знать жизнь – горя он, что ли, хлебнул? Рос под крылышком высокоответственного папочки, на машинах раскатывал. Думаете, к вам на ИЗО такие не просачиваются? Недаром говорят: блат выше Совнаркома.
– Этот фактик мы запомним!
– Будь спокойна. Еще нервы Крабу попортим. Ты теперь студентка? Счастливая. Где общежитие дают?







