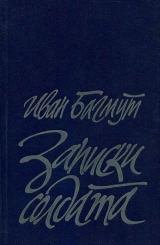
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Іван Багмут
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц)
Ивась и все младшие мало что успевали ухватить, но жаловаться было некому, потому что в этой веселой операции принимал участие дедушка Мусий с тем большей охотой, что у него-то уж никто не отваживался отнимать.
Изо всех, так сказать, важнейших родственников мы не упомянули только о матери героя. Но о ней, хотя она играла наибольшую роль в воспитании Ивася, будет говорено мало. Эта обыкновенная женщина с добрым сердцем родила десятерых, никогда не вылезала из трудов и была довольна своей судьбой, считая, что женщина для того и существует, чтобы рожать детей и трудиться.
Когда Ивасю исполнилось шесть лет, началась его трудовая жизнь, а с нею и настоящие заботы. Надо сказать, что до шести лет Карабутеня жило довольно спокойно, если не считать таких необычайных приключений, как столкновение со старым Шинкаренко. Основное благо его возраста было – свобода; если отбросить неприятную обязанность каждый вечер молиться, неприятную особенно в силу своего гнетущего однообразия, то больше его ни к чему не принуждали, а если он делал что-нибудь сам, то уж делал вволю. К сожалению, память мало что сберегла из впечатлений тех лет, и Карабутеня, став взрослым Карабутом, не вспоминало о своем детстве как о счастливом.
Первая работа, которую поручил отец Ивасю, была пасти корову. Сама по себе пастьба, собственно, не требует большого физического и морального напряжения, но с нею связано много побочных неприятностей.
Всех детей можно разбить на две категории – на тех, которые, проходя по улице, дразнят собак, и на тех, которые не дразнят. Карабутеня принадлежало ко второй категории и в описываемый период собак боялось. Пока Ивась гнал корову селом, собаки были не очень страшны: у богачей они на цепи, а у бедняков и середняков редко злой пес. К тому же на улице встречались люди, которые защитили бы ребенка.
Страшное начиналось за селом. По дороге, неподалеку от пастбища, стоял хутор Котов, родичей соседа Карабутов Каленика Шинкаренко. Как и у каждого богача, у Кота был большой и злой пес. Если сельским собакам надоедало лаять на прохожих и они гнались за Ивасем больше для порядка, то этот бросался на мальчугана с явным намерением укусить. Карабутеня, держа одной рукой на веревке корову, другой героически отбивалось от остервенелого пса, который был вдвое больше его ростом. Ни Кот, ни Котиха не останавливали собаку. Поскольку мимо проходило совсем немного народу, хозяева считали Карабутеню вполне подходящим объектом, чтобы учить пса рвать людей, вырабатывая качество, необходимое «другу человека», «дружащему» с кулаком.
Прибыв на место и привязав корову к колышку, пастух чувствовал себя спокойно и, если бы не перспектива гнать корову домой на обед и не боязнь, что корова вырвет колышек и сбежит, был бы счастлив. Ивась барахтался в заболоченном озерке, мечтая о рыбе, ловил головастиков, рвал лютики и лепеху или искал в траве щавель и козлобородник.
Маленькие полоски, на которые здесь была изрезана земля, использовались хозяевами больше для сенокоса, и потому мальчуган был совсем один. Наигравшись вволю, он скучал, все чаще посматривал на солнце и становился к нему спиной, чтобы определить длину своей тени. Когда она равнялась его росту, можно было гнать на обед. И как ни страшно было снова встретить пса, Ивась ждал этой минуты с нетерпением.
Иногда с ним шел его четырехлетний брат. Целый день они сражались в «пьяницы», играя в маленькие карты, купленные на ярмарке за копейку, да еще с конфеткой в придачу, и время проходило веселее.
Кроме собаки с пастьбой связана была еще одна неприятность – приходилось рано вставать. Утром очень хотелось спать, холодная росистая трава жгла босые ноги, Карабутеня плакало, а сзади раздавались сердитые окрики отца, а то и матери, требующие немедленно прекратить рев во избежание наказания прутом.
Но это было еще ничего. Спустя несколько дней у Ивася потрескалась кожа, появились цыпки, и тут уж утренние хождения на пастбище стали истинной мукой. Побарахтавшись в болоте, Карабутеня, конечно, не вытирало ни рук, ни ног. Мокрая кожа сохла на ветру и на солнце и лопалась. На пятках трещинки были довольно значительные. На руках и на ногах возле щиколоток их можно было различить по проступившей крови, они и назывались цыпками, – верно, потому, что те, у кого они были, пищали от боли, как цыплята.
Особенно громко пищал малыш вечером, когда мать или бабушка мазали цыпки сметаной. А по утрам раздавался уже не писк, а настоящий плач. За ночь цыпки и трещины просыхали, и малейшее движение вызывало неимоверную боль. Если же на ранки попадала еще и вода (а избежать этого было невозможно – руки приходилось мыть, а ноги смачивала роса), муки становились просто нестерпимыми. Взрослый вряд ли вынес бы их, но Карабутеня и миллионы его деревенских сверстников выносили, – должно быть, потому, что больше ничего не оставалось делать.
Неприятности, связанные с трудовым процессом, этим не ограничивались. Включение Ивася, так сказать, в номенклатуру трудоспособных членов семейства коренным образом изменило его положение – теперь требовали, чтоб он трудился ежедневно. Если корову гнал на пастбище старший брат, Ивася ставили на так называемую легкую работу, как правило однообразную и бесконечную: например, отгребать руками зерно из-под веялки. Кончалась работа только с окончанием длиннющего рабочего дня.
В пору молотьбы (Карабуты, как все средние хозяева, молотили конным катком) мальчугана определяли собирать «конские яблоки» на току. Это грязное занятие вызывало насмешки и старших и младших братьев, а слезы Ивася (ими он отвечал на всяческие неприятности) кончались еще и бранью отца, который считал их безосновательными.
В результате такого настойчивого приобщения к труду у мальчишки выработалась защитная реакция. Встретив отца, не пропускавшего никого из семьи, чтобы не дать какое-нибудь дело, Ивась принимал озабоченный вид, словно спешил выполнить весьма серьезное поручение, и отец, думая, что ребенка послала за чем-то мать, не трогал его. Таким образом, благополучно надув отца-педагога, Карабутеня бежало на улицу к своим друзья Бражничатам или пряталось в саду, играя с младшим братом в «цоканцы», как в тех местах называлась игра в камешки.
Очень надоедало Ивасю присматривать за самым младшим братишкой Захарком. Эта скучная работа прекращалась только в двух случаях: либо когда младенец засыпал, либо когда мать брала его кормить.
Добиться того, чтобы младенец уснул, очень просто: надо укачать его. Но иногда приходилось качать долго и без всякого результата. Ивась изобрел остроумный способ усыплять братишку: он тыкал ребенку пальцами в глазки до тех пор, пока тот их не закрывал. Когда Захарко больше не рисковал открывать глаза, Ивась, опираясь на этот чисто формальный признак сна, потихоньку выскальзывал из хаты. Но уже через минуту раздавался рев ребенка, и мать приказывала возвращаться немедленно.
– Он же уснул! – сердито отзывался Ивась.
– Какое там уснул. Глазки как звездочки! – любуясь малышом, который, пососав молочка, успокаивался, говорила мать.
Глазки и в самом деле были как звездочки, но вызывали они у Ивася-няньки не восторг, а откровенную ненависть к братишке.
В эту же пору Ивась попробовал научиться курить. Воспользовавшись тем, что отца с матерью дома не было, он нашел несколько старых газет, исписанных тетрадок и отнес в лавку Стовбоватого, которая помещалась возле школы, где учительствовал Юхим Мусиевич.
Бумаги было очень мало, всего на грош, а самая маленькая пачка – три папироски – стоила копейку. На счастье Ивася, в лавке сидел не старый Стовбоватый, а его сын Виктор, парень лет двадцати. Узнав, что сынишка учителя хочет купить на эти деньги папирос, чтобы начать курить, он дал ему одну целую папироску, а одну предложил раскурить вдвоем.
– Ты, верно, еще и курить не умеешь? – спросил Виктор и затянулся, потом глотнул воздуха и выпустил дым. – На! – он дал раскуренную папиросу. – Сперва потяни, потом глотни дым и выпусти его.
Ивась глотнул дым, но выпустить не сумел.
– Ничего, – подбадривал Виктор. – Еще глотни! Не выходит? А ты еще!
Ивася затошнило, но показать это лавочнику было стыдно, и он все глотал и глотал дым, пока не закружилась голова.
– А теперь будет! Вот и выучился… – похвалил, смеясь, Виктор.
Побледневший Ивась, едва выскочив из лавки, принялся блевать, потом, пошатываясь, поплелся в школу. И вдруг сообразил: если отец почует, что от него несет табаком, взбучки не избежать.
На улице было холодно, голова отчаянно болела, мир вокруг качался, и несчастный курильщик стоял у крыльца, не зная, что делать. Ноги не держали, хотелось лечь, но идти в комнату было страшно: а что, если вернулись папа и мама? Ивась минуту постоял и почувствовал, что больше не может. Он прошел по коридору школы, прислушался – в комнате было тихо. Счастливый, что дома никого нет, мальчик примостился на топчане возле печки, и ему сразу полегчало. Только голова болела, так болела, что он даже не задал себе вопроса: зачем люди курят? Но хоть и не задавал этого вопроса, желание курить надолго пропало.
В заключение этой главы надо сказать, как расширился у нашего героя круг знакомств. Когда хлеб скосили и можно было пасти скотину на стерне, Карабутеня попало в большую компанию пастухов. Здесь оно обогатило свои знания фольклором, по преимуществу непристойным, и обучилось ругаться, иногда довольно складно, о чем ни мать, ни отец даже не догадывались, поскольку Ивась, помня мамину угрозу наколоть язык иголкой, сам не ругался и не сказывал забавных стишков со звучной рифмой, вроде таких:
Раз, два, три, четыре,
Черти бабу потрошили.
Взяли… взяли пуп,
Чтобы вышел добрый суп.
Приблизительно в это время чаще стали звать его не Карабутеня, а Карабутча́, употребляя при этом уже местоимение «он», чем и было отмечено его вступление в пору отрочества.
Карабутча́Знакомиться с науками Ивась стал семи лет в церковноприходской школе ведомства православного вероисповедания, где учительствовал его отец под началом отца Антония.
В школе были две классные комнаты, а классов – их тогда называли отделениями – три, так что двум отделениям приходилось сидеть вместе. Соответственно и учителей было два: Юхим Мусиевич и его помощник, который вел первое отделение.
Карабутча вошел в класс, не почувствовав подобающего такому торжественному моменту волнения, поскольку еще до поступления в школу не раз играл здесь с младшими братьями в жмурки, и ему тут было известно все – от некрашеных парт до последней дырки в прогнившем деревянном полу.
У Маркела Ивановича – помощника учителя – не было ни высшего образования, ни педагогического. Он когда-то окончил начальную школу и теперь передавал ученикам полученные там знания. Учил читать, писать, считать, молиться и, поскольку обучение шло на русском языке, а учащиеся говорили по-украински, пояснял новые и непонятные слова – что такое «железо», «петух» и тому подобное. Дети не всегда догадывались, что значат эти слова, и только Ивась всегда поднимал руку. Но когда дошло до слова «лужа», то не поднял руки и он.
После того как помощник учителя, выдержав паузу, сам объяснил это слово, Ивась, который ставил Маркела Ивановича значительно ниже отца, понял, что, хотя Маркел Иванович ходит в домотканом пиджаке и вместо пальто носит чумарку, он тоже настоящий учитель и достаточно много знает, а стало быть, заслуживает глубокого уважения.
Как-то один из учеников спросил у Маркела Ивановича, что такое «варежки».
– Варежки? – переспросил учитель. – Это что-то вроде фасоли. Их варят.
Только через много лет, когда Карабутча прошел стадию Карабутенко и стал Карабутом, он узнал, что такое варежки, и улыбнулся, вспомнив своего учителя.
Изо всех открытий, которые принес Ивасю первый класс, его более всего поразила истина, что «собака – друг человека». Он вспомнил хуторского пса, который вел себя с ним совсем не по-дружески. И Карабутча спасовал при этой первой встрече с диалектикой. В самом деле, как же так: «друг человека» ценится тем выше, чем он больше лает и чем злее бросается на людей? А с другой стороны, для ребят, которые, несомненно, люди, нет большего удовольствия, чем попасть камнем или палкой в «друга» на улице или на соседнем дворе.
Истина, вычитанная в букваре, вызывала приятные воспоминания о лете. Перед глазами вставала хата Карабутов в Мамаевке. Все, во главе с дедом Мусием, сидят в сенях у столика и едят с хлебом арбузы и дыни. Арбузов и дынь много, можно есть не спеша, не боясь, что Хома крикнет: «На отнимки и недоедки!» – или дедушка пододвинет еду к себе и скажет:
– Погоди, я с хлебом поем.
У порога сидит «друг человека» – Серко́, разморенный жарой, с язвочками на ушах от мушиных укусов и погасшими глазами, в которых каждый мог бы прочитать неверие в людей: дескать, сами едят, а «другу» не дают. Когда кто-нибудь кинет корку, глаза у Серка на миг оживают, но, увидав, что это не хлеб, а всего лишь арбузная корка, Серко только тряхнет искусанными, окровавленными ушами, и глаза его снова гаснут. Тогда дедушка кричит:
– Тю, тю, бездельник! Ишь наносил мух!
Серко подымает грустные глаза и с укором смотрит на деда, словно говорит: «Так-то ты с другом?»
Когда все встают, Ивась и Хома прячут по куску хлеба и украдкой от старших дают собаке, да и то не просто, а подбрасывая по кусочку, чтоб пес ловил на лету.
Мысли Ивася далеки от того, о чем идет речь на уроке, но Маркел Иванович не дает ему подзатыльник, не дерет за волосы, не ставит на колени, как других. Ивась понимает, почему: он учительский сын, он не такой, как все, ему больше дозволено. Правда, у Маркела Ивановича и оснований наказывать Ивася меньше – малыш умеет читать и писать. Тем из учеников, которые, зная букву «м» и букву «а», не могут прочитать вместе «ма», учитель помогал, хлопая по рукам линейкой или просто рукой по щеке (в вопросах педагогики Маркел Иванович не отличался от других учителей того времени), но Ивасю не нужна была такая помощь. Карабутча чувствовал свое особое положение, и хотя пока не задавался, но, возможно, в будущем и показал бы себя, если бы не один неожиданный случай.
Раз, когда Маркел Иванович почему-то не пришел на урок и на все три отделения остался один Юхим Мусиевич (классы были смежные, и учитель слышал и видел, что делается в соседней комнате), туда, где сидел Ивась, заглянул его младший братишка Сашко. Это, несомненно, был повод продемонстрировать сверстникам свои права и привилегии. Карабутча не придумал ничего лучшего, чем велеть брату принести напиться, хотя пить ему совсем не хотелось.
Сашко скрылся, а через несколько минут дверь с грохотом отворилась и явилась целая процессия: девочка-нянька с ковшом воды, за нею Сашко, а позади вышагивало самое младшее полуторагодовалое Карабутеня. Класс сперва так и застыл от изумления, а потом дружно загудел. Внезапная перемена звуков, донесшаяся до соседнего класса, привлекла внимание опытного педагога, и не успел Ивась напиться, как вошел отец.
Самый младший отпрыск рода, еще не успевший изучить отца, с радостным личиком шагнул к нему, но Сашко, сообразив, что вышло неладно, схватил братишку за руку и потянул к себе.
– Вон! – крикнул учитель на няньку и малышей так, что те кубарем покатились из класса.
Потом Юхим Мусиевич подошел к нашему герою, с силой крутанул его за ухо и так дернул вверх, что Ивась встал. Так он и вывел сына за ухо из-за парты, довел до красного угла и, все так же управляя с помощью уха, поставил на колени. Не проронив ни слова, Юхим Мусиевич обвел взглядом учеников, застывших на своих местах, и вернулся в соседнюю комнату.
Опозоренный Карабутча, сгорая от стыда, простоял на коленях до конца урока, ропща на отца, который так грубо показал непрочность привилегированного положения сына.
Ивась бывал свидетелем многих бесед отца с крестьянами, приводившими своих детей в школу к Карабуту. В каждой беседе обязательно содержалась просьба: «Бейте хоть моей рукой, только выучите!»
Эти слова Ивась увидел в действии, когда перешел во второе отделение, к отцу.
Юхим Мусиевич, как уже сказано, бил учеников в глубоком убеждении, что, кроме пользы, это ничего не даст. Глупый станет умнее, ленивый – трудолюбивее.
На каждом уроке Юхим Мусиевич обычно давал одну-другую затрещину. В такие дни в классе слышалось ровное тихое гудение сотни учеников. Но бывали уроки, когда в классе стояла мертвая тишина и только и раздавались один за другим громкие хлопки. Ивасю запомнились два таких урока, – может быть, потому, что это происходило в начале учебного года, когда все воспринималось остро, было в новинку.
Юхим Мусиевич вызвал к доске ученика третьего отделения:
– Что было задано на сегодня?
– Моря Российской империи.
– Покажи на карте.
С первым же морем ученику не повезло: он показал Балтийское, а назвал его Каспийским. Юхим Мусиевич в знак несогласия дал мальчугану легкого тычка. Подбодренный таким вниманием, ученик быстро поправился:
– Белое.
Тогда Юхим Мусиевич отвесил ему уже настоящий тумак, потому что если названия Балтийского и Каспийского морей хоть немного похожи и их можно спутать, то смешать Балтийское с Белым мог лишь тот, кто и не брался за урок.
Правильный ответ был получен только после третьего удара, и учитель велел рассказывать дальше.
– Черное море, – проговорил ученик и показал на Белое.
– Вот тебе Черное! – с сердцем крикнул Юхим Мусиевич и влепил ему такую затрещину, что ученик едва устоял на ногах.
Морей в Российской империи было много, но Ивась запомнил все названия за один урок и на всю жизнь. И если у детей нашего времени все эмоции, связанные со словом «море», полны романтики, то у Ивася с этим словом ассоциировались только слезы избитого товарища.
Случилось так, что на другой день был урок отца Антония. Ивась бывал с родителями у него в гостях и привык видеть батюшку, невысокого, смуглого, как цыган, веселым и приветливым хозяином, если не за рюмочкой, то за картами (разумеется, не географическими). Видел он отца Антония и в церкви. Там священник не улыбался и держал в руках не карты и не рюмочку, а крест или кадило. И лицо у него было смиренное, с глазами, возведенными горе́, к богу, нарисованному на потолке церкви.
В классе отец Антоний выглядел совсем не таким, как в церкви и дома. На лице у него была одна строгость.
Он начал с проверки, не позабыли ли ученики за лето выученное в прошлом году. Вызвал самого худшего ученика и предложил ему рассказать, что нарисовано на картинах, которыми увешаны стены класса.
– Что изображено здесь? – показал он на рисунок, где бородатые люди с простынями на плечах толпились у стола, а Иисус Христос стоял с протянутыми руками возле бочки.
Ученик молчал.
– Кто не учит закон божий – не почитает церковь. Так? – спросил отец Антоний.
– Так, – ответил ученик.
– А кто не почитает церковь – не почитает бога. Так?
– Так, – ответил ученик и, как кролик, не моргая, уставился в лицо отцу Антонию.
– А кто не почитает бога, тот грешник. Так?
– Так.
– А грешников карает и бог, и церковь. Так?
– Так.
– Что же изображено на этой картине? – повторил поп свой первый вопрос.
Ученик хлопал глазами, силясь припомнить, что там изображено. Неожиданно законоучитель огрел его такой оплеухой, что по классу пошло эхо. Ивась едва удержался, чтобы не охнуть. Ученики второго отделения, еще не знавшие отца Антония как педагога и улыбавшиеся при виде третьеклассника, который не может ответить на вопрос, теперь сидели с испуганными, напряженными лицами.
– Чудо… – подсказал поп.
– Чудо, – повторил ученик, но что сказать дальше – не знал.
Отец Антоний подождал минуту и ударил еще раз. Мальчик пошатнулся и перевел отупевший от страха взгляд с картины на законоучителя.
– Чудо в Кане… – подсказал педагог.
– Чудо в Кане, – повторил за ним ученик.
– Не знаешь, как дальше? – спросил пастырь и дал новую оплеуху. – Галилейской.
– Галилейской, – как лунатик, повторил ученик.
– Теперь скажи полностью, что изображено на этой картине?
– Чудо в Кане Галилейской.
– Правильно, – похвалил поп и показал на другую литографию, где была нарисована девочка, поднимавшаяся по лестнице в храм.
– Сретение господне, – сказал ученик.
– Вот тебе сретение господне! – рассвирепел наставник и так хватил ученика, что тот весь скорчился. – Отвечай, что изображено?
Боясь не угадать, мальчик молчал. Из глаз у него текли слезы, но он не осмеливался их вытереть и только часто-часто моргал.
– Введение…
– Введение, – повторил ученик.
Отец Антоний выдержал паузу и, поскольку продолжения не последовало, снова ударил.
– Во храм.. – подсказал священник и добавил к словам удар кулаком.
– Во храм пресвятой богородицы, – договорил ученик до конца и тем избавил себя от очередного удара.
– Так. А что здесь изображено? – продолжал отец Антоний, показывая на следующую картину.
Он нарочно выбрал худшего ученика, чтобы на первом же уроке напугать всех и заставить учить закон божий внимательнее, чем другие предметы. Была тут и еще одна хитрость: преподавание закона божьего отец Антоний после первого урока перепоручил Юхиму Мусиевичу, а тот на этих уроках почти никого не бил, приберегая, очевидно, силы для предметов, которые считал более полезными. Поп догадывался об этом и время от времени сам давал урок. При этом он так наверстывал, что, услышав его голос на пороге школы, все притихали.
Педагогические методы церковноприходской школы вызывали у Ивася страх, и он учился очень старательно, чтобы не стать объектом заботы своего папы или священнослужителя. Нагромождение строгостей в школе и дома, непрерывные побои, свидетелем которых он был, очень рано уничтожили в нем непосредственность мыслей, желаний и стремлений, которая в нормальных условиях свойственна детям и старше семи-восьми лет. Малыш стал замыкаться в себе, боясь сделать, спросить, сказать что-нибудь не так, – ведь за все это попадало.
Если Хому, старшего брата, каждая взбучка только закаляла и он после этого становился еще бесстрашнее, то Ивась, наблюдая новую экзекуцию, наоборот, все более терял отвагу. Возможно, это было еще и потому, что ожидание боли страшнее, чем самая боль, и, таким образом, как ни парадоксально, смотреть на порку страшнее, чем быть выпоротым самому.
Но как ни влияла на психику Ивася повышенная доза физических методов воспитания, педагоги не сломили его окончательно и не воспитали в нем той абсолютной покорности, которая приходит при полном уничтожении человеческого достоинства. Об этом свидетельствует случай, происшедший летом.
В 1911 году у Юхима Мусиевича хорошо уродился хлеб, и он сообразил, что при молотьбе конным катком быстро не управишься. Если же взять «машину» (из всех сельскохозяйственных машин так называли только молотилку), то все можно бы закончить за полдня. Владелец машины Кот обещал дать ее соседу (конечно, за соответствующее вознаграждение). Свой хлеб Кот молотил на паровой машине, а конную пускал по людям за деньги.
Под вечер Юхим Мусиевич запряг лошадей в арбу, сняв с нее грядки́, и поехал на другую улицу, где как раз домолачивала молотилка Кота, чтобы перевезти ее на свой ток. Ивась и Сашко, которые бегали во дворе, не упустили возможности покататься и уцепились за арбу. Чтобы сэкономить время, Юхим Мусиевич поехал прямиком по стерне, через усадьбу Бражников, отгороженную от улицы только небольшой насыпью – загатой. Когда он переезжал через нее, одна доска у телеги подскочила, и Сашко упал.
Малыш закричал. Юхим Мусиевич, оборотясь на крик, только теперь заметил сыновей, уцепившихся за телегу. Это уже был непорядок. А когда отец увидел, что из-под руки, которой Сашко закрыл глаза, течет кровь, возмущение шалостями сыновей законно возросло. Юхим Мусиевич подбежал к Сашку и вытащил соломинку, попавшую ему в глаз. Не имея времени проверить, уцелел глаз или нет, встревоженный и разгневанный отец несколько раз хлестнул Ивася кнутом и велел обоим тотчас бежать к матери.
Дома мать умыла Сашка, и оказалось, что соломинка попала не в самый глаз, а около, и ничего страшного не случилось. Мать выбранила Ивася, как старшего, за то, что недоглядел за братишкой, а Сашку, как потерпевшему, дала на блюдечке варенья. Сашко, умытый и причесанный, не спеша ел варенье, поглядывая на Ивася. А тот, заплаканный, с взлохмаченными, выгоревшими на солнце волосенками, хмуро стоял у двери, не чувствуя за собой никакой вины, ненавидел и своего хорошенького братишку, из-за которого пострадал, и мать, не давшую ему варенья, и отца, ни за что опоясавшего его кнутом.
Отец вернулся очень скоро и очень сердитый. Кот передумал и пообещал на завтра машину другому, а молотьбу у Карабутов перенес на послезавтра. Юхиму Мусиевичу было от чего расстроиться – ведь к молотилке надо восемь лошадей да человек двадцать работников, и он уже договорился с мужиками, которые тоже будут молотить машиной, чтобы они в этот день помогли Карабутам и лошадьми, и людьми с тем, что Карабуты отработают им, когда понадобится. И вот теперь, когда Юхим Мусиевич уже со всеми условился, приходилось снова бежать более чем к десяти мужикам, жившим в разных концах села, и просить их прийти не завтра, а послезавтра. А что, если они послезавтра заняты? У кого тогда просить помощи? Юхим Мусиевич остановил лошадей посреди двора и спросил жену о Сашке. Ответ не успокоил его – неудача с машиной и мысль о том, что Сашко мог окриветь, не улучшали настроения.
– А где Ивась? – крикнул он сердито. – А ну позови.
Через минуту мальчик стоял перед отцом.
– Ты цепляться? Я тебя выучу цепляться! – крикнул тот и хлестнул сына кнутом.
Карабутча заорал и бросился наутек. Отец догнал сынишку, успел врезать ему еще раз десять и, сорвав на нем злость, пошел к Сашку, чтобы поучить и того, как себя вести, но уже не кнутом, а словами.
Ивась, чувствуя всю несправедливость и абсолютную незаслуженность наказания, рыдал, укрывшись за хатой. Мать услыхала всхлипывания и пошла его пожалеть. Но материнская ласка не только не успокоила малыша, а, наоборот, вызвала новый взрыв.
– Я его убью, когда вырасту! – глотая слезы, посулил он.
– Что ты, глупенький, да разве можно так об отце? – не то засмеялась, не то рассердилась мать.
– Убью! Вот увидите! – истерически закричал мальчик, и теперь мать уже действительно рассердилась.
– Грех так говорить!
– А хоть и грех. Мне все равно. Убью!
– Отец услышит, он тебе даст! Разве так можно?
Но Ивасю теперь не было страшно. Возмущение и гнев, сознание нанесенной ему обиды рассеяли страх перед кнутом. Ему даже хотелось сейчас, чтобы отец услышал эти слова и побил его еще. Пускай! Он отомстит за все, когда вырастет.
К счастью, отец уже ушел и не слышал сыновних угроз.
Слезы у Ивася скоро высохли, а с ними испарилось и желание убить отца.








