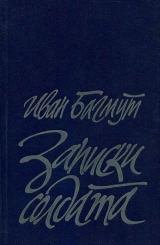
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Іван Багмут
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
– Это моя! – радостно воскликнул я и потянулся к оружию.
– Через командира взвода!
– Что? – не понял я.
– Доложите командиру взвода, что вы забыли винтовку, – официальным тоном повторил старшина.
Настроение у меня сразу изменилось. Это он говорит мне, человеку, который не спал сутки, выполняя его работу. Мало ему позора, который я пережил сам, так надо еще осрамить меня перед всем взводом.
В это время подошел озабоченный лейтенант: неожиданно сообщили, что сегодня нашей дивизии впервые выдадут «наркомовские» сто граммов. Но полк выстроен для марша. Успеет ли старшина получить водку сегодня?
– У старшины моя винтовка, – дипломатически сказал я лейтенанту.
– Так возьмите ее, – равнодушно бросил командир и продолжал, обращаясь к старшине: – Немедленно на продовольственный склад! Постарайтесь обязательно все получить сегодня. Ведь завтра Новый год!
Я схватил винтовку. Какой же она показалась мне легонькой, какой милой, родной!
Через несколько минут полк тронулся. Командиры подразделения все время оглядывались назад, пока наконец за селом мы не остановились. Старшина, веселый, бодрый, громыхая бидонами, появился перед взводом.
– У кого есть кружка?
И тут выяснилось, что кружки нет ни у кого, кроме меня, хотя выдали всем задолго до отправки на фронт. У меня же была собственная, подаренная товарищами перед отъездом в армию, и я берег эту кружку как память.
Кто-то назвал мою фамилию. Как ни в чем не бывало старшина протянул руку:
– Дай кружку!
– Через командира взвода, – ответил я, бледнея от волнения и удовольствия.
– Что-о-о? – взревел старшина.
– Доложите командиру, что во взводе нет ни одной кружки, – официальным тоном заявил я, – а эта кружка не казенная.
Старшина изменился в лице.
Тут к нам подбежал лейтенант.
– Скорей давайте кружку, – весело сказал он, не слышавший нашего разговора.
Заряд пропал даром. Ничего не оставалось, как протянуть старшине кружку, а он, чтобы досадить мне, начал раздавать водку не с правого фланга, где стоял я, а с левого. Когда очередь дошла до меня, старшина был уже так благодушно настроен, что я не мог сердиться.
– Глотни, старик! – сказал он, наливая мне двойную порцию.
– Глотну, – ответил я, и вопрос был исчерпан.
Через сутки дивизия подошла к Дону.
Днем мы видели вражеские укрепления на том берегу, недавно взятые нашими войсками, а ночью слышали недалекую артиллерийскую канонаду, видели отблески разрывов. Фронт был совсем рядом.
Отдохнув сутки, мы перешли Дон, и, когда поднялись на высокий правый берег, я увидел в вечерних сумерках на белом снегу темные пятна. Это были трупы немцев.
Я всматривался в белое поле, и мне хотелось остановиться и заглянуть в лица убитым, которые лежали на обочинах. Но полк шел быстро. В сумерках все возникали и возникали длинные, напоминавшие тюленей на льду туманного моря, черные пятна…
За два перехода дивизия миновала Кантемировку, и наш полк оказался на маленькой железнодорожной станции. Трудный марш закончился. Лейтенант объявил, что нам предоставляется три дня отдыха.
2Вчера Н-ский полк нашей дивизии занял позиции на передовой, а завтра должны занять и мы.
Я отводил в санроту больного товарища и, возвращаясь обратно, увидел первых раненых из соседнего полка. Раненых я видел и прежде, но эти были «наши», из нашей дивизии, и я глядел на них другими глазами, чувствуя то особое волнение, которое овладевает человеком, когда он встает на грань неведомого.
Скрутив нескольким раненым цигарки, я пошел к своему взводу, поглощенный мыслями о завтрашнем дне. Вдруг воздух заполнился неровным, воющим гудением самолетов. Лихорадочно затарахтели зенитки, откуда-то сбоку застрочил пулемет так близко и громко, что заглушил рев моторов. Я впервые увидел самолет с желто-черным крестом и, волнуясь, наблюдал, как хищник, снижаясь, делал заход над станцией. Мне было обидно, что зенитки не могут попасть в такую большую мишень. Потом из-за тучи вынырнул еще один самолет, и, когда он стал заходить на бомбежку, за ним вдруг потянулась лента дыма. Вначале я не понял, что произошло, но самолет резко пошел на снижение и скрылся за домами. Лишь серая лента на небе указывала, куда он упал.
Я и наши бойцы, никогда не видавшие сбитого самолета, бросились к нему, чтобы удовлетворить естественное любопытство. Когда я подбежал, самолет уже догорал, пахло паленым мясом, и я впервые увидел, как выглядит в жизни газетная фраза: «Огнем зенитной артиллерии сбит самолет противника».
Взводу выдали НЗ – неприкосновенный запас еды, индивидуальные медицинские пакеты, таблетки для обеззараживания воды. Вечером проверяли «смертные талоны», как мы называли медальоны с вложенными в них записками, где указаны фамилии бойцов и адреса их родных. Возможно, чей-то «талон» потребуется уже завтра. Передовая врывалась в жизнь взвода со всех сторон. Конец трудным переходам. Начинается то, для чего меня призвали в армию. Начинается настоящее, начинается фронт!
Но день кончился, никаких событий больше не произошло, возбуждение постепенно гасло. Где-то в глубине зрела неприятная тревога: заметил ли старшина, что я забыл на месте последней ночевки каску? Я колебался, сказать или не сказать об этом командиру отделения, и решил промолчать. Боец Брылев, ни к кому не обращаясь, громко спросил:
– А что выдадут завтра? Сухари или хлеб? – И пессимистически добавил: – Верно, сухари…
Саша молча поглядел на него, и мы тоже молчали, но все поняли Сашин взгляд, и я снова остро почувствовал, что завтра встанут вопросы неизмеримо более важные, чем «сухари или хлеб». Снаружи донеслись шаги. В дом вошел командир взвода.
«В наряд», – подумал я.
Лейтенант сел. Он глядел на каждого из нас очень внимательно, словно видел впервые. Потом встал, медленно прошелся по комнате, остановился в углу возле мешка с семечками, ткнул его пальцем и спросил:
– Семечки?
– Семечки, – ответил кто-то из бойцов.
Тогда лейтенант остановил взгляд на Саше, проговорил:
– Зайдите ко мне, – и вышел.
Брылев стал снимать валенки, чтобы лечь спать, и Оленченко едко сказал:
– Снимай, снимай, все равно тебе в наряд идти.
Брылев стал оправдываться, но всем было ясно, что он хотел схитрить, и мы поддержали Оленченко.
Вернулся Саша. Отозвав в сторону меня и Оленченко, он шепотом приказал быстро собираться. Говорил Саша спокойно, но мы чувствовали – даже ему приходится сдерживаться, и это волновало еще больше.
– Оружие, маскировочные халаты и НЗ!
– А каску?
– Каски не нужны.
Я вздохнул с облегчением. Мы стали быстро собираться. Бойцы глядели на нас вопрошающе и настороженно, но ни один не спросил, куда мы идем.
Я вышел. Мороз и темень казались совсем иными, чем когда заступаешь на ночной пост. Согревало ожидание чего-то таинственного и великого.
В отдельном помещении мы сдали старшине документы, надели белые комбинезоны. Трое из второго отделения уже стояли во всем белом, как праведники с картины Страшного суда, с той лишь разницей, что в руках они держали не пальмовые ветви, а автоматы.
Мы прошли по улице быстрым шагом. Встречные бойцы уступали нам дорогу, и в тоне, каким они говорили: «О, разведка!» – слышалось уважение. Это было совсем не похоже на вчера и на все предыдущие дни, когда солдаты, встречая наш взвод, часто занимавший квартиру, пока пехота еще стояла в колонне, говорили с недоброй усмешкой и завистью: «О, разведка!»
На околице села кто-то из ребят попросил напиться у красноармейца, который стоял в воротах. Тот бросился к колодцу и принес котелок воды – предупредительность, вчера еще совершенно невозможная.
– Счастливо вам, ребята!
Нас никто не подгонял, но мы шли очень быстро. Я не думал о будущей опасности, чувствовал лишь праздничный подъем: через несколько часов я приступлю к выполнению самого священного долга – защите Родины от фашистов.
Лейтенант разъяснил задание и сказал, что, наверно, придется сделать так: мы проберемся в расположение врага, найдем телефонную линию, перережем провод и дождемся, пока его придут чинить; если придет один немец – мы его возьмем, если несколько – уничтожим всех, кроме одного, а этого последнего возьмем. Сами слова «расположение врага», «уничтожить», «взять» теперь звучали особенно остро, будоражили.
На передний край обороны мы пришли в полночь. Я с любопытством наблюдал за голубыми светлячками, которые летели нам навстречу, мелодично напевая: ти-у-у, ти-у-у. Они, казалось, летели очень медленно, пять-шесть светлячков друг за другом, и трудно было поверить, что каждый такой светлячок – смерть.
Я присмотрелся – пули летят слишком высоко – и с этой минуты перестал их бояться, воочию убедившись в правильности статистических расчетов, по которым из тысячи выпущенных в бою пуль в цель попадает одна. Я с интересом оглядывал передовую, еще совсем недавно, всего полчаса назад, такую таинственную, и не видел в ней ничего особенного. Обычная степь, одинокие стога прошлогоднего или позапрошлогоднего хлеба и черные пятна пулеметных гнезд на белом снегу… Время от времени из пулеметов и автоматов вырываются короткие очереди. Изредка, всякий раз, как пролетают светлячки трассирующих пуль, слышится автоматная очередь. Я подумал, что эта ночная стрельба – лишняя. К тому же она показалась мне ленивой.
Возбуждение спадает. Не пригибаясь, я медленно иду вдоль линии нашей обороны, и мне кажется, что пулеметчикам больше всего хочется закурить, что у них замерзли ноги и они с нетерпением ждут утра.
Пока высшее начальство решает, что и как нам делать, лейтенант собирает нас под стогом и учит различать по звуку свои и вражеские пулеметы. Мне все выстрелы кажутся одинаковыми, но все же я сдаю экзамен, руководствуясь не характером звука, а тем, откуда он доносится…
Давно повернуло за полночь, когда появился командир стрелковой роты и показал, где можно перейти линию обороны. В этом месте наши будут стрелять выше и можно не бояться своих пуль.
Мы ползем по нескошенному заснеженному полю, среди сухого бурьяна. Всем естеством я вдруг ощутил, что грань обычного перейдена.
Было ли мне страшно? Вероятно, нет. Я лишь старался держаться как можно ближе к валенкам, которые двигались впереди меня, и если уж и боялся чего, так это отстать от них. Выстрелы звучали впереди, справа и слева. Мы ползли в промежуток между двумя вражескими автоматчиками. Я взмок от необычного способа передвижения, но дистанцию выдерживал.
Вот наконец дробь немецких автоматов слышится не спереди, а с боков, – значит, мы уже на линии вражеской обороны. Лейтенант подает условный сигнал: собраться в круг. Часы показывают шесть утра. До рассвета остается слишком мало времени, чтобы успеть пройти в тыл врага. Придется пролежать здесь до вечера.
Если перед человеком поставить дилемму: что лучше – пролежать не двигаясь двенадцать часов на снегу в двадцатипятиградусный мороз или быть убитым, – каждый выберет первое. Но уверенности, что я буду убит, у меня не было, а мерзнуть полсуток не хотелось. Верно, каждый чувствовал то же самое. Не прошло и получаса, как лейтенант решил, что надо подползти к одному из вражеских автоматчиков и попробовать его взять. Поручили это дело Саше, мне и моему земляку Гнатенко, которого все называли Земляком, очевидно, за талант быстро со всеми сходиться. Ползти с винтовкой было неудобно, но мне льстило доверие, и я был рад, что меня назначил лейтенант, а не я сам напросился.
Мы решили подползти к автоматчику, который залег слева от нас, – он был ближе, стрелял чаще и очереди у него были длиннее. Я проверил, не набился ли снег в дуло винтовки. Нет, отверстие чистое. Теперь только бы не колупнуть винтовкой снег. Нам казалось, что до автоматчика шагов пятьдесят и мы сумеем добраться до него, двигаясь лишь в те секунды, когда он стреляет. Хлеб в этом месте был не скошен, стебли торчали над снегом и прятали нас от непрошеных наблюдателей.
Пока автоматчик дал первую очередь, мы успели проползти шага три. Потом бесконечно длинная пауза. Вторая очередь оказалась такой короткой, что мы успели сделать не больше шага, и снова ждем. Очереди, казавшиеся такими продолжительными, пока все мы были вместе, оказались столь коротки, что мы ни разу не успели проползти больше четырех шагов. Паузы между выстрелами тянутся долго, и мы начинаем терять надежду добраться до врага к рассвету. Мы подбираемся к автоматчику, как охотник к глухарю на току: быстрый шаг, пока глухарь токует, и полная неподвижность во время паузы. Только эта охота может иметь для нас совершенно иные последствия.
Чуть светает. Вдруг на подметках валенок Земляка (он ползет впереди) я различаю дратву, и от этого меня бросает в дрожь. Не успеем. Я чуть приподымаю голову. В сером сумраке виднеется фигура врага. Нервы натянуты до предела. Враг так близко, – может быть, в восьми, может быть, в десяти шагах, – что все происходящее мне кажется невероятным.
Фашист спокойно кладет автомат, снимает варежки и растирает пальцы.
Сейчас, пока он греет руки, можно броситься на него, но Саша выжидает. Я не могу оторвать глаз от темного силуэта и вместе с тем боюсь смотреть. Мне кажется, что враг вот-вот интуитивно ощутит наше присутствие.
Немец натянул варежки, взял автомат, и вдруг я почувствовал, что в его фигуре появилось что-то новое. Внешне как будто ничего не изменилось, но я твердо знал, что он услышал нас, и в тот же миг, как я понял это, фашист рывком повернулся к нам. Он повернулся всем корпусом, как зверь, и я увидел перед собой страшное дуло автомата. Инстинктивно и так же молниеносно, как враг повернулся к нам, я прицелился и нажал спуск. Меня оглушила автоматная очередь, и, прежде чем я понял, что это стреляли мои товарищи, чужое лицо медленно (я успел заметить опушенные инеем брови) ткнулось в снег. Я почувствовал огромное облегчение и радость.
Саша приблизился к убитому, взял документы, и мы поползли к своим.
Теперь надо ждать ночи.
Проходит полчаса. Я непрерывно шевелю пальцами ног. Только лежа на снегу в лютый мороз, слушая завывание пуль, познаешь настоящую цену теплой комнате и стакану горячего чая. Если б человек был способен сохранять в памяти со всей остротой и непосредственностью ощущение этих часов, какое наслаждение приносил бы ему каждый день мирного существования!
В холодной, полупрозрачной мгле над линией нашей обороны восходит красный диск солнца. Я просматриваю документы, взятые у автоматчика. Какая-то Люли телеграммой извещает, что выехала из Берлина и будет ждать его писем в Мюнхене, адрес – кафе «Тиволи».
Нескончаемо тянутся минуты, а впереди целые часы, целый день…
Я наконец решаю задачу – почему Саша не взял автомат убитого. Может, не надо было брать и документы? А что, если те, кто придет сменять автоматчика, заметят пропажу документов? А может, заметят и наш след? Я стараюсь отогнать от себя неприятные мысли.
Осторожно подняв головы, оглядываемся вокруг. Виден командный пункт, видно, где мы сможем пройти в тыл. Поскорее бы ночь! Только бы дождаться!
Вокруг идет ленивая перестрелка. Теперь я отчетливо различаю звук своих и чужих автоматов. Иногда среди их негромкого перестука солидно и грозно бьет станковый пулемет, и я невольно проникаюсь уважением к этому виду оружия. Изредка постреливает артиллерия, словно где-то рубят дрова. Высоко над нами поют пули.
Неожиданно ворвался новый звук: в небе что-то жужжит, неприятно, протяжно, все приближаясь и приближаясь к нам.
– Мина, – шепчет лейтенант и прячет голову в снег.
Это была наша мина. За нею, воя, полетела вторая, третья, четвертая. Они ложатся рядом с нами, поднимая гейзеры дыма, и на лице лейтенанта я вижу замешательство и озабоченность.
– Похоже, наши собираются в наступление, – говорит он.
Вокруг нас, словно сизые деревья, вырастают столбы дыма, взрываются, лязгают, лопаются снаряды и мины; захлебываясь, бешено бьют многочисленные пулеметы. Еще минута-две – и эта лавина огня и металла заденет площадку, где мы лежим. Становится ясно: приказ изменен – полк идет в наступление сейчас. Лейтенант принимает решение – возвращаться к своим. Он ползет первый и командует:
– За мной!
Теперь пули не поют тонко и мелодично «ти-у-у», а падают рядом с жестким и коротким «тюп-тюп». Мы по-пластунски ползем назад, к линии нашей обороны, и даже самый строгий сержант из полковой школы не нашел бы в наших движениях ни одной ошибки. Половина трудного пути остается позади, и тут мы попадаем в зону вражеского огня. Крепче прижимаемся к земле и ползем, ползем… Вдруг доносится крик лейтенанта:
– Не стреляйте! Свои! Разведка!
Цепь солдат идет прямо на нас. Они пробегают быстро, стреляя на ходу, и лица у всех сосредоточенные до окаменелости. Бойцы бегут, быстро падают вперед, через минуту поднимаются и снова бегут. Но некоторые падают медленно или валятся назад и остаются на снегу. Один боец падает прямо перед нами, и, проползая мимо, я вижу, что пуля попала ему в голову и пробила каску. Ловлю себя на глупой мысли: может быть, не стоит жалеть о потерянной каске?..
Минуя пулеметное гнездо, мы видим, как поникает пулеметчик, сраженный вражеской пулей. Лейтенант отряжает двух бойцов на КП, чтобы ориентировать нашу артиллерию на вражеский командный пункт, а сам ползет к пулемету сменить убитого. Он успевает дать лишь короткую очередь и со стоном валится на снег. Я бросаюсь туда, чтобы помочь командиру, лежащему рядом с мертвым пулеметчиком.
Ножом я разрезал маскировочный халат, полушубок и гимнастерку лейтенанта и увидел на груди маленькую ранку с синим ободком. Но на выходе пуля разворотила большую кровоточащую дыру. Я забыл, что вокруг поют пули, и поднялся на колени, чтобы вынуть из кармана бинт. Саша увидел и крикнул:
– Ложись! Снайпер!
Лейтенант со стоном проговорил:
– Сюда бьет снайпер! Ложись!
Но я стоял на коленях и рылся в кармане. Это было незнакомое мне доселе душевное состояние, когда кажется, что тело теряет вес и ты весь во власти неизвестного чувства. Тот самый я, который еще три минуты назад, спасаясь от опасности, полз с таким напряжением, я, который каждой клеточкой тела прижимался к земле, чтобы сохранить жизнь, теперь стоял под пулями, не ощущая ни малейшего страха. Должно быть, именно в таком состоянии человек способен броситься под танк со связкой гранат, закрыть своим телом амбразуру дота.
Возможно, причиной этому был недвижимый пулеметчик, который скромно и незаметно выполнил свой долг, отдав Родине все, или тот боец, который упал передо мной с пробитой сквозь каску головою, а может, рана командира, или кровь неведомых мне товарищей на снегу, или могучее «ура», которое уже доносилось от вражеской линии обороны…
Наконец я нашел бинт, наклонился и перевязал рану.
И только когда мы дотащили санитарную лодочку с раненым до овражка, а стрельба немного поутихла, я вспомнил, что стоял под пулями, да еще под снайперскими. Мне стало жутко. Но показался наш связной, и мысли перекинулись от психологического анализа к другим, более практическим делам…
3Связной привел нас в балку, где расположились остальные бойцы нашего взвода. Разведчики развели костер, грелись. Кое-кто варил макароны из неприкосновенного запаса. Взбудораженный зрелищем недавнего боя, я не мог спокойно усидеть на месте и пошел к замершей железнодорожной станции, где разместился санитарный пункт.
У порога лежали двое умерших от ран красноармейцев. Их замерзшая кровь была светло-красная, почти желтая. У меня сжалось сердце. На память пришло: «Внимая ужасам войны», – и я представил себе, как матери этих двух солдат получат извещения.
Нашего лейтенанта как раз перевязывали. Он не стонал и ни о чем не спрашивал, но фельдшер успокаивал его, приговаривая: «Все будет хорошо, через полтора месяца вы будете здоровы». Мне стало не по себе от этих уговоров, и я отозвал фельдшера, с которым был хорошо знаком, спросил, чем можно помочь раненому.
– Дайте бойца, чтобы немедленно перевезти в санбат, а иначе…
Попрощавшись со своим командиром, я побежал к старшему лейтенанту – заместителю командира взвода по политчасти. Через четверть часа подвода с раненым в сопровождении Земляка двигалась к санбату. Когда я ее увидал, меня резануло воспоминание об огромной ране в том месте, где вышла пуля, и о том, как фельдшер успокаивал раненого.
В полдень полк двинулся вперед. Мы проходили по местам утренней атаки, и мне было очень грустно. Я думал о бойцах нашей части, которые погибли в первый же день, в первом бою. Не один из них мечтал о героизме, о боевом подвиге, а упал сраженный, возможно даже ни разу не выстрелив. Говорят, пишут, жалеют о тех, кто погиб в последний день войны. Об этих никто не вспоминает, а они, мне кажется, принесли наибольшую жертву. Они – первые из храбрецов.
Вечером полк расположился на небольшом хуторе. Было очень холодно, и пехота грелась, плотно обступив пылающие строения.
Целых домов почти не осталось, и нашему взводу отвели сарай около штаба полка. Там уже расположилась рота связи, и мы по-братски зарылись в сено рядом со связистами.
Усталый, я заснул, но быстро проснулся от холода. Меня била дрожь, я не мог согреться, хотя сгибался в три погибели. Тогда я вылез из сена и вышел. На небе холодно светили звезды. Дома догорали, и лица бойцов, гревшихся у пожарищ, были медно-красные. Мне ничего не хотелось – только тепла.
Вдруг по мерзлому грунту загрохотали колеса кухни. Последний раз я видел нашу кухню накануне вечером, перед тем как идти в разведку, и поэтому искренне обрадовался, услышав голос Казарьяна – нашего кока.
Я получил свою порцию, но, вспомнив, что Земляк не скоро вернется из санбата, взял и порцию Земляка. Потом попросил добавки на двоих и, «разбомбив» все, почувствовал себя значительно лучше.
Вернувшись в сарай, я объявил «бачковую» тревогу (хотя еду мы получали не в бачках, а в котелках, эта формула упрямо держалась во взводе) и пошел к штабу полка в надежде погреться в комнате, если сегодня оперативным дежурным кто-либо из знакомых офицеров. Но навстречу уже бежали связные с приказом о выступлении.
Переход был невелик – мы еще до рассвета остановились в большом селе и остаток ночи провели в теплых домах, гостеприимно встреченные населением.
Под вечер к нам во взвод пришел полковой агитатор. У нас был свой политрук – заместитель командира взвода по политчасти, но – потому ли, что пророки как в своем отечестве, так и в своем взводе ценятся невысоко, или потому, что наш старший лейтенант каждую беседу начинал с фразы: «Боец обязан любить своего командира», – мы охотнее слушали полкового агитатора.
Бойцы всегда радостно встречали этого молодого офицера, который, как никто, умел поднять настроение, заинтересовать. Сейчас армия наступала, и солдатам хотелось, чтобы кто-то убедил их, что наступление это уже не остановится до окончательной победы. Нам хотелось, чтобы кто-нибудь не из нашего взвода, а извне еще раз подтвердил, что мы сильны. И полковой агитатор умел так поговорить, что бойцам становилась ясна перспектива, которую не затмевали даже трудные военные будни – самое страшное, что есть на войне. После беседы полкового агитатора каждому из нас казалось, что мы побывали в Ставке Верховного Главнокомандующего, а это для солдата имеет большее значение, чем можно предположить…
Лейтенант умел вставить в беседу крутую шутку, иногда, может быть, чересчур соленую, но всегда уместную и острую. Мы начинали смеяться заранее, как только он спрашивал, нет ли среди нас женщин, а выслушав, хохотали, как способна хохотать одна пехота.
Наш старший лейтенант, которого назначили командиром взвода вместо выбывшего лейтенанта, вернулся из штаба полка, когда беседа с полковым агитатором была в самом разгаре. Он кивнул агитатору и приказал:
– Отделение Красова – в разведку. Два других – в полковой наряд, патрулировать по улицам.
– Когда же еще к нам? – спросил Красов лейтенанта.
– А я не собираюсь покидать вас сегодня, – засмеялся тот. – Примете к себе в разведку?
– Зачем вам рисковать? – мрачно проговорил Красов.
– Ну вот! – рассмеялся агитатор. – Тоже нашли барышню!
– Товарищ лейтенант, – обратился к агитатору Брылев, – вы наше солдатское дело всегда выполните, а вот мы ваше – нет.
Я понимал Брылева: его крестьянская бережливость чувствовалась во всем. Лейтенант был для него ценностью, рисковать которой он считал нецелесообразным.
– Резолюция верная! – рассмеялся Кузьмин.
Наша дискуссия ни к чему не привела. Полковой агитатор проверил диски автомата и, провожаемый восторженными взглядами бойцов, вышел с Красовым.
На дворе было ветрено, неуютно. Мы шагали по пустынным улицам, приглядывались к темным кустам возле усадеб и всматривались в белую степь, куда ушли наши товарищи вместе с полковым агитатором. Мороз обжигал лица; руки, державшие оружие, коченели, ноги наливались усталостью. Мне думалось, что гораздо легче отдать жизнь сразу и значительно труднее отдавать ее по минутам. Опасность всегда рождала у меня какой-то праздничный подъем, а вот побороть будни – тут и впрямь нужна настоящая сила…
Часа в три ночи вернулся Красов. Он повстречался мне печальный и сосредоточенный, когда выходил из штаба полка.
– Что случилось? – спросил я, напуганный его необычайно озабоченным видом.
– Лейтенант ранен, – ответил он мрачно.
Мы грустно помолчали.
Потом Красов рассказал, как его отделение проникло в расположение врага и выяснило, что немцы отступили, оставив небольшой заслон автоматчиков. Итак, опасности с фланга, которой боялся командир нашего полка, нет.
Только перед самым рассветом нас сменили. Было часов шесть утра. Я прислонил винтовку к печке, чтобы оружие поскорее вспотело и его можно было бы почистить. Красов, Кузьмин и Земляк сидели у стола с карандашами в руках.
– Что это вы надумали писать письма в такое время? – удивленно спросил я.
Все трое молча поглядели на меня и снова погрузились в писанину.
– Читай! – сказал через минуту Красов и протянул мне листок бумаги.
Это было заявление о приеме в партию.
– Так-то, брат, – степенно сказал Земляк, глядя мне в глаза и думая о чем-то своем.
Передо мной встало лицо нашего полкового агитатора. Нет, сегодняшняя беседа не пропала даром.
Бойцы передали заявления старшему лейтенанту и сидели, тихо разговаривая. Я давно почистил оружие, но спать мне не хотелось. Проснулась хозяйка, принялась растапливать печь. Ее дочь, старательно прикрывая ноги юбкой, надевала сапоги, собираясь по воду.
– Хороший был лейтенант! – вздохнул Кузьмин и стал устраиваться на соломе.
– Почему ты говоришь – был? – взволнованно спросил я.
Он пожал плечами:
– Много крови потерял.
– Доктор же сказал – должен выжить, – возразил кто-то из присутствующих.
– И о нашем лейтенанте фельдшер говорил, что скоро поправится, а умер… – проговорил Земляк.
– Наш лейтенант умер? – испуганно переспросил я.
Мне никто не ответил.
Погиб в первый день и в первом бою, а как он мечтал о подвигах…
Но на войне долго грустить не приходится. За селом послышалась далекая стрельба и вскоре затихла. Это стало темой разговора. Связной, пришедший звать старшего лейтенанта в штаб, рассказал, что наши перебили немецкий заслон, замеченный ночью Красовым.
До обеда каждый из нас занимался личными делами, потом ходили на другую улицу поглядеть на единственного оставшегося в селе после гитлеровцев индюка. День был солнечный, из домов высыпала детвора, у ворот группками стояли девушки, и почему-то казалось, что сегодня воскресенье.
Во второй половине дня пришел приказ готовиться к маршу. Полк выстроился на улице и простоял часа три, до тех пор, пока не стемнело. Холод был ужасающий, и все обрадовались, когда наконец пошли.
За селом начинался лес. Головное подразделение подошло к нему и остановилось. Чтобы хоть немного согреться, я поспешил вперед поглядеть, почему задержка. Дорога поднималась в гору, потом спускалась в балку и снова шла на подъем. В балке стояла батарея «76», на конной тяге, и задерживала всю колонну. Каждые несколько минут комбат подавал команду. Мне раньше не доводилось слышать артиллерийские команды, и потому казалось странным ее протяжное звучание: «Шагом а-арш!» После «а-а-арш!» лошади рвались вперед, но, потоптавшись, останавливались. Комбат и ездовые несколько минут ругались, лошади за это время немного успокаивались, и комбат снова выкрикивал: «А-а-арш!» Дальше все повторялось сначала. Я не стал дожидаться, чем все это кончится, и пошел к лесу. Бойцы группками расположились у костров, я тоже подсел к ним и грелся, пока колонна не тронулась.
Поднялся ветер, похолодало еще больше, я старался втянуть шею в воротник полушубка, но воротник на солдатском полушубке так узок, что имеет скорее символическое значение. А полк двигался медленно, часто останавливался, и согреться было невозможно.
Далеко за полночь мы вошли в большое село. Колонна остановилась, и каждый из нас прислушивался к разговору между командирами, затаив один самый жгучий вопрос: останемся ли мы здесь на ночь или двинемся дальше?
Почти вся улица, на которую мы вышли, выгорела. Село взяли, вероятно, сегодня днем; на месте сгоревших домов кое-где блестели раскаленные головешки, к небу поднимался едкий дым.
Полк стоял. Мы были уверены, что вот-вот раздастся приказ старшего лейтенанта искать квартиру, но он крикнул: «Не выходить из строя!»
Тогда я схитрил: отпросился у командира отделения напиться и шагнул в первый же уцелевший дом. Там было полно народу, бойцы, стоявшие у самой двери, предложили мне немедленно покинуть помещение. Я, не возражая, стал свертывать самокрутку, зная наверняка, что, пока я ее не закурю, ни у кого не хватит совести выгнать меня на мороз. Тем временем подошли еще бойцы, меня протолкнули на середину комнаты, и я перестал быть центром внимания.
У стола дремал какой-то лейтенант, и из того, что он не поддерживал бойцов, не пускавших в дом новых людей, я понял, что здесь не подразделение, а случайное сборище, и осмелел. Я протиснулся к печи и уселся на кровати.
Было накурено, тесно, зато тепло. В общем, в доме было чудесно, но удовольствие мне портило сознание, что я нахожусь здесь не совсем законно. Следовало бы вернуться во взвод, но выйти на улицу без команды не было сил.
Пока длилась эта внутренняя борьба, в комнату вошел Саша, а за ним старшина. Я сразу почувствовал себя спокойно и теперь боялся лишь команды «Выходи!». Хозяйская дочка наделяла всех бойцов семечками, а ее мать огорчалась, что нечем нас накормить. В комнату набилось человек сорок, и все мы сегодня были здесь не первыми.
Мы грызли семечки, лениво переговаривались с хозяйкой, и мне казалось, что в целом мире нет ничего лучше этого теплого дома, битком набитого солдатами.








