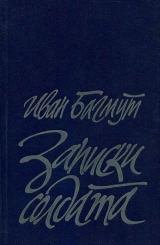
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Іван Багмут
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
Бочка
Петр Иванович, доктор филологических наук, сидел у стола и ощипывал утку. На столе, сбитом из простых досок и фанеры, среди рассыпанного табака лежали галеты, сахар, монография о языках палеоазиатских народов и кусок соленой рыбы. Ученый закончил ощипывать утку, бросил ее на кучу галет, дополнив этим красочный натюрморт, и вздохнул с таким облегчением, как вздыхают только дети после долгих и горьких слез.
Его лицо сразу утратило то слишком сосредоточенное выражение, какое всегда бывает при выполнении непривычной работы, и теперь вся его фигура выражала беспредельную тоску. Уже два месяца Петр Иванович живет в пустынной бухте Охотского моря, вдвоем с икрянщиком рыбного завода, человеком пустым, малокультурным, грубым, неспособным не только на высокие бескорыстные порывы, но и на то, чтобы понять такой порыв у другого. Их забросили сюда из районного центра на собаках, еще по зимнему пути. Волнуясь, ученый нетерпеливо ждал прибытия кочевников, чтобы начать исследование тонкостей их языка.
К тому же Петр Иванович перевел на орочский язык несколько рассказов русских классиков, но ему нужно было уточнить и проверить некоторые места, чтобы закончить перевод и этим, по сути, сделать огромного значения дело: приобщить орочей к бессмертным образцам русской культуры.
А тем временем он живет в обществе человека, которому боится не только прочитать свои переводы, а даже сказать о них, потому что уверен, что в ответ увидит презрительную усмешку или услышит какую-нибудь грубость.
Чего стоит человек, если он может говорить только о засолке икры и своем заработке и все время старается подчеркнуть непрактичность ученого? Лучше жить совсем одному, чем с тем, кто тебя не понимает и не может понять.
И неприязнь к Кубу – так звали икрянщика – нарастала с каждым днем. Ученый прятал ее под маской легкой иронии, но боялся, что вот-вот нервы не выдержат и тогда они с Кубом станут открытыми врагами. Чего хорошего ожидать, если два человека, ненавидящих друг друга, живут вместе на пустынном побережье? А как бы хотелось, чтобы рядом был простой, пусть самый посредственный человек, которому можно было бы открыть душу, не стыдясь сказать о своих обыкновенных человеческих чувствах.
Но сейчас весна, и дороги к людям отрезаны. В бухте только доктор филологических наук Петр Иванович, икрянщик Куб и безграничная, как море, тоска.
Неожиданно и громко заявил о своем существовании черный от сажи чайник. Ученый снял его с печки, всыпал в кипяток чай, поставил чайник на стол и открыл дверь. Солнечный луч упал на связки беличьих шкурок с черными пушистыми хвостами, заиграл на красных с черными крестами на спинках лисьих шкурах, развешанных на коричневых, блестящих от звериного жира рубленых стенах. Посмотрев на меха, Петр Иванович подумал, что они уже достаточно проветрились и их можно прятать в мешки. Он хотел было выйти, позвать своего товарища, но услышал знакомые шаги.
Хлопнула дверь, и в дом вошел Куб. Он повесил на стену ружье, оглядел унылую сервировку стола и сказал:
– Зверь пуганый – нет спасу!
Действительно, зверь, известный больше под названием дикая утка, был напуган беспрерывными выстрелами двух охотников, которые не давали себе труда подкрадываться к дичи, а шли во весь рост. Как только показывались знакомые фигуры, утки улетали.
Доктор, довольный неудачей Куба, снисходительно улыбнулся и посоветовал:
– А вы к зверю подползайте.
– Подползать к утке? – оскорбился Куб. – Я не знаю, о чем пишут в ваших книгах, но твердо уверен, что уток на Охотском побережье бьют, не подползая к ним.
– Так почему же вы их не бьете? – ехидно спросил Петр Иванович.
Охотник сделал вид, что отвечать на этот вопрос ниже его достоинства, и молча сел к столу.
Некоторое время он сидел задумавшись, потом взглянул на ученого и дружелюбным тоном, какого уже давно не было в их разговорах, сказал:
– А у нас новость. На море плавает бочка.
– Бочка? Какая бочка?
– Какая? Море принесло.
Петра Ивановича это очень заинтересовало. Два месяца они живут без всякой связи с внешним миром, и вдруг – бочка в море! Может быть, ее смыло с неизвестного чужого берега, а может быть, она с разбитого корабля?.. Ученый представил себе многолюдный берег, корабельные трюмы, уютную кают-компанию и до боли почувствовал свое одиночество. Появление бочки взволновало его, как давно ожидаемое письмо.
– Откуда она тут взялась? – возбужденно спросил он.
Его товарищ спокойно ответил:
– Меня это меньше всего интересует. Меня интересует, с чем она. – Он немного помолчал и, как человек, взвесивший все «за» и «против», твердо объявил: – И я вам скажу – эта бочка со спиртом! Вот с чем эта бочка!
Ученый снова почувствовал приступ неприязни к своему товарищу, и радость, вызванная новостью, исчезла. Он равнодушно спросил:
– Почему вы так думаете?
– Почему я так думаю? Потому что бочка видна из воды на одну пятую.
– Может быть, она с керосином?
Это предположение вызвало презрительный смех:
– С керосином? Честное слово, я не знаю, чему вас учили в вашей академии, но, вижу, не тому, что нужно в жизни. Кто же держит в таких бочках керосин? В таких бочках держат только спирт!
Доктор, сдерживая раздражение, смотрел мимо Куба. Он представил бочку, фабричную марку на ней, надписи, пометку кладовщика. За этими буквами и цифрами он видел людей. Ученого снова охватило нервное возбуждение. Ему хотелось сразу же ехать в море.
Приятели заспорили: ждать, пока волны прибьют бочку к берегу, или откопать из-под снега лодку и выловить бочку. Петр Иванович горел нетерпением и предлагал сейчас же взяться за работу; Куб полагался на доброжелательность моря.
– Знаете что? Давайте выпьем ту, последнюю бутылку, которую вы прячете в пороховом складе, а потом поедем ловить бочку, – сказал икрянщик, пряча лукавую улыбку.
Ученый заколебался. У него в самом деле была бутылка спирта, и он держал ее на тот случай, если произойдет какое-нибудь несчастье.
– Давайте выпьем ее! Ведь скоро у нас будет целая бочка, – убеждал Куб. – Давайте выпьем, и тогда я готов идти не только в море, а хоть на край света.
Петр Иванович задумался, а Куб, увидев, что твердость ученого пошатнулась, добил его одним ударом:
– Как хотите: или давайте бутылку, или я не поеду.
Ученый молча встал и вышел из домика. Через несколько минут он вернулся и угрюмо поставил на стол бутылку.
Появление спирта вызвало у Куба такую широкую и солнечную улыбку, что, казалось, посветлело в комнате. Он проворно достал пустую литровую бутылку, добавил в спирт столько воды, чтобы получилось градусов семьдесят, и, постучав по бутылке ногтем, весело констатировал:
– Настоящий камчатский раствор!
Они вытащили охотничьи ножи и отрезали по куску рыбы. Потом Куб еще раз постучал ногтем по бутылке. Услышав звонкий звук, он осторожно наполнил стаканы.
– Выпьем за море! – сказал он, опрокинул стакан и сразу же налил себе второй. – Выпьем за нашу бочку!
Широким жестом он перебросил утку с галет на сахар, стряхнул с галеты каплю утиной крови с присохшим перышком, звучно хрустнул печеньем и весело сказал:
– Бочка! Бочка в море – это не то что бочка во дворе. Мне везет на бочки.
Они выпили за море, и ученый, которому живость Куба казалась наглостью и цинизмом, поинтересовался, что следует понимать под словами «мне везет на бочки».
– Разве я вам не рассказывал? Да об этом знают на всем западном побережье Камчатки! Я предупреждаю – вы упадете в обморок, когда услышите о моем приключении.
Доктор выразил сомнение по поводу взгляда Куба на крепость его нервов, но Куб не обратил на это внимания.
– Я был тогда комендантом милиции и икрянщиком в бухте на западном побережье. Вы, может быть, думаете, что я был милиционером? Я знаю, вам хватит образования для такого предположения. Нет, я был комендантом, и у меня был магазин, двенадцать самых лучших ездовых собак с нартой и пороховой склад с бочкой спирта. Не с бутылкой, как у вас, а с бочкой! И власть над всей бухтой! Короче говоря, я жил один в бухте, смотрел за порядком и ждал, как вот мы с вами теперь, пока съедутся кочевники с гор. Что, по-вашему, должен был я делать, живя один за триста километров от живых людей?
Доктор высказал предположение, что комендант, очевидно, в основном пил спирт. Куб удивился догадливости ученого, но алкоголь настроил его на мирный лад, и он снисходительно сказал:
– Вы не очень ошиблись, но речь не об этом. Как-то в мае, когда начал таять лед, я вышел на берег и увидел в море бочку. Скажу откровенно, к этому открытию я отнесся равнодушно и, осмотрев свои владения, пошел домой. Вдруг слышу: «Поть! Поть! Поть!» – это команда для собак «направо», а через минуту – скрип полозьев по снегу, и в хижину входит почтальон. Он подает мне два пакета с сургучными печатями, просит для собак рыбы, для себя спирту, рассказывает новости. Мы выпили по два стакана, и тогда почтальон обращается ко мне с просьбой. Он очень спешит, а дорога тяжелая, и его собаки совсем выбились из сил. Он уже бросил на дороге семь штук и едва тянется на пяти. «Дай мне до завтра шесть первых собак и вожака Сокола, – говорит он, – иначе придется возвращаться домой пешком». Разве может человек, если он полгода живет в одиночестве и полгода не слышал человеческого голоса, отказать другому человеку? Короче говоря, мы выпиваем еще по доброй чарке, я помогаю почтальону припрячь в нарту своих семь собак, в том числе и Сокола, и желаю ему счастливого пути. – Куб на минуту умолк, погрузившись в воспоминания, потом продолжал: – Вы бы с ума сошли от радости, если бы у вас была такая собака, как Сокол.
Ученый заверил своего собеседника, что относится к собакам равнодушно и не сошел бы с ума, будь у него даже два таких Сокола.
Куб грустно покачал головой и серьезно сказал:
– Вы просто ничего не слышали о Соколе. Это был в самом деле сокол! Вы знаете, как погибла эта собака? Она умерла на перевале Сердце-Камень, когда я сделал на своих собаках пятьсот километров за двое суток. Сокол был в запряжке передовым, и на самом перевале у него от напряжения выскочили из орбит глаза и повисли на нервах, словно две страшные большие пуговицы. Но перевал он взял! Когда он погиб, я плакал, как ребенок, потерявший мать, привез его домой и похоронил возле своего жилья. Я тащил на себе нарту, но не мог оставить друга в горах. Вы книжный человек и не способны понять настоящие человеческие чувства – это я вам говорю откровенно. Повторяю. Я плакал по собаке! Смейтесь, если хотите, но это так.
Ученый молча, широко раскрытыми глазами смотрел на Куба.
Икрянщик вздохнул и качнул головой, словно отгоняя воспоминания.
– Но ближе к делу. Отдаю я своих собак, кладу запечатанные письма под подушку и ложусь отдохнуть. Утром просыпаюсь, беру письма – и что ж, вы думаете, в них? В первом пишут о бдительности в охране границы. А во втором что? Во втором – категорический приказ: все замеченные в море бочки, мобилизовав общественность, немедленно вылавливать и без задержки отправлять в район. Ну, думаю, есть у меня бочечка. И собираюсь идти к своей общественности, которая состояла из сторожа, жившего в шести километрах, вверх по реке. Это был подозрительный тип, и если я не считал его шпионом, то только потому, что здесь он никому не мог передать какие-либо сведения. Я одеваюсь, беру винчестер, выхожу из дома – и что, вы думали, я увидел? Вы бы умерли от отчаяния, если бы оказались на моем месте! Я вижу, как этот самый шпион-сторож мчится на своих двенадцати собаках в горы, и на нарте у него – что бы вы думали? – бочка! Вот вам письмо о бдительности на границе! Я сгоряча разряжаю в него винчестер, но он сворачивает за кусты – и только его и видели. Что могло быть в бочке, о которой шлют письма, запечатанные сургучными печатями, и которую подозрительные личности с риском для жизни вылавливают и увозят в горы? Признаюсь вам – я испугался впервые в жизни. Но что делать? Догонять? На чем догонять, если мои семь лучших собак повезли почту? Я иду домой и проклинаю почтальонов, шпионов и свою доброту, лишившую меня моих собак. Что я должен был делать? Я спрашиваю вас: что я должен был делать?
Ученый, под впечатлением рассказа, молчал, поглядывая на Куба новым, теплым взглядом. Не дождавшись ответа, тот продолжал:
– Я взвесил все и решил, что лучший способ помочь беде – лечь спать. Ведь самое трудное – ждать. Но вот здесь и начинается настоящая трагедия. Я ведь вам сказал, что допил после почтальона все. Я снова одеваюсь, иду в пороховой склад, где стоит бочка со спиртом, и… ужас! Вы бы дважды умерли, если бы увидели эту картину! Дверь склада открыта настежь, и на складе, там, где стояла бочка со спиртом, пустое место. Нет бочки со спиртом! Меня чуть не разбил паралич. В ней было почти сто литров! Тогда я, словно лунатик, иду к морю и вижу, что бочка, которую я видел там, плавает, и волнами ее все ближе и ближе подгоняет к берегу. Это меня немного успокоило, но не очень.
– Ну и что же?
– Что? На мое счастье, через час вернулся почтальон. Мы запрягли всех своих собак и на семнадцати понеслись в горы. Мы догнали преступника километрах в ста двадцати от берега, и он многое мог бы рассказать о нашей встрече, если бы остался жив.
Рассказчик вылил остатки спирта в стаканы, выпил и сказал:
– Вот какой был у меня случай.
– А как же бочка? – поинтересовался ученый.
– Бочку я бросил в горах. Негодяй встретил кочевников и успел разбазарить почти все. Осталось литров двадцать, и я их перелил в меньшую посудину.
– Я спрашиваю о той бочке, которая плавала в море.
– А-а… Я думал, об этой. Что было в той бочке? Правду сказать, меня тоже интересовало это. Ее прибило к льдине, и мы с почтальоном решили взять ее без лодки, потому что ветер погнал льдину к берегу. Бочка была близко. Я накинул на нее петлю и отдал веревку почтальону, чтобы он тащил ее, пока я согрею руки. У меня замерзли руки, потому что веревка была мокрая, а на дворе морозец. Почтальон поднатужился и, поскользнувшись, бултых в воду. Я не успел охнуть, как он исчез под водой, а когда вынырнул, веревки в его руках уже не было. Почтальон то нырял, то показывался над водой, и я видел, что ему конец, потому что он не умеет плавать. Шуба его вздулась пузырем. Я понял, что хотя почтальон, по-видимому, потерял сознание, но будет плавать наверху, и бросился на берег за веревкой. Когда я вернулся, мне показалось, что почтальон уже готов. Его прибило к бочке и отнесло в море метров на двадцать. Правду сказать, я не люблю купаться в Охотском море, да еще в мае, когда в воде полно льдин. Но считаться со своими вкусами, когда гибнет человек, не приходится…
Не отрывая взгляда от Куба и сочувственно кивая головой, ученый проговорил:
– Да.
– Вот вам и «да». Я привязываю веревку к торосам, беру второй ее конец в зубы и, мысленно проклиная дурака – мысленно, потому что рот занят, – лезу в воду и плыву к почтальону. Тело мое сразу онемело, и я понял, что в этой ванне можно остаться навеки. Но мне посчастливилось зацепить веревкой и утопленника, и бочку и притянуть их к льдине. Почтальон быстро пришел в себя, но мне пришлось нести его до самой конторы, потому что у него окоченели ноги. Потом, часа через два, мы вытащили бочку и на следующий день отвезли в район. И что же, вы думаете, было в ней? Это была бочка с контрабандистской шхуны, которую потопила наша морская охрана. В бочке было триста консервных банок, а в каждой банке по три шкурки камчатского соболя…
Куб во весь рот зевнул и перебрался со стула на постель.
– Ну как? – спросил ученый. – Пойдем готовить лодку?
– Стоит ли? – возразил Куб и, еще раз зевнув, добавил: – Может, то и не бочка? Весной в море всякий мусор плавает…
Он лег и, нащупав рукой позади себя куртку, чтобы укрыться, широко улыбнулся. Ученый увидел эту улыбку, ясную и искреннюю, как у ребенка, и удивился сам себе – как он столько времени не мог понять этого человека? Как он мог за шелухой внешней грубости не увидеть в Кубе настоящего человека, способного и на самоотверженный подвиг и на нежное, товарищеское внимание?
Профессор ответил Кубу теплым взглядом и, решительно открыв чемодан, достал оттуда свой перевод.
1945
Двенадцатая собака
Когда Петр Иванович зашел в икрянку,[4]4
Икрянка – помещение, где солят икру.
[Закрыть] Куб приступил к самой ответственной части своей работы – выемке икры из рассола. В засолке икры, казалось бы, нет ничего сложного, но засолить икру так, чтобы ее можно было есть, дано не каждому. Икру держат в рассоле не меньше трех и не более восемнадцати минут, в зависимости от сырья. Везли рыбу в лодках или, нанизав ее на веревку, тянули берегом по камням, лежала рыба один час или десять после того, как была поймана, – опытный икрянщик уже по этому угадывает, сколько ей нужно пробыть в рассоле. Если икру не додержать в рассоле хотя бы одну минуту, она вспенится и ее выбросят на месте, а если передержать, она будет соленая, как огонь, и ее выбросят потребители.
Куб пробовал икру, мял в руке, испытывал ее твердость на зуб, на язык и губами, а два помощника благоговейно следили за каждым его движением.
Петр Иванович хотел было рассказать, что прибыла почта, но, увидев сосредоточенное лицо Куба с икринкой на губе, остановился на полуслове и стоял, как и помощники Куба, проникнутый важностью момента.
Наконец соответствующее количество секунд прошло. Икрянщик властно мигнул помощникам и приветливо улыбнулся ученому. Парни бросились выбирать икру плетеными корзинками. Корзинки они ставили на доску, чтобы стекал рассол.
– Я так ждал почты! – сказал Петр Иванович. – И что бы, вы думали, она привезла?
Куб посмотрел на помощников и, убедившись, что они работают с достаточной быстротой, повернулся к Петру Ивановичу.
– Специально послали катер, чтобы доставить обязательное постановление райисполкома – о чем бы, вы думали? – о том, чтобы привязывали собак! Ну не глупости?
– Глупости? – переспросил Куб ученого и посмотрел на него так, как смотрит знаток на неопытного человека, собравшегося выбросить, как бесполезный, необработанный и ничем не выделяющийся камешек алмаза. – Честное слово, я никогда не был высокого мнения о вашей сообразительности, но такого и я не ожидал.
Поскольку Куб был первым, кто давал такую оценку умственным способностям доктора филологических наук Петра Ивановича, последний не оскорбился и даже не моргнул.
– Я не знаю, что вы увидели важного в этом постановлении, – сказал он, однако уже не так уверенно.
– Читайте постановление! – приказал Куб тоном учителя ученику, который не может решить самую простую задачу.
Петр Иванович вытащил бумагу и прочитал:
– «I. Учитывая очередное прибытие из тундры к морю оленьих табунов и чтобы предупредить ущерб, который могут нанести оленям ездовые собаки, вменяется в обязанность собственникам собак внимательно следить за тем, чтобы все собаки были крепко привязаны.
II. Всех непривязанных собак разрешается убивать на месте.
25 июня 1932 года.
Председатель РИК Уяган.
Секретарь Иванов».
– Теперь понятно? – спросил Куб.
– Мне понятно, что собак нужно привязывать, – ответил ученый.
– А мне понятно, что собака может отвязаться, – придавая возможно бо́льшую едкость тону, сказал икрянщик. – На побережье вряд ли найдется человек, который променял бы хорошую собаку на лошадь. Вот я и думаю: для того, кто живет на Охотском побережье и имеет ездовых собак, это постановление важнее, чем известие о наводнении в штате Массачусетс.
Парни закончили выбирать икру. Желто-красная и влажная, она светилась и блестела, как золотые бусы. Теперь она должна была лежать в корзинках шесть часов, пока стечет весь рассол. Только после этого ее можно укладывать в бочки.
– Разумеется, – продолжал Куб, – и для оленеводов это постановление очень важно. Оленеводство на Охотском побережье не знает собаку как сторожа или пастуха табунов. Собака оленю – только враг. Если собака ловка и не ленива, она может для забавы в один день задушить двести оленят и десятка три старых оленей, а сотни других поразгонять так, что пастухам придется искать их до зимы. Но речь не только об этом. Дело тут значительно глубже. Вы, верно, слышали, как лишился своих собак Игнат Рыжий?
Нет, Петр Иванович не слышал об этом. Куб удивился ограниченности эрудиции ученого и добавил, что об этом случае знают все от бухты Нагаево до Петропавловска-на-Камчатке.
Он взглянул сначала на своих помощников, которые стояли, глядя ему прямо в рот, потом на икру, на часы и, немного подумав, разрешил парням на время уйти домой.
– Если хотите, я вам расскажу об этом случае, – сказал Куб и вытащил из какого-то тайника пол-литра, стакан и кусок хлеба.
Ученый кивнул в знак согласия и сел на перевернутую бочку.
– Тащите поближе к себе икру и знайте, что такой, как эта, на материке[5]5
Материком на Охотском побережье называют центральные части Союза.
[Закрыть] не бывает. Отведать такую икру можно только на рыбозаводе.
И, поставив перед Петром Ивановичем целую корзинку икры, он запер дверь на крючок и наполнил стакан.
– Это было в двадцать седьмом году. Я тогда работал икрянщиком в бухте Пестрых Скал, – начал Куб. – А солил рыбу Игнат, или Рыжий, как звали его на побережье. Это был перворазрядный скряга, жаднючий, как никто другой. Он тогда жил в той же самой бухте, немного вверх по реке, в лесу. Рыбы в то лето шло много, и я едва управлялся, потому что работал одной рукой. Разгружая пароход, я упал с ящиком, и левое плечо у меня распухло и стало черным, как оленья печенка.
Но ближе к делу. Прошло несколько дней, и из района приезжает наш местный фельдшер, или, как мы его называли, доктор. Я очень уважал его, потому что мы с ним прошли всю Камчатку, освобождая ее от белогвардейцев. Человек твердый, сильный и принципиальный, он имел только один недостаток: все болезни лечил банками. Он это как-то научно обосновывал, и я даже соглашался с ним. Но когда он зашел в икрянку и я услышал звяканье банок в его сумке, мне стало нехорошо. Плечо мое уже совсем почернело и от малейшего прикосновения болело так, что другой на моем месте потерял бы сознание. Поэтому я, вместо того чтобы поздороваться, схватил здоровой рукой большой гаечный ключ и посмотрел на доктора такими глазами, что тот сразу понял меня и убрал руку с сумки, на которой был нарисован красный крест.
«Положи ключ, – сказал он мягко, – и слушай, какое постановление вышло в районе».
И он рассказал о постановлении. Оно было таким же, какое только что прочитали вы. Мы долгонько сидели с ним, вспоминая знакомых, как вдруг раздается выстрел и в икрянку вбегает мальчик с криком: «Убили Рыжего!» Мы бежим в засольный сарай и видим, что Игнат Рыжий стоит, наклонившись над грудой рыбы, угрюмый и злой, а орочи тянут к нему убитую собаку. Орочи обступили Игната и, словно это могло доставить ему большое удовольствие, радовались удачному выстрелу, горячо обсуждали технические детали охоты, искусность охотника, прицелившегося в собаку на бегу. Мы с фельдшером подошли к Игнату, и, хотя он был бывший купец и только случайно остался здесь после освобождения Камчатки, фельдшер все-таки высказал ему свое сочувствие. Он сказал: «Вот досада! А я ехал сюда и думал обязательно выменять у тебя эту собаку на своего коня. Теперь попрошу тебя продать мне хоть кусок собачьей шкуры на рукавицы».
Игнат молчал, а орочи захохотали и сказали, что из собачьего меха рукавицы получаются очень теплые. Мы улыбнулись и посоветовали Игнату крепче привязывать собак.
Это случилось в обед, а перед вечером слышим снова выстрел. Орочи бросили сдавать пойманную рыбу и стали смотреть на холм, откуда шел, продувая винтовку от дыма, Мача.
«Плохо привязываешь своих собак, – обратился он к Игнату и так доброжелательно посмотрел на него, как охотник на волка, когда тот наконец попал в капкан. – Плохо привязываешь! За день у тебя отвязались две собаки!»
Это очень развеселило рыбаков, которые почти все были оленеводами. Кое-кто из них стал рассказывать Игнату о способах привязывать собак, известных даже младенцам, а Игнат только скрежетал зубами. Я спросил, кто убил первую собаку.
«Мача!»
Э, думаю, любопытно! Я знал, что Мача года два назад лишился своих оленей и теперь не кочевал, а ловил куропаток на слиянии двух рек. Но как он потерял оленей, я не знал. Вы бы посмотрели на этого Мачу! Это был настоящий красавец, сильный как пружина. Он мог две недели без отдыха бегать на лыжах за дичью и никогда не приходил с пустыми руками. Когда начиналась пурга, он мог просидеть восемнадцать часов в юрте молча, протянув руки к костру и устремив взгляд на огонь, и так каждый день, пока не распогодится. Вы понимаете, что, когда такой человек берется за какое-нибудь дело, он доводит его до конца.
Когда я проснулся на следующий день, первая мысль моя была о собаках Игната. Мне сказали, что Мача заболел и не вышел с бригадой ловить рыбу. Утром ему поставили банки, а через полчаса у Игната не стало третьей собаки. После этого Мача сказал, что ему стало легче, и отправился рыбалить.
Мача не расставался со своей берданкой ни на минуту, а его восемь детей следили за территорией промысла, как настоящие часовые. И через три дня из двенадцати собак Игната осталось в живых только шесть. Я понимал, что тут сводятся какие-то старые счеты, но в ответ на все мои расспросы слышал одно: «Постановление, закон. Орочи любят выполнять законы».
Когда число убитых собак перевалило за половину упряжки, орочи перестали смеяться и начали смотреть на Игната с некоторой робостью. Когда Мача убил восьмую собаку, я увидел, как у Игната затряслась рука и посыпалась между пальцами соль, которую он держал в кулаке. Тут я решил испытать, на что способен Игнат, и весело сказал ему:
«Теперь у тебя есть восемь собачьих шкур. Тебе хватит на два спальных мешка. Мне кажется, что у тебя еще будут шкуры. Не продал бы ты и мне на мешок?»
Все примолкли, а я ждал, ударит меня Игнат или стерпит?
«Твое право», – процедил он сквозь зубы.
«Да нет, – говорю, словно не понимая, – право твое: хочешь – продай, хочешь – нет».
Мача внимательно прислушивался к нашему разговору и сделал свои выводы. На следующий день не стало девятой собаки, а через день десятой. Игнат совсем исхудал и почернел. Всех удивляло не то, что Мача убивал собак, а то, что они, одна за другой, отвязываются. Жена Игната почти неотлучно сидела возле них, но едва она уходила в дом за едой или еще за чем-нибудь, как собака или выскальзывала из петли, или вырывала кол, или перегрызала веревку. Словно какая-то нечистая сила действовала. Я сам готов был поверить, что кто-то колдует. Наконец была убита одиннадцатая собака, и у Игната осталась только одна. На следующий день после этого весь рыбозавод поднялся на два часа раньше, чтобы не пропустить заключительный акт. Но Игнат не вышел на работу. Он лег в кустах возле собаки и решил лежать там целый день, пока не поймает того, кто отвязывает собак.
– А может быть, это сам Мача отвязывал собак или его дети? – предположил ученый.
Куб бросил на него безнадежный взгляд и налил стакан.
– Лучше лишнее выпить, чем лишнее спросить, – заметил он. – Пейте и молчите. Разве ороч способен на такой поступок? На Мачу и Игнат не думал. Мачу все знали. Так вот. Игнат лежит в кустах, а Ольгу, свою жену, послал на промысел сообщить, что он болен.
Ольга была молодая и красивая женщина. Нет. Я сказал бы, очень красивая женщина… Уверяю вас, что вы по одному волоску вырвали бы себе бороду из зависти к Игнату, если бы увидели, как Ольга, стоя на одной ноге, летит на нарте, запряженной двенадцатью собаками.
Петр Иванович высказал сомнение в том, что он стал бы таким образом проявлять свои чувства, но Куб решительно взмахнул рукой, словно подтверждал, что ученый реагировал бы именно так.
– Словом, Ольга зашла за фельдшером и повела его к себе домой… Я вышел из икрянки, проводил их взглядом и увидел, что на берегу, до самого леса, как шампиньоны, сидят Мачины дети.
Ольга привела фельдшера к Игнату. Тот встретил медицинскую помощь без всякого восторга, вылез из кустов и протянул фельдшеру руку, чтобы тот мог пощупать пульс. Я достаточно знал нашего доктора, чтобы угадать, чем он будет лечить.
«Нужно поставить банки», – сказал он и повел Игната домой, оставляя, таким образом, привязанную к колу собаку одну. Они вошли в дом. Игнат позвал жену, но она куда-то исчезла и пришла минут через десять с грибами в подоле.
«Беги к собаке!» – сердито крикнул Игнат, но фельдшер возразил – ему нужен помощник.
Как я уже говорил, наш доктор был большой мастер ставить банки. Не прошло и трех минут, как на спине у Игната торчали двенадцать банок.
«Можно идти?» – спросила Ольга, но в это мгновение прозвучал выстрел. Игнат как сумасшедший сорвался с постели и бросился вон из дома. Фельдшер, выбежавший за ним, говорил мне потом, что готов был убить больного, видя, как банки одна за другой отскакивали от спины Игната, падали на камни и вдребезги разбивались. На месте, где была привязана собака, осталась только дыра от кола. Игнат упал на землю и как сумасшедший начал разгребать руками гравий и биться головой о камни. Пока он так убивался, фельдшер снял с его спины три уцелевшие банки и, разъяренный тем, что лечебные средства сведены на нет, закричал:
«Вставай и иди на работу, не то я сейчас выпишу тебе такой бюллетень, что ты его век не забудешь!»
Игнат понял, что с ним говорят серьезно. Он встал, послал жену содрать с собаки шкуру, а сам пошел на рыбозавод.
Вечером ко мне зашел Мача и, попив чаю, спросил, по закону ли он убил собак.
«По закону», – говорю я.
И тогда Мача рассказал мне, что два года назад Игнат ездил в горы. Там он встретился с Мачей. Они выпили. Маче хотелось пить еще, и тогда Игнат поставил условие: за каждую чарку – оленя. Утром Мачина жена сказала, что Мача выпил восемнадцать чарок – ровно столько, сколько у него было оленей.
«Мне показалось, – сказал Мача, – что он взял с меня очень дорого. Ну что ж, если Игнат такой ненасытный, я добавил ему к моим оленям двенадцать собачьих шкур».
«Почему же ты не заявил на него председателю своего кочевого Совета или в район? – спрашиваю я Мачу. – Мы так прикрутили бы Игната, что его тошнило бы от одного вида оленей».
«Как я мог жаловаться, если сам отдал ему оленей? – сказал Мача. – Ведь нет такого закона, который запрещал бы мне распоряжаться своими оленями? А сейчас мысль у меня была такая: показать Рыжему, что, если хочешь жить среди людей, нельзя вести себя так, как он».
– Вот… А вы говорите – «глупости», – закончил Куб и зевнул.
– Кто же все-таки отвязывал собак? – спросил ученый.
– Верно, Ольга, – сказал икрянщик. – Ведь он и ее выменял у орочей за рыбу, еще при царе. А такая женщина, как Ольга, не могла это простить, – добавил он после паузы и замолк, очевидно представив себе, как Ольга, стоя на нартах, мчится по тундре.








