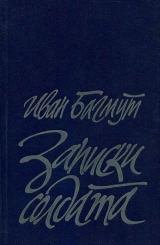
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Іван Багмут
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 37 страниц)
1960
Хунхуз
Уже рассвело, я кончил писать это неприятное письмо и собирался лечь поспать, как вдруг на улице раздались выстрелы. Я подбежал к окну. Человек в малахае из лисьего хвоста шел посередине мостовой. Время от времени он останавливался, оборачивался, давал несколько выстрелов из маузера и снова шел вперед.
За ним шагах в трехстах бежали, стреляя из револьверов и падая на землю всякий раз, как беглец принимался стрелять, с десяток городовых. Я понимал, что это, очевидно, был хунхуз – китайский разбойник, которого полиция застукала в небольшом пограничном городке… Мне, как офицеру его величества Николая Второго, следовало взять наган и, когда преступник приблизится к моему окну, пристрелить его.
Я вынул из кобуры револьвер, и в моем сознании промелькнула предательская мысль: «Тебе везет, подпоручик». В самом деле, именно в тот день, когда, заглушив голос совести, я написал покаянное письмо, мне представляется случай искупить свою вину делом. (В письме я признал, что совершил страшный грех, сказав несколько слов в защиту солдат-бунтовщиков в наши полку во время революции 1905 года, за что и был сослан в одну из войсковых частей на Дальний Восток. Я просил министра сменить гнев на милость.)
Отворив окно, я ощутил легкую дрожь, то ли от утренней прохлады, повеявшей в комнату, то ли оттого, что мой палец лежал на спуске нагана. «Стрелять человеку в спину!.. Но ведь он хунхуз! Офицер стреляет человеку в спину!..»
И вдруг меня обожгло – в газете будет написано: «Подпоручик помог полиции…» Выходит, внутренняя борьба, пережитая мною ночью, не закончилась…
Выстрелы звучали все ближе и ближе, резко, звонко, а в паузах – спокойные шаги человека в малахае из лисьего хвоста. Эти шаги гремели у меня в ушах сильнее выстрелов.
Несколько случайных прохожих, попавших в эту баталию, прятались за афишной тумбой, из окон высовывались заспанные лица: жители, вытаращив глаза, смотрели на человека, который спокойно шел по улице под пулями полицейских, внезапно останавливался, делал, внимательно целясь, несколько выстрелов и снова продолжал путь. Полицейские, когда хунхуз оборачивался, отбегали назад или прятались за дома, и все же двое из них уже лежали на мостовой недвижимо. Именно то, что китаец, выстрелив, не бежал, а спокойно, даже не спеша, продолжал путь, более всего и пугало преследователей, которые за то время, пока я наблюдал эту сцену, не только не приблизились к уходившему, а, наоборот, все больше отставали.
Хунхуз вот-вот должен был поравняться с моим окном. Я нервно стиснул наган, не спуская глаз со стройной фигуры, которая напряглась, производя очередной выстрел. Отстрелявшись, он повернулся, и я увидел его лицо. Я ожидал найти его испуганным и поразился, увидев лицо величественно спокойное, чуть улыбающееся, прекрасное, как скульптура великого мастера. Я невольно опустил револьвер, не в силах оторвать взгляд от этого необыкновенного, словно озаренного солнцем лица.
Было что-то особенное в этом мраморном лике, и я подыскивал слово, чтобы обозначить, почему же лицо этого человека кажется таким прекрасным. Китаец перезарядил маузер и снова стал стрелять, обратив ко мне тонко очерченный гордый профиль. Внезапно я заметил кровь, капли крови, тонким пунктиром протянувшиеся по мостовой. Я посмотрел на преследуемого и нашел слово, которое искал. Мужество!
Не обычное отсутствие страха, не простое безразличие к опасности, нет, – мужество в высочайшем понимании этого слова. Мужество, идущее от сознания великой цели, железная воля на почве разума, мужество Человека с большой буквы.
Неизвестный направлялся, это было ясно, ко двору железнодорожной станции, где собралось много рабочих-китайцев и где легко спрятаться между вагонами. До ворот осталось каких-нибудь триста – четыреста шагов, и я, кажется, всем своим существом кричал ему: скорее, скорее! А он, даже не отводя голову, когда мимо со свистом пролетали пули, останавливался, целился, стрелял и, повернувшись, не спеша шел дальше.
Еще один полицейский не поднялся с мостовой, и я внутренне аплодировал этому хунхузу с солнечным лицом. Вот осталось уже не больше десяти шагов до железнодорожного двора. В нечеловеческом напряжении, так, словно это не он, а я сам бежал от преследователей, я следил за его фигурой, внутренне взывая: скорей! скорей!
Наконец последние метры пройдены, он в воротах.
– Спасен! – выдохнул я, чувствуя, как спала с моих плеч колоссальная тяжесть, и в этот миг преследуемый упал.
Я замер. «Неужели погиб?»
Он лежал неподвижно, вокруг собирались люди.
Когда я оделся и прибежал на станцию, там было уже полно народу и полиция отгоняла любопытных. Как оказалось, человека в малахае прикончил из винтовки часовой у военного цейхгауза на железнодорожном дворе.
– Двадцать одна пуля попала, а он шел! Вот это человек! – донеслось до меня восторженное восклицание из толпы. – Двадцать вторая доконала.
Я протиснулся сквозь толпу и увидел убитого, летавшего в луже крови. Лицо его было все так же величественно прекрасно, только глаза уже не улыбались, а смотрели с укором.
Весь во власти чувства, вызванного обликом неизвестного, я почтительно склонил голову, снял шляпу, и все, кто был при этом, обнажили головы. Полицейские, хотя я был в штатском, должно быть, узнали во мне офицера, потому что не отважились произнести ни слова, а только с неприкрытой яростью смотрели на людей, застывших в почтительном молчании.
Проходя мимо цейхгауза, я увидел молоденького солдата, который убил неизвестного. Лицо у него было растерянное, и он прятал от меня глаза.
Дома я порвал письмо, которое писал всю ночь, и ощутил радость, которая приходит, когда сделаешь что-нибудь по-настоящему хорошее, когда сам становишься лучше.
Эта встреча отразилась на всей моей жизни, и, быть может, именно из-за нее жить мне было нелегко. Зато я могу с уверенностью сказать, что мне не приходится краснеть, вспоминая прожитые годы.
Недавно, познакомясь с одним специалистом по истории революционного движения в Китае, я рассказал ему о трагическом случае, свидетелем которого мне довелось быть полсотни лет назад. Мой рассказ чрезвычайно заинтересовал историка. Он внимательно расспросил меня, когда именно, в каком году и в каком городе случилось это, и на минуту задумался.
– Вы знаете, кто был убитый? – проговорил он. И назвал одного из выдающихся руководителей крестьянского движения в Маньчжурии.
Фамилия революционера оказалась слишком сложной для моей памяти, и я ее забыл, но лицо этого человека стоит перед моими глазами как символ величайшего мужества.
Февраль 1963
Белый костюм
Эта мысль, вернее – мечта, возникла у младшего лейтенанта Петра Сергиевича совсем случайно, но становилась все ярче и сильней.
Во время одного трудного перехода Петро Сергиевич, усталый, давно не мытый и не бритый, с противным нытьем в суставах от многих бессонных ночей, вспомнил свой город. В степи бушевала вьюга; сквозь холод и темень, выполняя приказ, нескончаемой колонной двигались усталые до изнеможения солдаты. Младший лейтенант шел со своим взводом, всякий раз напрягая волю, чтобы сделать следующий шаг, зная, что стоянка, если карта не врет, будет через 46 километров. Страшно подумать – 60 тысяч шагов! И каждый – с напряжением воли.
И вот он на минуту забыл про свой взвод, в котором каждый боец шел из последних сил и который надо было довести до пункта назначения, не потеряв дорогой ни одного солдата, и представил себе аллеи городского сада, каштаны и тополя под ярким солнцем. Зелень и солнце! Он, Петро Сергиевич, в безукоризненно выглаженном белом костюме, в начищенных до блеска туфлях, умытый и выбритый, беззаботно идет под руку со своей уже почти взрослой дочкой. Это было так невероятно прекрасно, что казалось невозможным. И, однако, эта картина, контрастируя с окружающей ночью, стояла перед глазами младшего лейтенанта как живая, и он не в силах был прогнать видение.
– Какое подразделение? – прозвучал в темноте голос всадника на обочине тракта, и Петро Сергиевич сразу ощутил и усталость, и вьюгу, и неуютность беспредельной донецкой степи.
– Железное! – серьезно ответил один из бойцов, и все дружно расхохотались.
– Третий стрелковый взвод четвертой роты, – поспешил отрапортовать Петро Сергиевич, узнав по голосу начштаба полка.
– А, «самый младший» лейтенант! – пошутил начштаба, намекая на сорокалетний возраст комвзвода. – Подтяните ваших железных! – И поехал вперед.
По взводу снова прокатился смех, и бойцы пошли бодрее, словно чуть передохнув.
────
…Петро Сергиевич помнит страшные минуты, когда он лежал на снегу с раздробленной осколком снаряда ногою. Чем кончится бой, было неизвестно, а комвзвода, чувствуя, как ватная штанина все больше наполняется кровью, вдруг снова представил себя в праздничном белом костюме посреди городского сада, залитого вешним солнышком, и тут им со всей остротой овладел страх неминуемой смерти.
Но вражеская контратака была отбита, а он остался в живых. И в госпитале, напряженно борясь за жизнь, как облегчение воспринял ампутацию почерневшей, охваченной гангреной ноги.
Позднее, в специальном госпитале, среди сотен окружавших его безногих, Петро Сергиевич привык считать почти нормой, что у него лишь одна нога. И только впервые выйдя на костылях в толпу людей, он ощутил всю глубину и горечь утраты. Это была лишь минута, один миг сознания, что он калека. И этот миг прошел, рассеялся в ровном, как к здоровому, отношении к нему жены, дочки, товарищей по работе. Постепенно он даже привык равнодушно принимать сочувствие людей, часто вовсе посторонних.
И хотя Петро Сергиевич частенько говорил товарищам, что ужасно хлопотно, проходив сорок лет на двух ногах, вдруг очутиться на одной, однако привыкал к своему положению и, когда ему слишком уж сочувствовали, уверял, что на костылях легко, как на крыльях.
Вскоре после Дня Победы был получен новый протез. Он казался более удобным, и Петро Сергиевич всерьез решил встать на обе ноги.
Солнечный луч блеснул на никелированной шине протеза, и лицо Петра Сергиевича вдруг озарилось воспоминанием.
– Любаша! – крикнул он дочери. – Не хочешь ли прогуляться со своим отцом в городской сад? – И с трепетом стал ждать ответа.
– Только с отцом и только в городской сад! – весело отозвалась из-за двери Люба и добавила деловым тоном: – Что тебе приготовить?
Петро Сергиевич попросил дать ему белый костюм.
Через полчаса он вошел в комнату дочери, чуть прихрамывая, опираясь на палочку, но элегантный, бодрый, помолодевший.
– Папка! – воскликнула Люба, глядя на отца влюбленными глазами. – Да тебя женить можно!
Петро Сергиевич улыбнулся и манерно предложил дочери руку.
Он шел по улице со стройной синеглазой девушкой, чуть опершись на ее руку, и, встречаясь с ее взглядом, полным восторга, любви и гордости за своего отца, постигал, что такое счастье. Откуда-то из глубин памяти явилась холодная, вьюжная ночь в донецкой степи и ощущение кровавой волны, все выше подымающейся в штанине ватника. И теперь, в эту минуту, невозможно было поверить, что все это произошло с ним.
Они вошли в сад. Все было так, как ему представлялось. Каштаны в цвету, со смарагдовой листвой, не успевшей еще запылиться, душистые тополя, солнце! Целый поток солнечных лучей!
Петро Сергиевич шел медленно, однако устал с непривычки. К тому же он ощущал, что протез жмет, и слышал его поскрипывание. Но Петро Сергиевич старался этого не замечать. Он только чуть больше прихрамывал и заметнее напрягался, наступая на протез. Но на сердце было слишком радостно, и мечта слишком походила на действительность, чтобы обращать внимание на такие мелочи.
Впереди, там, где главная аллея пересекалась с боковой, весело хохотала под деревом группа молодежи. Взрывы смеха всякий раз громко разносились вокруг, и Петру Сергиевичу было приятно, что все счастливы в этот солнечный праздник.
Но когда отец и дочь поравнялись с группой парней и девчат, которые только что так весело и громко смеялись, смех вдруг прервался. Молодежь затихла, и скрип протеза раздавался громко и страшно, как показания неожиданного свидетеля. Петро Сергиевич поднял глаза и увидел растерянные лица парней и девушек, следивших за тем, как он хромает, как напряженно делает каждый шаг, и словно бы подчеркивавших тягостным молчанием неуместность своей веселости.
Петро Сергиевич побледнел и, пошатнувшись, крепко ухватился за дочкину руку.
– Тебе больно? – проговорила Люба, стараясь вложить в эти слова только нежность к отцу, но не сдержалась, и в голосе у нее задрожали слезы.
А ему хотелось крикнуть: «Да! Мне больно! Я – калека! Калека!» – но он только тяжело вздохнул и тихо сказал изменившимся голосом:
– Ничего, доченька, это пройдет… Пойдем домой.
Они подошли к воротам сада и сели на скамью. Петро Сергиевич закурил и несколько раз глубоко затянулся. Он посмотрел на Любу: она, несомненно, поняла все и теперь сидела грустная и беспомощная.
– Интересно, откуда возят песок посыпать аллеи? – проговорила она с деланным равнодушием, но отец заметил, как на последнем слове задрожали уголки ее губ.
Он взял дочь за руку и ласково сказал:
– Ну вот и прошло… Успокойся, Любаша. Это была только минута. А сейчас мне опять хорошо.
– Правда? – И девушка вся засветилась радостью.
Петро Сергиевич мечтательно смотрел на дочку и в ее синих глазах видел и весну, и солнце, и зелень каштанов, и все вокруг снова стало таким же прекрасным, как мечта в ту вьюжную ночь в заснеженной, холодной донецкой степи.
Федор из Федора
Еще не смеркалось, когда Федя спустился к ручью. Высокие заросли топольника и черемухи обступили устье, отражаясь в воде темными, невыразительными очертаниями. Тихо плыли первые опавшие листочки. Вдали на перекате журчала вода.
Мальчик вдохнул полной грудью свежего воздуха и, охваченный задорно приятными мечтами о неведомом истоке ручья, где в колдобинах полно рыбы, пошел по едва заметной тропке вверх. Через несколько недель рыба начнет спускаться из ручьев в реку зимовать, но пока она там, в верховьях, затерянных средь пустынной тундры.
Он быстро одолел три, а то и четыре километра. Тропка кончилась, и дальше он пошел медленней, продираясь сквозь кусты и то и дело переходя то на одну, то на другую сторону ручья, чтобы миновать непролазную чащу или кочковатый берег.
Наконец он сообразил, что теряет время, следуя за всеми изгибами ручья, и выбрался из низины на высокий склон.
Безграничная тундра простиралась насколько хватало глаз и терялась в вечерних сумерках. Заросшая кустарником низина, где тек ручей, тянулась по серой равнине, как длиннющий глубокий ров средь полей. Мальчик оглянулся назад. Устье ручья и узкую тропу возле реки, в которую впадал ручей, уже окутала тьма, и Федя подумал, что далековато ушел от дома. Он остановился.
Один в тундре!
Двенадцатилетний мальчуган один-одинешенек стоит ночью посреди необозримой тундры и ни капельки не боится!
Вдруг тишину разорвал громкий гудок. Сияя огнями, из тьмы выплыл пароход и, как чудесное видение, прошел на юг. Может быть, через какую-нибудь неделю Феде доведется ехать на этом пароходе в школу? Он проводил глазами огни и понял, что не так уж далеко ушел от дома.
Школа! Там товарищи, а здесь он один. Его деревня состоит из одного дома, а называется она – Федор, по имени Фединого деда Федора. Когда Федя поступал в школу, кто-то из старшеклассников насмешливо спросил:
– Скажи, а что это – Федор: деревня или город?
– А это не деревня и не город, это – мой дедушка Федор, – простодушно ответил Федя.
Все смеялись, но потом, когда Федя научился читать и ему показали на карте их кра́я точку и возле нее надпись «д. Федор», он возгордился. И хотя его иногда в шутку звали «Федор из Федора», все же не у каждого такой дед, чтобы на географической карте обозначили его домик!
Один в тундре!
Пароход скрылся за выступом берега, огни исчезли, и темнота от этого стала еще плотней. Спотыкаясь о кочки и путаясь в полярном березняке, мальчик прямиком спешил туда, где черная полоска ручья, сделав несколько крутых поворотов, снова вроде бы распрямилась.
Стало совсем темно, и Федя радовался: именно такая ночь и нужна, чтобы ловить рыбу острогой.
Он бросился бежать, чтоб скорей добраться до цели, но споткнулся и упал. «В тундре надо беречь силы, ведь неизвестно, что ждет тебя впереди», – вспомнил он отцовские слова и, вскочив на ноги, быстро двинулся дальше.
Прошло, верно, часа два. Темное русло ручья стало значительно у́же.
Издалека, с реки, донеслось громкое гудение; казалось, летел самолет, но звук шел низом. Мальчик прислушался.
«Глиссер!»
Федя всматривался туда, откуда долетал шум мотора, но не увидел огней. Вдруг, словно приветствуя глиссер, с противоположной стороны глухо прозвучал гудок паровоза, а в небе появился самолет. Мальчик стоял, прислушиваясь к звукам ночной тундры, и ему вдруг стало грустно, что уже нельзя сказать: «Один посреди тундры!»
Нет, он не один… Теперь тундра не пустыня. И в деревне Федор, где всего один дом, есть телевизор!
Ну что ж, можно начинать ловить рыбу. Федя сладко потянулся и спустился с высокого берега к ручью. Вода была черная, от этого ручей казался невероятно глубоким, и на мгновение мальчику стало страшно. Казалось, шагнешь, поскользнешься – и тебя затянет в черную бездну…
Он отошел от берега, сбросил с плеч рюкзак, быстренько наломал сухого хвороста и разжег костер. Пламя осветило тоненькие стволики топольника и зеленоватую лозу, а вода на плесе стала еще чернее.
Сдерживай волнение, Федя подошел к воде. Она сразу утратила свою черноту и показала заиленное каменистое дно. На двух камешках чуть-чуть колыхались кустики скользких водорослей, тоненьких как волосочки. Несколько длинненьких желтых листочков лозы вырисовывалось на темном иле. У самого берега неподвижно лежала почерневшая от времени, покрытая осклизлым мхом коряга. Рыбы не было.
Федя вздохнул и, осторожно ступая, стал обходить плес, – может, рыба схоронилась в водорослях. Он дошел до черной коряги, и сердце у него лихорадочно застучало. Блестящая поверхность сука заканчивалась… рыбьим хвостом! Это был налим! Полуметровый налим лежал без движения у самого берега, согнув длинное тело корягой.
Затаив дыхание, Федя поднял острогу и, прицелясь в налима, изо всех сил опустил в воду. Плес разом потерял прозрачность, и мальчик уже ничего не видел, только ощутил, как рванулась рыбина. Он обеими руками надавил на острогу. Теперь рыбина металась с такой силой, что Федя едва удерживал острогу в руках. Он прыгнул в воду, нащупал голову налима и, ухватив за жабры, одним махом швырнул рыбину на берег.
Потом вернулся к костру и с минуту отдыхал, разглядывая добычу. Вот это налим! Завтра мама и дедушка, даже отец, похвалят его. Эх, увидели бы этого налима товарищи! Да они далеко… Мама и дедушка всегда хвалят Федю. Вот одноклассники бы…
Отдохнув, он пошел дальше вдоль ручья. Острога то и дело цеплялась за кусты, под ноги попадались спрятанные в траве валуны, мальчик спотыкался, падал, снова вскакивал – и так всю дорогу, пока наконец не добрался до нового плеса.
От нескольких больших валунов падали длинные тени, закрывая половину дна, а на освещенной части, едва шевеля плавниками, поблескивали толстыми спинами хариусы. Их было с десяток, и Федя чуть не закричал от удивления и радости.
Рыба стояла недвижимо, выстроясь против течения. Мальчик через силу оторвал взгляд от самого большого хариуса и стал рассматривать дно. Валуны, несколько пучков водорослей. И вдруг его внимание привлекла удивительная вещь. На дне лежало что-то, похожее на ствол дерева. Но здесь же не растет ни одного деревца, нет ничего, кроме жалких кустиков. Откуда сюда могла попасть такая колода? Федя подошел ближе, вглядываясь в продолговатое бревнышко, половина которого скрывалась в тени валуна. Оно было не черное и не серое, каким обычно выглядит дерево в воде, а желтоватое и блестело, как камень. И тут Федя наконец понял, что это такое. Позабыв о рыбе, о самом большом хариусе, он прыгнул в воду: на дне ручья лежал бивень мамонта. Бивень, который стоил огромные деньги и о котором можно было только мечтать. Много тысяч лет пролежал он в земле и теперь, по воле случая, очутился на поверхности. Не иначе, как этим летом здесь обвалился берег. Вода смыла грунт и оставила на дне валуны и этот бивень.
Не обращая внимания на рыбу, которая кинулась врассыпную, Федя потащил бивень к берегу. В воде это было легко, но стоило только вытянуть один конец на сушу, как у Феди не хватило больше сил. Он стал подтягивать к берегу тот край, что оставался в воде, и неимоверным усилием все-таки вытащил бивень на берег.
Только теперь Федя заметил, что весь вымок, а через минуту почувствовал, что зябнет. Он бросился в кусты, набрал охапку хвороста и разложил костер. Греясь, мальчик любовался бивнем, толстым, как рука взрослого человека, одетого в тулуп. Никогда еще ему так не везло! Мальчик восхищался своей находкой, но вдруг его охватило сомнение: а что, если бивень трухлявый? Тогда он теряет свою ценность, из него и мундштук не выточишь, а уж о шахматах нечего и говорить.
Впрочем, определенную ценность имеет и трухлявый бивень: например, его можно отдать в школьный музей. Чудесно! Он отдаст свой бивень в школу, в кружок юннатов. Пусть все видят, какие мамонты ходили по их тундре. Это и в самом деле будет чудесно! Не в каждой школе есть такой экспонат. А на собрании кружка Федя расскажет, как нашел его.
А если бивень не трухлявый? О, тогда ему и цены нет!
Ловить рыбу больше не хотелось, но Федя еще раз сходил на плес и подбил славного хариуса. Но прежнего пыла уже не было, мысли то и дело возвращались к бивню. Что же с ним все-таки делать? Может, отдать родителям? Вот-вот, так будет лучше всего… Дома найдут, как его использовать.
Это было правильное решение, но Федя вздохнул. Почему-то правильные решения неинтересны… И где-то в глубине сознания шевельнулось желание, чтобы бивень оказался трухлявый. Тогда Федя подарил бы его школьному музею. Он представил своих товарищей, классного руководителя, других учителей, которые соберутся вокруг бивня, и улыбнулся. Вот было бы интересно! А надпись на этикетке он сделал бы такую: «От Федора». Он не честолюбив. «От Федора» – означает: от деревни Федор.
Лица товарищей возникали в его воображении как живые, и он не переставал мечтательно улыбаться. Потом попробовал ножом крепость бивня. Тверд, как камень. Но это еще не доказательство, что не гнилой. Ведь бивни слоистые, и между прослойками может быть гниль. Тогда сделать из него что-нибудь невозможно.
Пламя костра стало угасать, вода посерела, кусты, которые ночью казались плотными, как стена, теперь словно расступились, и сквозь них виднелась кочковатая тундра. Неужели наступает утро? Тогда пора возвращаться домой. А как доставить бивень?
Федя насупил брови, приложил палец к носу, что означало высшую степень сосредоточенности, и с минуту думал. Потом вытащил из кармана веревочку, привязал к ней бивень и, столкнув находку в воду, потащил ее вниз по течению.
Он шел уже около часа, как вдруг в кустах что-то затрещало. Федя остановился. Может, медведь заблудился в лесу или волк забежал от оленьих табунов, которые скоро начнут возвращаться? Мальчик непроизвольно стиснул в руке нож и, прислушиваясь, замер.
– Эге-гей! – вдруг раздалось издали. – Э-эй!..
– Папа! – вскрикнул Федя и кинулся навстречу отцу, а через несколько минут вел его к своей находке.
Отец, увидав бивень мамонта, вытаращил глаза.
– Вот это да! И вроде целый! Ну, брат! – Он не находил слов для похвалы сыну, а тот только улыбался. – Что же ты с ним будешь делать? Куда денешь?
– Если трухлявый – отдам в школьный музей. Хорошо?
– А если нет? – Отец прищурился.
– Может, у него внутри гнилье…
– А если нет? – Отец почему-то засмеялся.
Федя помолчал, потом вздохнул и сказал:
– В школе нет мамонтового бивня…
Отец шел, задумавшись.
– А я тоже учился в этой школе, – наконец проговорил он. – Ее открыли в тысяча девятьсот семнадцатом году. Революция открыла. А в двадцать седьмом, когда я пошел в первый класс, праздновали ее десятилетний юбилей. И Советской власти тогда десятилетие праздновали.
– Вот мы и подарим нашей школе бивень! – восторженно проговорил Федя.
Но отец промолчал.
Придя домой, он сразу же взял ножовку и стал отпиливать толстый край бивня, расколотый трещинами.
– Сталь! Просто сталь! – кидал он, потея, а Федя замер, следя за пилкой, и лицо у него почему-то стало грустное.
Наконец ножовка лязгнула, растрескавшийся кусок упал на землю, и отпиленный торец засиял тем неповторимо нежным блеском, которым славится только слоновая кость.
– Ну! – воскликнул отец, обдувая торец и гладя его ладонью. – Цел! Вот она – драгоценная слоновая косточка! – А потом лукаво глянул на невеселого Федю: – Ну, так что ты с ним будешь делать?
– Как вы с мамой скажете, так и сделаю… опустив голову, тихо проговорил мальчик.
– Это почему же? Ты решай. Он твой!
– А я же ваш… – Федя потупился.
Отец с минуту молчал, глядя на грустное лицо сына.
– А школа? Тоже ведь наша? А?
Федя сперва не сообразил, куда клонит отец, а потом глаза его так засверкали, словно он нашел еще один бивень. Ему хотелось сказать, что его папа самый лучший на свете, но такие слова легче произносить мысленно, и он молчал.
– И на этикетке напишем, – отец засмеялся, – «От Феди из Федора».
– Нет, – счастливым голосом проговорил Федя, – напишем: «От Федора и его папы из Федора».








