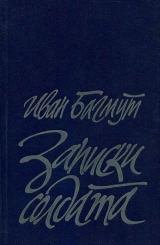
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Іван Багмут
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
Работа в «Просвите» замерла, мужики боялись ходить в театр, да и актеры не рисковали собираться по вечерам. Теперь центром, где встречалась сельская интеллигенция, стала церковь, там никто не тронет, никто ни в чем не обвинит, а в то же время узнаешь обо всех новостях, увидишься с товарищами, условишься о встрече. Собирались также у Наталки, члена «Просвиты», – она жила возле церкви, и у нее всегда можно было встретить кого-нибудь из молодой интеллигенции села.
Ивась, для которого раньше ходить в церковь было тяжелейшей обязанностью, теперь не пропускал ни одной службы. Он забирался на клирос вместе с молодыми учителями – там можно было поговорить, не привлекая внимания молящихся, а главное, посмотреть на свою «единственную», которая пела в церковном хоре.
Иногда после службы Нойко предлагал Ивасю проводить его. В первый раз Михайло Леонтьевич прочитал ему рассказик из какого-то календаря, в котором описывалось будущее общества после социалистической революции. Евреи-комиссары захватят власть и будут эксплуатировать народ, уверял автор.
– Вы знаете, что это написано сто лет назад?
Ивась не знал этого.
– Но вы видите: то, что писалось сто лет назад, теперь осуществилось!
Ивасю этот вывод показался диким, и он поглядывал на Нойко удивленно, вспоминая речь, произнесенную учителем полгода назад.
– Коммунизм – еврейская выдумка, – продолжал Нойко. – Коммунисты-евреи думают не о народном благе, а о том, чтобы установить власть евреев на всем земном шаре.
Ивась горячо возразил, доказывая, что коммунизм это стадия общественного развития и что евреи тут абсолютно ни при чем. Нойко вдруг замолчал, а Ивась, не замечая перемены в настроении собеседника, продолжал:
– Хотите, я расскажу вам об одном еврее из нашего города. О портном Бляхе, которого убили деникинцы…
– Не хочу! – резко оборвал его Нойко, не скрывая недовольства.
Ивась стал прощаться. По дороге домой он думал о лицемерии Нойко и о портном Бляхе, историю которого знал весь город.
Ивась познакомился с Бляхом, когда тот шил ему шинель. А в 1917 году узнал и о его воинственном характере, послушав, как этот щуплый портняжка призывал участников митинга к кровавой расправе со всеми буржуями. Демобилизованный из армии по болезни, он ходил в солдатском обмундировании и в башмаках с обмотками, которые называл «обметки». Кровожадные призывы портного никак не гармонировали с его видом, вызывая чаще смех, чем страх, и все же кое-кто из местных буржуев боялся Обметки, как прозвали Бляха после войны.
Кровожадность Обметки подверглась проверке в 1918 году, когда прогнали австро-немецких оккупантов. Ревком поручил ему и еще нескольким коммунистам привести в исполнение смертный приговор над пойманным гетманским палачом. И тут оказалось, что Блях не смог разрядить винтовку в негодяя, замучившего десятки людей.
– Не могу убивать, – беспомощно моргая глазами, шептал Блях товарищам.
– Да ведь ты же кричал! Тебе же и поручили, потому что ты кричал!
– Не могу…
На следующий день об этом стало известно всему городу, и насмешкам над Обметкой не было конца.
Второй раз Бляху дали винтовку летом 1919 года, когда его, как и всех партийцев, зачислили в коммунистический батальон, защищавший город от деникинцев. Батальон, занявший оборону за Самарой, разгромила конница генерала Май-Маевского, и только очень немногим удалось переплыть реку. Блях был среди этих немногих, и теперь он с дикими от страха глазами бежал по улицам города от белогвардейцев. Без пояса, с развязавшимися и волочившимися по земле обмотками, он изо всех сил топал по мостовой, слыша позади цокот копыт вражеской конницы.
Когда он выбежал на центральную улицу, из ворот дома Зусмановича показался хозяин – владелец паровой мельницы, а из дома напротив – собственник типографии Кацман. Увидав Бляха в таком жалком виде, они подняли его на смех.
– Герой! – кричал Зусманович. – Завяжи свои обмотки! Го-го-го…
– Посмотрите на этого героя! – хватался за свой толстый живот Кацман.
Блях остановился и, потрясая винтовкой, крикнул:
– Мы еще вернемся! Тогда посмеетесь!..
Но его угроза вызвала только новый взрыв хохота.
– Стрельнуть бы тебе в пузо! – Блях наставил винтовку на буржуя, но тот не переставал смеяться.
Между тем в конце улицы показались белые. С шашками наголо они галопом неслись на портного. И тут случилось невероятное. Блях обернулся к врагам, стал на одно колено и, прицелившись, выстрелил. Один из беляков упал с лошади. Кацман и Зусманович застыли на месте, но Блях больше не обращал на них внимания. Его выстрелы раздавались один за другим, и после каждого падал с лошади белогвардеец. Портной расстрелял обойму и стал перезаряжать винтовку, но не успел. Деникинцы были уже возле него.
– Мы еще вернемся! – крикнул портной. И теперь глаза у Кацмана и Зусмановича были дикие от страха, такие, какие еще несколько минут назад были у Бляха. – Мы…
Удар шашки не дал ему договорить. Озверелые белогвардейцы рубили уже мертвое тело.
Ивасю рассказывали об этом очевидцы, и теперь те, кто вспоминал Обметку, произносили это прозвище без улыбки, а всегда с уважением.
Ивась подумал, что и кулак Кот, и квартирохозяин, а вот теперь и Нойко, когда не хватало аргументации против коммунистов, сваливали все на евреев. Ну пусть Кот и Сергий Евтихиевич, малограмотный и дурак, но какой же негодяй Нойко! Учитель! Интересно, что он еще скажет?
А Нойко при следующей встрече, видя, что Ивась не соглашается с ним, распалялся все больше и больше.
– Все вожди партии – евреи и преступники-рецидивисты! – кричал он.
«И почему это контрреволюция, когда ей нечем крыть, сваливает все на евреев?» – хотелось спросить Ивасю, но если этот лицемер способен был вчера выступать за Советы, а сегодня за Петлюру, так кто его знает, на что он способен еще… Брань и клевета по адресу большевиков только укрепляли веру в них: раз враг их поносит, значит, они правы.
Ленин!
У Карабутов был его портрет. Ивась представил себе его лицо и покачал головой, вспоминая, что плел Нойко.
Неожиданно у Ленина появился враг – дед Олексий.
Как-то он зашел к Карабутам и по привычке начал с пророка Иеремии:
– И будут устанавливать закон и порядок, и не установят!
Отца не было дома, мать хлопотала по хозяйству, и объектом дедовской агитации стал Ивась.
– И не установят! – выкрикивал дед. – А что мы видим ныне? Где порядок? Нет порядка! И восстанет брат на брата и сын на отца! Что мы видим? Родные братья убивают один другого! Скоро Страшный суд! Скоро! Антихрист уже пришел! Пришел антихрист!
– Где же он, ваш антихрист? – пряча улыбку, спросил Ивась.
– Где? А вот где! – Дед подмигнул Ивасю и, вынув коробок спичек, сложил из них число 666.– Шестьсот шестьдесят шесть – число зверя! Число антихриста! А теперь смотри! – И он из тех же спичек сложил: ЛЕНИН. – Вот кто антихрист!
Ивась прочитал, немного подумал и стал складывать из тех же спичек фамилию «Сичка». Вышло как раз: С И Ч К А.
– Читайте…
Это была фамилия деда. Тот даже плюнул в сердцах.
– Ну и дурак!
– Кто же из вас антихрист? – с невинным видом спросил Ивась.
Старик проворно смел спички в коробок – кстати, спички в 1920 году были редкостью – и вышел из хаты, бормоча под нос:
– Рече безумец в сердце своем…
Однажды во время воскресной службы по церкви разнеслась весть: банда Левченко в селе. Выйдя на площадь, Ивась увидел отряд конников в папахах с разноцветными шлыками и ускорил шаг, чтобы незаметно прошмыгнуть домой.
– На сход! На сход! – орал кто-то.
Но желающих оказалось немного; Ивасю удалось уже было замешаться в толпу расходящихся по домам. Но его окликнул Нойко:
– Вы что же, не хотите послушать новости?
Ивась остановился.
– Не хотите послушать наших освободителей? – тихо сказал, подходя, Михайло Леонтьевич.
– Отец велел не задерживаться…
– Не мешало бы и отцу послушать, – заметил Нойко и повел Ивася к волисполкому, возле которого всегда собирались сходы.
Проходя мимо отряда, Ивась увидел несколько знакомых кулацких сынков и среди них Палю и Пилю. В синих чумарках, в серых папахах с синими шлыками, они сидели на резвых жеребцах, но под носами у обоих по-прежнему было мокро… Сын Кота Василь держал желто-лазурное знамя.
– Казаки! – восхищенно сказал Нойко.
«Раньше надо было перестрелять…» – подумал Ивась, а вслух сказал:
– «Славных прадедов великих правнуки худые…»[2]2
Строка из стихотворения Т. Шевченко «И мертвым, и живым, и нерожденным…».
[Закрыть]
– Почему? – вспыхнул Нойко. – Это не про них, это про вас сказал поэт!
– Да я просто так… Вспомнилось… – ругая себя за несдержанность, сказал Ивась и вдруг вывернулся: – А почему вспомнилось? Посмотрите, что под носами у внуков нашего соседа Шинкаренко! Этих казаков их отец зовет «Пиля и Паля – сукины сыны».
Нойко усмехнулся:
– Простите, я не хотел вас обидеть…
На крыльце, украшенном петлюровским флагом, стоял стол, за которым сидели Петро Кот и смуглый человек лет тридцати пяти – атаман Левченко.
– Говорят, – сказал Нойко, – у Левченко мандат от самого Петлюры.
На сход собралось человек двести – для пятитысячного населения Мамаевки очень мало. Мужики топтались, поглядывая на крыльцо и на конников, которые выстроились в каре, словно бы окружая сход.
К Левченко и Коту поднялись несколько человек: бывший жандарм Пасичник, который и поныне ходил в плоской, похожей на кубанку жандармской шапочке, лавочник Мордатый и – это удивило Ивася – секретарь волисполкома, из подпрапорщиков, Хмеленко.
Нойко, увидав кого-то из учителей своего возраста, отошел, и Ивась, опустив голову, стоял один.
Вскоре начался сход. Левченко сказал речь, в которой ругал Советскую власть, большевиков и евреев, доказывая, что надо направить все силы на борьбу против них за «самостийную» Украину.
– Какие будут вопросы? – обратился к сходу Кот, когда атаман кончил.
Люди молчали.
– Какие вопросы? – крикнул Мордатый, но никто не подал голоса.
– Хладнокровно! Хладнокровно как-то выходит… – сказал Пасичник.
– А вот мы подогреем! – мрачно ответил Кот. – Приведите! – приказал он двум вооруженным бандитам, стоявшим позади него.
Сход затих в ожидании. Через минуту на крыльцо вывели окровавленного, в синяках, со связанными руками мужчину.
– Крыця! – послышалось в толпе. – Иван Крыця.
Карабутенко узнал его: это был батрак Кота, и у Ивася сжалось сердце.
– Вот он! – сказал Левченко. – Вот ваш враг! Он пошел с большевиками, и за это ему смерть! И каждому, я предупреждаю, кто пойдет против нас, кто подымет на нас оружие, будет то же!
Паля слез с коня и, щелкнув затвором винтовки, подошел к крыльцу. Сход замер.
– Не слушайте его, люди, – сказал Иван. – Не верьте ему! Правда у нас, а не у них!
– Молчать! – завопил Левченко.
– Перед смертью говорю: правда у нас, а не у кулаков! У большевиков правда!
– Да что вы с ним нянчитесь? – заорал Кот и толкнул Ивана к стене. – Будет! Стреляй!
Паля выстрелил из винтовки; бандиты, стоявшие на крыльце позади Кота и Левченко, стреляли из пистолетов. Иван упал. На белой стене растекались пятна крови. Перепуганные люди бросились врассыпную.
– Стойте! – кричал Кот. – Стойте! Остановите их!
Конники бросились наперерез бегущим и снова согнали крестьян в кучу.
– Так будет с каждым, кто пойдет против нас! – повторил Левченко.
Кот в третий раз предложил брать слово. Но желающих не было. Тогда задал вопрос Мордатый:
– Скажите, а что означает желто-голубое знамя?
Палач обрадовался.
– Голубой – это небо голубое, лазурь, а желтый – это нива, желтая, зреющая…
Но его возвышенные слова упали в пустоту. Сход молчал, потупясь. Ивась смотрел на кровь на стене, и в его сознании всплывали слова из песни: «То наша кровь горит огнем!» А Хома где-то на фронте. Может, его уже и в живых нет?
«То наша кровь!..» Да, кровь горела огнем, и он с ненавистью думал о Коте: «Припомнят тебе когда-нибудь кровь твоего бывшего батрака!»
Левченко, очевидно, почувствовал настроение мужиков, приказал Коту:
– Отпускайте. Пусть идут!
Сход как ветром сдуло.
Ивась шел к Наталке всегда со сладкой тревогой в груди – а вдруг там будет Оля? После того вечера с поцелуем он почти не видел ее, только в церкви, и все ждал счастливого случая проводить девушку еще раз и раскрыть перед «единственной» свою переполненную любовью душу. Но Оля почему-то у Наталки не показывалась. Уже две недели не было и Мирона.
– О! Ты не слыхал? – Наталка удивилась неосведомленности Ивася. – Мирон теперь у Калёных. Он ведь сватает Олю.
– Олю? Сватает? – У Ивася закачался пол под ногами.
– А что? – не замечая, как поник парень, продолжала Наталка. – Ей уже семнадцатый год, хорошенькая. Лучше пусть будет замужем. Времена теперь такие…
Ивась шел домой опустошенный. У него не было ни зависти к Мирону, ни ревности, его не возмущала «измена» девушки, было только одно – пустота в душе. Весна 1920 года, которая так чудесно началась и в личной жизни Ивася, и в политической жизни страны – а последнее имело немалое значение для самочувствия юноши, которого искренне радовал каждый успех и остро ударяло каждое поражение Советской власти, – весна, исполненная надежд, перешла в лето, которое все перевернуло и все сломало.
Еще недавно Красная Армия была под Варшавой, Пилсудского охватывало отчаяние, и он готов был наложить на себя руки, в далекой Германии реяли красные флаги Баварской советской республики, занималась заря мировой революции, и вот – гремят бои под самым Екатеринославом, а желто-голубая банда Левченко чувствует себя в Мамаевке как дома и растет с каждым днем.
Особенно увеличилась банда после очередной мобилизации в Красную Армию. Банда росла за счет дезертиров, а их было немало: пойдешь в армию – бандиты сожгут хату, не пойдешь – вдруг налетит красный отряд по борьбе с дезертирством, поймают – и под трибунал. В зависимости от того, кто чего больше боялся, одни шли на фронт, другие – в банду.
Теперь банда навещала Мамаевку чуть ли не ежедневно, и звали ее «своей», потому что в банде в самом деле было много своих, из Мамаевки. В село часто залетали «чужие» банды, и создавалось впечатление, что во всем уезде вообще больше нет Советской власти, а повсюду правит желто-голубая свора.
Ивась с грустью констатировал, что если раньше мамаевцы боялись банды, то теперь больше боялись красных. У него сжималось сердце, когда он слышал жалобы крестьян на действия красных отрядов, которые, вступив в село и не найдя банды, вели себя с населением так, словно все тут были бандиты. Ивасю казалось, что уже никогда не вернется прежнее отношение крестьян к Советской власти, как к родной, своей, народной.
– Лучшие люди на фронтах, а в тылу остались шкурники, барахольщики, – успокаивал он себя и своих собеседников-крестьян.
– Против идейных большевиков кто ж говорит, – вздыхал сосед. – Да только где они, эти идейные? – И начинал рассказывать о каких-нибудь безобразиях: у середняка забрали лошадь, к кому-то лазили в сундук или еще что.
Как-то в воскресенье Ивася затащил к себе Нойко.
– Слыхали, что в Чарыче? – восторженно рассказывал он своим гнусавым голосом о соседнем местечке. – Весь народ взялся за оружие! Разбили целый советский полк! У красных – мобилизованные, а в Чарыче настоящие казаки! Чарыча – это триумф национального самосознания! Вот, обратите внимание, как расцвела активность, сила людей, объединенных под желто-голубым знаменем! А у нас в Мамаевке! В отряде уже более двухсот человек! Я верю, что и наше село пойдет по пути чарычан. Все! Весь народ возьмет оружие!
«А почему же в отряде Левченко, когда он впервые появился в селе, были одни кулаки?» – мысленно спросил у Нойко Ивась, а вслух сказал:
– Но ведь своими действиями чарычане помогают Врангелю, помогают белогвардейцам!
– С Врангелем мы договоримся. – Нойко вопросительно посмотрел на Ивася, ожидая, что тот скажет, но Ивась понял опасность такого разговора и только пожал плечами. «Чего он хочет от меня?» – спрашивал он себя, и Нойко, словно угадывая его мысли, сказал: – Да, если бы вся наша интеллигенция была такова, как господин Левченко, победа была бы давно наша! Левченко – образец украинского интеллигента.
Тщедушный Михайло Леонтьевич, рассказывая об успехах петлюровцев, весь расцветал.
Между тем положение в Чарыче обеспокоило правительство. Как раз когда петлюровская верхушка считала себя непобедимой, местечко внезапно окружил большой отряд ВЧК; костяк банды, находившийся на казарменном положении, был разгромлен, и чекисты предъявили ультиматум: либо все подлежащие мобилизации немедленно явятся в уездный военкомат, а чарычане дадут торжественное обещание выполнять в дальнейшем советские законы, либо им будет худо, поскольку из каждого двора кто-то ушел в банду.
– Можете созвать сход, посоветоваться, – предложил чарычанам командир отряда. – Потом скажете мне ваше решение.
– А что, если мы выполним ваш приказ, а вы не сдержите слова и убьете дезертиров, которые были в банде? – спросил «нейтральный» представитель чарычан – поп.
– Вы нам не верите, а я вам хочу поверить, потому что убежден – не от хорошей жизни пошли ваши в банду, обманули их. Я выведу отряд из Чарычи и вернусь только после того, как вы меня известите, что все ваши парни в уездном военкомате. Срок – сорок восемь часов.
Отряд вышел из местечка, а на третий день чарычане показали командиру отряда документ из военкомата, что все, кто подлежал мобилизации, явились на призывные пункты. Кроме того, была предъявлена расписка продкома о выполнении чарычанами продразверстки как доказательство, что они будут выполнять аккуратно и честно все распоряжения Советской власти.
Говорили, что на прощание командир отряда чекистов и поп, возглавлявший делегацию чарычан, поцеловались…
Так Чарыча из самого бандитского населенного пункта вдруг превратилась в образцово-лояльный, и чарычане хвалились, как им теперь славно живется: никаких отрядов по борьбе с бандитизмом, никаких продоотрядов, тихо, мирно, хорошо…
А мамаевцев каждое утро будили пулеметные очереди, и дня не проходило, чтобы кого-нибудь не убили, не изувечили, не подожгли…
Врангеля отогнали в Крым, а тут, дома, было не легче. И самое страшное, что враг залез крестьянину в душу. Это более всего угнетало Ивася: если вооруженного врага можно уничтожить, разбить, то как просветить душу, как вернуть утраченные чувства?.. Он как-то сказал об этом отцу, но Юхим Мусиевич равнодушно махнул рукой:
– Это не страшно…
– Как не страшно? Люди боятся красных отрядов, а банды не боятся! Кулацкой контрреволюции не боятся!
– Это пройдет…
Ивась с возмущением вспомнил, как однажды красноармеец ударил Юхима Мусиевича, допытываясь у него, где банда.
– От своих не больно… – сказал отец, и это еще больше возмутило Ивася.
«Неужто и все крестьяне таковы?» – думал он, но не верилось, что это так, да и не у каждого крестьянина сын в Красной Армии.
– Время все излечит, – успокаивал отец сына.
– Время! Когда еще придет это время! – вздыхал Ивась.
Но время пришло скоро.
В конце лета через уезд из далекой Сибири прошла на врангелевский фронт пехотная дивизия. Один из полков проходил через Мамаевку, и тут произошло событие, поразившее всех. Красноармеец вошел в хату и спросил, нельзя ли купить молока, и женщина, к которой он обратился, вдруг заплакала.
– Чего вы, тетя? – удивился боец.
– От радости! Купить! Молока! Да разве я тебе так не дам? Да ты только скажи мне по-людски, без крика, без мата, без угроз!
– Да кто же имеет право требовать у вас молока? – удивился боец.
– Ох, дорогой ты мой!.. Погоди, принесу тебе из погреба холодненького. – Она налила парню молока, дала пирожков с творогом и все смотрела на него влюбленными глазами, то и дело смахивая слезы. – Пей, пей, голубчик… Не надо мне никаких денег, только скажи по-людски…
Ивася растрогала эта сцена, о которой говорило все село, но еще больше он был растроган и поражен, услышав, что таких сцен было в Мамаевке в тот день много…
– Ну вот и вернулась наша власть! – услышал как-то Карабутенко от незнакомого мужика.
Отец был прав – время сделало свое дело!
Одной встречи с настоящей частью Красной Армии оказалось довольно, чтобы мамаевская банда сильно поуменьшилась. И не потому, что в результате схватки было много убитых. Изменились обстоятельства, изменилось настроение крестьян, и банда стала вновь такой, какой была сначала, – кулацкой.
Теперь Левченко уже не осмеливался появляться в селе днем, а когда наступила осень и опала листва, банда и вовсе исчезла.
Нойко при встречах ограничивался расспросами о здоровье членов семьи Ивася и старался не смотреть юноше в глаза. А тому очень хотелось спросить, как чувствует себя «образец украинского интеллигента господин Левченко», но его учили не бить лежачего, и он только повторял слова, услышанные от мужика:
– Вот и вернулась наша власть!
– Да, да, – поспешно соглашался Нойко, пряча глаза.








