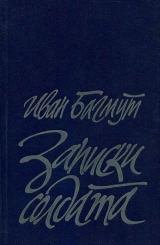
Текст книги "Записки солдата"
Автор книги: Іван Багмут
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
Первое полугодие 1919 года было наполнено событиями, приносившими юному поборнику коммунизма надежду и радость. Разгром похода Антанты и создание Венгерской советской республики возвещали победу мировой революции. Но вскоре на политическом горизонте собрались тяжелые тучи, а летом деникинские белогвардейские банды захватили Украину и двинулись на Москву.
Осенью 1919 года Карабутенко ехал в гимназию, так сказать, с опаской – в городе были белые, а он – родственник коммуниста. Поселился он у своего первого квартирохозяина – Сергия Евтихиевича, двое старших детей которого были деникинцами, а третий – оголтелым петлюровцем.
В первый же вечер Сергий Евтихиевич подсел к Ивасю и восхищенно рассказал о победах генерала Шкуро, о мудрости генерала Деникина и чистоте морального облика генерала Май-Маевского, части которого брали город. Ивась слушал потупясь, боясь поднять глаза, чтобы не выказать своего отвращения к рассказчику. А тот, не замечая настроения слушателя, продолжал петь восторженные дифирамбы палачам народа.
– Тут у вас на площади перед собором деникинцы повесили одного нашего из Мамаевки, – угрюмо сказал Ивась.
– Возможно, – равнодушно сказал Сергий Евтихиевич, – но ты слушай…
– Бывшего царского офицера, штаб-ротмистра Никодима Латку, – снова перебил его Ивась.
– Чего не бывает… Но ты слушай… – нетерпеливо обрывал юношу хозяин квартиры и, захлебываясь, продолжал говорить о благородстве защитников «единой и неделимой».
Но Ивась не слушал. Он вспомнил, как плакал Иван Латка, когда ему сказали о смерти брата. Иван был тогда председателем Мамаевского комбеда и о трагедии коммунистического батальона, оборонявшего уездный город от деникинцев, узнал от бойцов, избежавших плена и смерти. Теперь Иван Латка далеко, он вместе с Хомой где-то воюет… Может, тоже погиб?. А Хома? Жив ли?..
Ивась поднял глаза и с ненавистью посмотрел на Сергия Евтихиевича, но тот, захваченный рассказом, не заметил выражения лица своего квартиранта.
В шестом классе из сорока гимназистов осталось меньше половины, кое-кто из помещичьих сынков покинул уезд еще когда бежали немцы, другие ушли добровольцами с передовыми частями белогвардейцев. Куда-то пропал Аверков. Ивася встретили настороженными взглядами, а на другой день занятий на его парте появилась надпись: «Тут сидит коммунистическая сволочь». Кто же это написал? Ивась окинул взглядом класс и встретил не одну пару враждебных глаз. Его сосед по парте Володя Гавриш, новенький, сын железнодорожника, недавно назначенного к ним на станцию, увидел надпись и сказал:
– Какая же это сволочь написала?
Ивась, сидевший до тех пор угрюмо, почувствовал поддержку и просветлел.
– А почему так написали? – спросил Володя.
– У меня брат в Красной Армии.
– А ты?
Открывать душу в первый день знакомства было бы неразумно, и Карабутенко только пожал плечами…
В витрине самого большого в городе магазина висела географическая карта России, вся украшенная флажками, обозначавшими фронты. Заглавие гласило:
ОКРУЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ СОВДЕПИИ
Рядом с картой – плакат: трое матросов-красногвардейцев с изуверскими лицами расстреливают попика, стоящего на паперти храма с поднятыми вверх руками.
Ивась вспомнил, что Никодима Латку белогвардейцы повесили на площади у собора, как рассказывали очевидцы, во время молебна. Целая свора священнослужителей вопила в церкви, благословляя песнопениями повешение человека, помогавшего, в сущности, осуществлять христианскую заповедь любви к ближнему. Какая ирония судьбы! Собор, выстроенный еще запорожцами как символ протеста против царского произвола, теперь стал убежищем озверевшей помещичьей банды.
Ивась смотрел на плакат, а перед глазами вставали плотные фигуры и жирные рожи попов, благословлявших белогвардейских палачей. Возмущенный клеветой на красноармейцев – он никогда не слышал, чтобы они расстреливали священников, – Ивась представил себе, как изменилась бы набожная постная рожа этого попика, если бы власть была в руках не у матросов, а у него!..
Ивась каждый день приходил к этой витрине и с болью в сердце смотрел на карту, где флажки все ближе и ближе подвигались к Москве. А дома Сергий Евтихиевич дополнял эти сведения рассказами о героизме и победах белых. Ивась молча слушал и молча страдал. И все же надежда жила. Хотя Деникин, Колчак, Юденич, поддержанные Антантой, двигались на Москву со всех сторон и на большой карте России оставался лишь клочок территории, окруженной густыми шпалерами флажков, надежда жила. Поддерживало ее то, что до Мамаевки белые не дошли. На фронтах продвинулись далеко, а в глубь уезда идти боялись.
И вдруг однажды Ивась услышал пулеметную очередь. Она долетела из-за речки Самары, из лесу, что был за городом, и в вечерней тиши раздавалась так отчетливо, что можно было различить, из какого пулемета стреляют – из «максима», «кольта» или ручного.
Ивась скрыл радость и сидел в классе на следующий день тихо, чтобы никто не заметил, как он рад. А гимназисты встревоженно обсуждали ночной налет партизан на пригородный пост белогвардейцев.
Володя Гавриш тихо толкал Ивася в бок, показывал на испуганно-встревоженные лица приверженцев Деникина.
На другой день гимназисты повеселели: партизаны были «разгромлены» и «уничтожены», флажки на карте продвигались к Москве, Деникин побеждал. Однако ночью опять раздались пулеметные очереди, а утром Ивась снова злорадствовал, видя, как опечалены его одноклассники.
На третий день Володя Гавриш рассказал, что партизаны разрушили железнодорожное полотно. Сделали они это очень оригинально: развинтив в одном месте рельсы, привязали к полотну три пары волов и опрокинули его вверх шпалами.
– И так на полутора верстах! – восхищался Володя.
Гимназисты возмущались «некультурностью» партизан, испортивших такую ценность, а Ивась едва сдерживал радость, восхищенный изобретательностью повстанцев. Теперь бронепоезд, который приходил из Екатеринослава и под прикрытием которого белогвардейцы совершали налеты в глубь уезда, уже не поможет их карательным экспедициям!
Каждый день приносил слухи о партизанах, об их удачных операциях, стрельба звучала на окраинах города каждую ночь, и от всего этого Ивасю становилось светлей на душе.
Вскоре военное начальство обратилось к гимназистам с призывом вступить в добровольную дружину, и учеников в классе стало еще меньше. Только семь-восемь мальчиков сидели теперь на уроке, да и те больше прислушивались к тому, что происходит на улице, чем к словам преподавателя. Еще через несколько дней была объявлена мобилизация в белую армию преподавателей гимназии, и занятия почти прекратились.
Ивась и Володя Гавриш, сидя в пустом классе, весело разговаривали, делясь приятными новостями. А поделиться было чем!
Гимназистам – солдатам добровольной дружины, жившим не в казармах, а дома, было приказано перейти на казарменное положение.
Как-то вечером, проходя мимо гимназии, Карабутенко встретился с преподавателем математики в старших классах. Тяжелый подбородок на четырехугольном лице и усы, как у кайзера Вильгельма Второго, делали всегда угрюмое лицо учителя злым.
Увидев Ивася, он спросил, сверля мальчика глазами:
– Вы почему без винтовки?
– Я приехал сюда учиться, а не воевать.
– Вы обязаны защищать порядок! Вы против порядка?! – угрожающе повысил голос преподаватель.
– Отец послал меня учиться, и я не могу его ослушаться, – ответил Ивась, чувствуя, как по спине пополз отвратительный холодок.
– Коммунистическая сволочь! – с ненавистью прошипел математик. – Завтра ты будешь с винтовкой! Понятно?! – Он шагнул к Ивасю, и на того густо пахнуло спиртным духом. – Понятно?
Ивась, как обожженный, помчался на квартиру. Что делать? С кем посоветоваться? Единственный, с кем можно было поговорить, – Володя Гавриш. Но он жил за городом.
Утром, встретившись с Володей, Ивась рассказал ему о своем разговоре с Кайзером, как прозвали гимназисты математика.
– Если он был пьян, то не так страшно, – успокоил друга Володя.
К счастью для Ивася, через несколько дней белые оставили город. Это произошло ночью, а утром Ивась услышал радостную новость и мечтал по пути в гимназию увидеть партизан.
Но улицы были пусты, а дверь дома, где помещался штаб добровольной дружины, оказалась запертой и возле нее не стояли часовые – это явно означало, что в городе безвластие.
В гимназии занятий не было. По коридорам слонялось человек десять гимназистов, и среди них Гавриш. Мальчики радостно бросились друг к другу и, как бы поздравляя один другого с победой, крепко пожали руки.
– Сбежали! – улыбнулся Володя.
– Но где партизаны? Почему их нет? – беспокоился Карабутенко.
– Придут! Давай пройдемся по городу, – предложил Гавриш.
Они вышли из гимназии и направились на соседнюю улицу, где помещалась уездная полиция. Ворота были отперты, и в глубине двора виднелись здание управления и казармы, где жили полицейские. Озираясь, мальчики вошли. Во дворе, отделенном высоким забором от сада, было тихо и пусто. На крыльце одного из зданий стояли стоймя немецкие гранаты. Ребята переглянулись.
– Взять?
Они помолчали.
– А что, если их поставили нарочно: тронешь, а она взорвется?!
Конечно, если бы это были аккуратные лимонки, ребята не удержались бы, но эту, с длинной деревянной ручкой, даже не спрячешь…
В помещении они увидели телефон и, словно сговорившись, подмигнули друг другу:
– Сорвем?
– Сорвем и спрячем до прихода наших.
Оторвать трубку со шнуром было не так трудно, но аппарат был привинчен на совесть, и они изрядно попотели, пока оторвали его от стены.
– Не надо, чтобы нас видели, когда мы его понесем, – сказал Володя.
Друзья спрятали телефон в бурьяне под забором и, убедившись, что замаскировали его как следует, вышли на улицу. Она была пуста, поэтому никто, как им казалось, не видел, как они входили и выходили из здания полиции.
Довольные удачной операцией, ребята продолжали прогулку по городу.
– Алло, алло! – время от времени смеялся Володя, прижимая к груди спрятанную за пазуху трубку, и Ивась отвечал ему веселым подмигиванием.
– Вот придут партизаны, а мы им – подарок! Здорово! – говорил Володя и снова повторял: – Алло! Алло!
– Здорово! – вторил ему Ивась, представляя, как они принесут партизанам телефон и как те будут рады, что ребята сохранили для них такую нужную вещь.
Весь день прошел в приподнятом настроении и радостно-тревожном ожидании. Но настал вечер, а партизан не было.
«Завтра придут», – успокаивал себя Ивась, ложась спать. Но утром он увидел счастливое лицо квартирохозяина.
– Вернулись наши! Ночью вернулись! Они нарочно выходили из города. Думаешь, у них мало сил? Нет! Они специально ушли, чтобы посмотреть, кто этому обрадуется.
Ивась слушал его, как всегда, с отвращением. Чтобы отвязаться, взялся за книжку. Теперь он ежедневно читал по нескольку страниц из каждого учебника. На этот раз перед ним была «Логика». Ивась читал, но не понимал ни слова. Мысли его были далеки от силлогизмов, о которых писал Челпанов. «Почему партизаны не пришли? Неужели это и в самом деле был намеренный маневр?»
Он вздыхал и в десятый раз повторял пример неправильного силлогизма.
После обеда в комнату снова зашел Сергий Евтихиевич:
– Тебя вызывает какой-то гимназист.
Ивась закрыл книгу и вышел на крыльцо. Там с винтовкой за плечами стоял Юрко Молодкевич.
– Здорово! – И, вглядываясь в Ивася, добавил: – Ты взял телефонный аппарат из помещения полиции…
– Я взял телефонный аппарат?! – воскликнул Ивась с таким неподдельным удивлением, что сам поразился. – Да ты что? – И он не мигая посмотрел прямо в глаза Молодкевичу.
– Есть сведения, что ты сорвал телефонный аппарат. Есть сведения, – сказал Молодкевич, не повышая голоса.
– Это поклеп! – возмутился Ивась, продолжая все так же прямо смотреть на Молодкевича.
Тот, очевидно, немного потерял уверенность в том, что Карабутенко виноват, и сказал уже другим тоном:
– Тогда пройдемся к корнету Коханенко.
При упоминании о корнете Ивась нечеловеческим усилием воли сдержал внутреннюю дрожь и, бросив: «Сейчас оденусь», – ушел в комнаты.
Корнет Коханенко! О его жестокости говорил весь город. Это был тот самый корнет, который когда-то служил начальником советской милиции, потом – петлюровской, а теперь командовал белогвардейской дружиной и, вероятно чтобы доказать свою преданность контрреволюции, при всяком удобном случае пытал арестованных по подозрению в связях с красными. А что, если этот корнет вспомнит еще и разговор, который происходил у него с Ивасем и Аверковым? Каким пронизывающим взглядом смотрел он тогда на них обоих!
На улице Молодкевич предложил ему идти рядом, а не впереди.
– А то еще подумают, что я конвоирую арестованного..
– Кто мог возвести на меня такой поклеп?.. – удивлялся Ивась.
– Есть сведения, – повторил Молодкевич, и от этой фразы Ивасю снова стало тоскливо.
Вот и штаб дружины. Когда-то здесь помещалось уездное казначейство, потом этот дом по очереди занимали военные штабы разных властей.
– К корнету Коханенко! – сказал Молодкевич часовому на крыльце.
– Корнета сейчас нет в штабе.
– Что ж с тобой делать? – развел руками Молодкевич. – А когда будет корнет? – обратился он к часовому.
– Часа через два.
– Так я приду через два часа, – сказал Ивась.
– Придешь? – недоверчиво посмотрел на него Молодкевич.
– Конечно. А не веришь, давай погуляем эти два часа…
– Ну хорошо… Иди. Но через два часа чтобы был тут!
– Не беспокойся, – заверил его Ивась и не торопясь направился домой.
Только свернув на другую улицу, он облегченно вздохнул и ускорил шаг.
На квартире он просмотрел учебники, засунул за пояс «Психологию», «Логику», «Алгебру» и, не прощаясь, выскользнул со двора. Боковыми улицами он добрался до бывшей квартиры Хомы и попросился у хозяйки переночевать, а в четыре часа утра, еще затемно, вышел из города в направлении Мамаевки.
Шел мелкий осенний дождь, ноги увязали в грязи, но все это были мелочи по сравнению с тем, что могло ожидать его в городе.
В первом селе он увидел возле школы знакомого семинариста, который теперь здесь учительствовал. С перевязанной головой, весь в синяках, он рассказал Ивасю, что за час перед тем белогвардейская дружина во главе с корнетом Коханенко выступила из их села… Оказалось, что этой ночью белогвардейцы вновь оставили уезд и теперь продвигались к губернскому городу.
– А это, – показывая на перевязанную голову, сообщил учитель, – результат моего разговора с корнетом… Он уговаривал меня рассказать, где сейчас партизаны…
Ивась содрогнулся, представив себе встречу с корнетом, которой он не избежал бы, придя на час раньше в село…
Заляпанный грязью до пояса, усталый до изнеможения, перемесив семьдесят пять верст чернозема, Ивась к вечеру следующего дня пришел домой.
Он лег спать на печи, а когда проснулся и посмотрел вниз, увидел свои сапоги, начищенные до блеска, и на лавке выглаженные, без малейших следов грязи, штаны. Он уже слезал с печи, когда раздался выстрел, а за ним – шум и ругань. Со двора вбежала испуганная мать.
– Белые!
Через минуту гулко хлопнула дверь, и на кухню ворвались два белогвардейца.
– Ага! Военное имущество! – обрадовался один из них, увидав штаны и сапоги Ивася.
Второй мигом подхватил вещи.
– Это не военное имущество! Это мои штаны и сапоги! Сшитые, а не купленные! – крикнул Ивась.
– Много ты знаешь! Сиди на печи, пока жив! – ответил белогвардеец и, увидав Юхима Мусиевича, который переступил порог, заорал: – Где сын?
– Не знаю…
– А! Не знаешь?! В Красной Армии! А ты и не знаешь?!
Юхим Мусиевич молчал, мать тайком утирала слезы; младший, Сашко, испуганно озирался, разинув рот.
В кухню ворвались еще несколько белогвардейцев. Старший приказал произвести обыск, и через пять минут на полу уже лежала целая куча «военного имущества» – пальто матери, платки, свертки полотна, полотенца и мешок с салом. Один из солдат, обшаривая одежу на вешалке, нашел в курточке у Сашка винтовочный патрон.
– Вот! – крикнул он своим. – Смотрите! Вот! Оружие!
Он схватил Юхима Мусиевича за лацканы и заорал:
– Где оружие? Где винтовка? Давай сюда винтовку!
– Это мальчишка где-то нашел патрон… Я первый раз вижу, – побледнев, сказал отец.
– Где оружие? Я спрашиваю, где оружие?! – кричал белогвардеец. И вдруг ударил Юхима Мусиевича по лицу кулаком.
Тот пошатнулся.
– Нет у нас никакого оружия…
– Нету? А ну выведите его во двор!
Ивась задрожал всем телом. Сейчас отца расстреляют.
Тумаками солдаты вытолкнули Юхима Мусиевича из хаты и повели на улицу. Мать, плача, бежала за ними. Двое бандитов выносили «военное имущество». Помертвев от страшного ожидания, Ивась механически наблюдал в окно, как белогвардейцы вывели из конюшни лошадь и грузили на нее добро. Проходили минуты. Лошадь с награбленным вывели со двора. Вдруг на улице стало тихо, и Ивась приготовился к самому худшему. Но выстрела не раздалось. Прошла еще минута, и во дворе показался отец, избитый, окровавленный, но живой. Мать, рыдая, вела его под руку.
Испуганный Сашко, чувствуя свою вину и ожидая заслуженной кары, шмыгнул в комнату, как только отворилась наружная дверь. На него никто не обратил внимания…
– Только бы этим кончилось… – проговорил отец. – А если еще придут?
На счастье Карабутов, белые спешили – их сводный отряд бежал от партизан на железнодорожную станцию, и для «прощания» с Мамаевкой у них было очень мало времени.
Ивась приготовился слушать отцовские жалобы на Хому и подыскивал слова, чтобы доказать, что Хома не виноват, что «революция жертв искупительных просит», что исторический процесс есть исторический процесс и классовая борьба необходима, что от врага нельзя ждать добра, но Юхим Мусиевич не сказал ни слова.
Скоро стало известно, что белогвардейцы поймали Опанаса Дрелика и с ним двоих партизан и замучили их. Опанасу резали тело и, нацедив крови в стакан, заставляли его пить, а потом убили. Несколько хат сожгли. А убитых и ограбленных было без числа.
Отсутствие штанов и сапог способствовало тому, что молодой Карабутенко самостоятельно взялся за науки по программе шестого класса гимназии.
Из учебника психологии он узнал, что ощущение звука вызывается волнами воздуха, а ощущение цвета – световыми волнами, и, не будь человека, звук и свет не были бы звуком и светом, которые мы слышим и видим, а так и остались бы волнами.
Но больше всего поразила его книжка по биологии, каким-то образом попавшая к ним в книжный шкаф. Происхождение видов в процессе борьбы за существование было для него раньше просто фразой, общим местом, а теперь он представил себе происхождение видов конкретно. Он увидел мир в его развитии, заглянул в глубь мироздания. О том, что с изменениями в экономике изменяется общество, он узнал из программы большевистской партии. Теперь он осознал, что не только общество, а весь мир изменяется: что современная картина мира – лишь момент в его развитии, картина, которая была другой вчера и будет другой завтра.
Ивась знал, что человек происходит от обезьяны. Но раньше не представлял себе процесса развития, он думал, что обезьяна вместо детеныша однажды родила человека с его современным интеллектом, современными чувствами, современными мыслями. Теперь он видел, что это не так, что у первобытного человека не было многого, чем обладают люди сегодня.
«Человек от природы – собственник! Из него никогда не выйдет коммуниста!» – слышались ему слова Виктора Стовбоватого и других оппонентов в прошлых спорах, и он теперь только улыбался. Тогда он не знал, как ответить, и ссылался на время, хотя и не представлял себе, как на самом деле действует время. Теперь он был уверен: человек избавится от собственнических чувств, качества эти приобретенные, а не природные.
Особенно его поразило, что в эмбриональной стадии человек проходит все этапы предыдущего развития человечества, начиная с одноклеточных, и, например, бывает рыбой. Рыба же не была собственником! И ласточка тоже. А пчелы?
Эти открытия доставили ему столько радости, что он даже забыл, что остался без штанов и сапог.
Выходя кормить или поить скотину (мать нашла кое-что из старья, подлатала, надтачала, отец делился сапогами, пока не заказали новые), Ивась невольно заглядывал, так сказать, в глубь естественной истории, представлял себе, глядя на животных, тот путь, который прошли лошадь, корова или телок, пока стали лошадью, коровой или телком. Закончив работу, он выходил к воротам и, поглядывая на крыши хат, которыми было заполнено все вокруг до самого горизонта, думал о том, что вот он знает правду, у него истинное представление о жизни, а эти тысячи живущих под соломенными стрехами не знают ничего, веруют в бога и думают, что свет неизменен.
Когда первая радость прозрения миновала, Ивась заметил пробел в своих знаниях. Как будто все ясно: одна клетка зародыша, развиваясь, превращается в человека. А душа? Откуда же берется душа? Как и откуда она вселяется в человеческий организм? Ведь у клетки, с которой начинается развитие, души нет?!
Давно, когда ему было всего лет десять или одиннадцать, он видел кинокартину «Страшная месть» по Гоголю, где колдун вызывает душу пани Катерины. Ивась явственно, как сейчас, видел, как душа, в виде прозрачного силуэта пани Катерины, отделилась от тела по приказу колдуна. И у каждого человека, представлял Ивась, есть вот такая прозрачная копия тела, в ней сосредоточены все чувства, мысли, желания, страсти. И если душа покидает тело, человек умирает. Именно так он представлял себе душу и, как ни бился над вопросом, откуда она берется, эта душа, не мог дать ответ.
Кого спросить? Кого же, когда на все пять тысяч населения Мамаевки ему одному открыта тайна происхождения видов и человека?..
Не разрешив эту проблему, Ивась успокоил себя тем, что, в конце концов, хотя и не знает, откуда берется душа, того, что он знает, достаточно для правильного анализа жизненных явлений. Все в развитии, все изменяется – вот что важно! И важно прежде всего потому, что человек изменится, избавится от черт, приобретенных на протяжении собственнического периода истории. Отрицательные черты человека исчезнут по мере изменения социальных условий существования. Это главное!
В своих отрепьях Ивась стеснялся показываться на люди, а попытка просветить отца кончилась ничем. Юхим Мусиевич слушал сына улыбаясь: мол, отца учишь, и его, казалось, больше интересовал самый факт, что сын увлечен таким вопросом, чем суть дела. Но тут школьный товарищ, старше его на два года, передал приглашение быть дружкой у него на свадьбе. Пришлось идти в центр села, чтобы отказаться от почетного приглашения. Одновременно Ивась хотел поделиться своими новыми знаниями. Но в приятеле он не нашел внимательного слушателя, тот был озабочен свадьбой, а не происхождением видов и сущностью цвета и звука.
Выйдя от приятеля, Карабутенко остановился посреди улицы. День был туманный, хаты едва проступали сквозь мглу, и село казалось написанным какой-то удивительной краской. Вдруг со стороны Орели раздался конский топот, а через минуту из тумана вынеслись четыре всадника. Размахивая обнаженными шашками, они мчались наметом к «волости» – это название сохранилось, хотя власти не раз менялись.
Ивась инстинктивно бросился к забору, но, увидев на шапке всадника красную ленту, остановился.
Партизаны!
Обрадованный, он счастливыми глазами смотрел на усатого парня, который подъехал к нему, спрашивая, кто в селе.
– Никого! Недавно деникинский отряд драпал через Мамаевку, – торопился проинформировать партизана Ивась.
– Знаем! Этот отряд мы догнали. Значит, никого?
– Никого.
Усатый отрядил двоих товарищей обратно, а сам, вдвоем с другим бойцом, продолжал путь.
Через полчаса огромный партизанский отряд, около шести тысяч бойцов, расположился в Мамаевке. Это был отряд Матяша, шедший на Екатеринослав, откуда время от времени доносилась артиллерийская канонада – единственный способ информации о положении белых в Екатеринославской губернии, поскольку никаких газет в Мамаевку давно не приходило, а телефон был испорчен.
Отдохнув в Мамаевке день, отряд двинулся на Екатеринослав и после неудачного наступления, снова через Мамаевку, вернулся на Полтавщину. В отряде чуть ли не половина бойцов болела сыпным тифом, и через две недели лежала в тифу вся Мамаевка. Болели в каждом дворе, не была исключением и семья Карабутов.
Первым заболел Юхим Мусиевич, за ним мать, младший брат Сашко, старшая сестра и, наконец, годовалый Дмитрик. Ивась остался на хозяйстве один. Прежде всего он запряг единственную клячу, оставшуюся у Карабутов после визита белогвардейцев, и поехал за фельдшером. Рыжий, с большими руками, густо покрытыми веснушками, фельдшер сказал, что хотя он и очень уважает Юхима Мусиевича, но ехать ему некогда и незачем, потому что все больные в Мамаевке больны сыпняком, лекарств никаких нет, и единственное, чем он может помочь Юхиму Мусиевичу, это дать Ивасю учебник по терапии.
– Вот нате эту книжку, читайте и лечите, как тут написано. А вот вам рецепт на аспирин и на слабительное. Поезжайте в Чарычу, купите в аптеке. Желудок прочистить необходимо всем больным.
Ивась поблагодарил за книжку и в тот же день прочитал главу «Сыпной тиф». Он нашел женщину, одинокую беженку, которая взялась присматривать за больными и доить корову, отвез мешок ржаной муки известной на селе самогонщице и получил от нее четверть самогона двойной перегонки: в учебнике говорилось о дезинфекции спиртом. Самогонщица не обманула – налитый в блюдечко самогон вспыхивал от спички и горел прозрачным голубым огнем.
В Мамаевке ежегодно умирало несколько больных, мужчины по большей части лежали в тифу или были на войне, а тем временем ударили лютые морозы, земля промерзла на полтора аршина, и отовсюду слышались жалобы на то, как трудно найти человека рыть могилу. Несколько соседей, у которых не было лошадей, приходили к Ивасю просить клячу отвезти гроб на кладбище, и у него всякий раз сжималось сердце от тяжкого предчувствия, что и ему придется искать могильщика и везти гроб на погост…
Особенно тяжело приходилось по ночам. Изо всех комнат доносился стон, слабые голоса просили воды, звали бога, бормотали в бреду. Ивась сидел и при свете плошки перечитывал учебник терапии, отыскивал описание симптомов тифа, которые замечал у больных.








