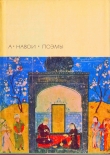Текст книги "Приключения 1984"
Автор книги: Валерий Гусев
Соавторы: Глеб Голубев,Владимир Киселев,Григорий Кошечкин,Валерий Винокуров,Леонид Щипко,Борис Шурделин,Айтбай Бекимбетов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
На пароходе существовала своя иерархическая лестница. Кочегары – черные духи, в самом низу, палубная команда – рогали, повыше, а стюарды, телеграфисты, рулевые и вовсе у самого верха. И неудивительно, что Захаров, зная Сторжевского в лицо, ни разу с ним не разговаривал.
Сторжевский встретил Захарова неприветливо.
– Что нужно?
– Ничего особенного, – ответил Захаров. – Вы обслуживаете офицеров. Не слыхали между ними, куда после Мурманска идем?
– Это что же? Ян Сторжевский должен передавать разговоры в кают-компании? За кого вы меня принимаете? Как вы смеете! – Волосы торчком, глаза круглые, подбородок пикой вперед.
Над койкой Сторжевского несколько картинок, укрепленных блестящими кнопками. Виды Варшавы и остроконечные крыши католических храмов – отражение того, что дорого Сторжевскому. Но если офицеры вместе с капитаном задумали уйти от Мурманска на запад, не близок будет путь в родную Польшу. Все, что накоплено за нелегкую службу на Севере, будет утрачено в этом пути. Неужели не понимает он этого?
Похоже. Оскорбленный тем, что какие-то кочегары хотят какие-то сведения, Сторжевский не может оценить значения и смысла этих сведений. Ему кровь ударила в голову, и уяснить, что от него хотят, он уже не может.
– Нас угоняют за границу, – втолковывает Захаров. – В Норвегию или Англию.
– Меня не интересует. Я честный человек и честно несу свою службу, зарабатываю хлеб, господа заговорщики.
Гонора у него больше, чем здравого смысла. Раздосадованный и обиженный Захаров из каюты вылетел словно от подзатыльника. Лишь дверью грохнул в сердцах. Попробуй с таким кашу сварить!
Коридор пуст, как тоннель, уводящий на другую сторону горы. Оттуда доносятся глухие голоса, скрип каких-то пароходных сочленений. Неуютно, тревожно здесь.
Все на верхней палубе, вот-вот появятся огни «Козьмы Минина». И Лисовский там, со всеми? А быть может, в каюте? Отчаянно махнул рукой:
– Была не была! Наудачу!
Бросился к трапу, по которому несколько дней назад тащил чемоданы Лисовского.
Перед дверью остановился, набрал полную грудь воздуха и осторожно постучал. Прислушался... Тишина. Постучал сильнее – дверь стремительно распахнулась... Лисовский на пороге – без кителя, в белой рубашке, поверх которой перекрещиваются помочи.
Захаров прокашлялся.
– Прошу прощения. Можно один вопросик? – И сам удивился своему просительному, униженному голосу. Как бы не перестараться, не выдать себя.
Лисовский повернулся боком, освобождая проход в каюту, где на смятом покрывале дивана раскрытая книга и тут же, на спинке стула, офицерский китель.
Захлопнув дверь, Лисовский прижался к ней спиной, будто боялся, что следом войдет еще кто-то. Молчал. И не гнал и не привечал. Наверное, удивлялся, соображая, для какой надобности Захаров медведем ввалился.
В каюте порядок, словно ее хозяин, кроме дивана и стула, ничем больше не пользовался. Чемоданы – похоже, их и не открывали – пирамидкой в углу.
Тесно, как в кубрике. Ни повернуться, ни ступить, чтобы не задеть что-либо, да еще при такой комплекции, как у Захарова. Он горбатится, плечи сдвигает, на широком лице мука. Будто в клетку втиснулся, а как выбраться, не знает. Хоть бы Лисовский выручил, сказал: «Убирайся отсюда!», и то легче – выскочил бы быстрее, чем от Сторжевского.
Стянув шапку, Захаров сжал ее так, что пальцы побелели.
– Вот пришел за советом аль помощью. Человек вы у власти, вроде даже знакомый, совет бы дали.
– Садись! – бросил Лисовский и, увидев, как нерешительно затоптался Захаров, приказал: – Садись!
Осторожно опустившись, словно боясь иголки, Захаров продолжил:
– Вот пойдем в Мурманск. Так вроде?
Вместо ответа – быстрый вопрос:
– Почему спрашиваешь? Всем известно!
Захарову захотелось, в свою очередь, спросить: «А чего ерепенишься? Сказал бы: да – и делу конец!» Но вслух произнес другое:
– Ежели в Мурманске будем стоять, выгружаться, то да се, так у меня там интерес имеется.
– Девка?
– Не-е, – захихикал Захаров. На всякий случай уточнил: – Девка в Архангельске. Тетка там у меня недалеко, в поселке. Известие имел – померла еще в конце прошлого года. А поехать за наследством никак не мог. При теперешнем случае, смекаю, деньков пять выкроится, в поселок смотаюсь и вернусь. А время сейчас какое? Тревожное. Так хотел попросить како ни есть для себя вооружение. Может, там паршивенький наган или винтовочку. Был бы премного благодарен.
– Если тетка была доброй, нужно поехать, – помягчевшим голосом произнес Лисовский. На его злом лице мелькнуло подобие улыбки. – Беречь родственные отношения – свойство чисто человеческое.
Лисовский отошел к столу под иллюминатором, оторвав взгляд от Захарова, будто выпуская его из крепко державших рук. Вздохнул, несколько секунд в каюте было тихо. Видно, Лисовский думает о чем-то своем.
– Помощь окажете, – заторопился Захаров, почувствовав настрой хозяина каюты и стремясь удержать его в этом настрое, – так я со всей нашей благодарностью. Или колбаски, или самогончика, можно будет и деньгами. Тетка богатенькая была.
Шагнув к Захарову, Лисовский гирями опустил ему на плечи руки. Захаров крякнул под ними, но усидел, не пошатнулся. А заговорил Лисовский легко и мягко:
– Спасибо, спасибо. Так ты не из шантрапы, которая грабит честных людей? Я всегда чувствовал в тебе основательность. Помнишь, тогда, в комендатуре? Некоторые были против, чтобы тебя отпускать. Им было нужно разобраться. В городе какие-то подпольщики. Я заверил – нет, этот кочегар честный человек. Забрал тебя. Рад, рад, что не ошибся. Хорошо, что пришел ко мне, и впредь рассчитывай на меня.
– Премного благодарен, – обрадовался Захаров. – Недельку простоим в Мурманске? Пока выгрузка, туда-сюда, я успею.
Лицо Лисовского придвинулось чуть не вплотную. Захарову видны глаза в красных прожилках, на виске – пульсирующая синенькая пиявочка-жилка.
– Иван Эрнестович отпустит? Спрашивал его? Мне замолвить словечко? – Голос Лисовского журчал, наполненный доброй заботой. А пальцы железно держали за плечи, взгляд напряжен, чего-то ищет. Будто перед Захаровым два Лисовских, два разных человека – один говорит, а другой смотрит.
– В том-то и дело, – чувствуя, что Лисовский ведет какую-то свою игру, Захаров прет прежним курсом. – В том и дело. Они говорят: «Никаких увольнений. Не смей и мечтать, сразу идем дальше».
Руки Лисовского на плечах дрогнули, и он тут же их снял, испугавшись, что этим выдал себя.
– С Иваном Эрнестовичем договоримся. Надеюсь его уговорить.
– Премного буду благодарен.
– Чего уж, – небрежно взмахнул рукой, поморщился Лисовский. – Можешь на меня всегда рассчитывать. А что там говорят? – спросил небрежно, так, между прочим, занявшись папироской.
– Где говорят? Про чего? – не понял Захаров.
Пальцы Лисовского, разминавшие папиросу, остановились. Он медленно поднял взгляд, тяжелый, как пароходные кнехты.
– В команде. О нашем рейсе. О жизни.
Захаров задумался, наморщил лоб, изображая свое старание что-то вспомнить. Пожал плечами:
– Про власть – ничего. Больше про выпивку, про домашние дела: жен, детишек.
Перед самым носом Захарова Лисовский поводил пальцем с оттопыренным ногтем.
– Ну-ну! Нехорошо. Я же тебе не враг.
– Господь с вами! Как можно: враг! И в мыслях нет.
Они играли. У Захарова непривычная для него роль, за которую взялся ради того, чтобы узнать истину. У Лисовского – привычная. Он бесконечно презирает тупого кочегара и не подозревает, что тот, скрываясь за унизительной, но необходимой для дела личиной, обладает более сильной волей, гибкостью ума, которых не хватает ему самому, Лисовскому. Но когда Захаров поднялся, чтобы уйти, Лисовский почувствовал безотчетное беспокойство, воскликнул:
– Стой! Если что услышишь, приходи. И вообще приходи, рассчитывай на меня. Понял, теткин наследник?
– Понял, чего хитрого? Фискалить, что ли? – Держась за ручку двери, Захаров и вовсе осмелел.
– Помогать! – воскликнул Лисовский.
– Помога-ать? – вроде не догадался с первого раза, а теперь все понял: – Это мы всегда с дорогой душой.
Лисовский, покачиваясь с носка на каблук, смотрел на дверь, за которой скрылся Захаров. Расстались в согласии, а в Лисовском крепнет беспокойство, будто Захаров унес что-то очень важное.
А тот торопился в кубрик. Мурманск – только промежуточный пункт, рейс за рубеж! Поэтому и не удивился Лисовский придуманному запрету Рекстина на береговое увольнение, поэтому были у него вопросы и подозрения!..
Можно так рассуждать, а можно и по-иному. Случайные вопросы. Все только кажется. Но, с другой стороны, если придется белым бежать из Мурманска, пароход они не оставят. На нем будут уходить. Вот при такой общей картине двусмысленные детальки разговора становятся весомыми.
Захаров боялся неосторожных, преждевременных выводов. И медлить в таком деле нельзя. Команде рассказать, что ее ждет впереди, пусть каждый решает, к какому берегу плыть. А самое наиглавнейшее – передать в Архангельск свое местонахождение, чтобы дошло до тех людей, которые в домике были в метельный вечер, до комитета. Пускай там соображают, как быть!
Одна отсюда тропа – радио! Или ждать до Мурманска? И там должны быть верные люди.
Озабочен Захаров, потому что догадка все же так и осталась догадкой, подсказки ниоткуда не будет. Нечего ждать. Самому нужно принимать решение. В Архангельске должны узнать, где они, куда ушли и какой дальнейший курс.
В кубрике товарищи обступили его со всех сторон. А выслушав, притихли, лишь Сергунчиков подскочил:
– Ясно дело, поднимай команду! – Костлявый и большой, он весь в движении, одной рукой подтягивает болтающиеся на поясе брюки, другой хватает Захарова.
– Куда поднимай? – с укоризной осаживает Захаров.
* * *
Захаров соскочил с койки. На соседних спокойно похрапывали – не стал будить. Что-то обеспокоило его, какой-то шум. Выглянул в коридор, освещенный одинокой тусклой лампочкой под потолком. В дальнем конце голоса.
– Эй, чего там?
Его не услышали, не ответили. Гонимый тревожным предчувствием, бросился вперед, пока не толкнулся в плотную стену матросских спин.
– Что случилось? О чем разговор?
– Второй день на берегу семафорят, боцман спрашивает желающих сбегать, узнать, чего им. Три мили, не меньше, по льду.
Захарова так и толкнуло, воскликнул:
– А я бы сбегал!
Тотчас на него оглянулись – бледные лица пятнами в тумане. А старый боцман, усач, переспросил с недоверием:
– Согласный, что ли? Эти вот боятся.
Через час легко, но тепло одетые, с баграми в руках, подпоясанные крепкими веревками, Захаров и Сергунчиков шли по льду к берегу.
В маленьком кармашке под рубашкой у Захарова записка в Архангельск. В ней говорится: «Направляемся Мурманск, дальше. Мои вещи продай, не понадобятся». Заготовил для передачи с радиостанции Индиги. Здесь не знают о секретности рейса и ничего не заподозрят, а в Архангельске сразу станет известно, где «Соловей Будимирович».
Вначале было ровное поле, обдутое ветром. В голубоватом лунном свете виден был черный, стекольный лед в трещинах, на который и ступить страшно. Стучали по нему баграми, убеждались – танцуй, не провалишься. Торосы, вспучившиеся рваными, припорошенными краями, обходили. И хотя путь этим удлиняли, но идти было легче и спокойнее.
На пароходе их напутствовал капитан:
– Смотрите внимательнее, где разводья. Узнайте, какой лед в Индиге, где имеются наибольшие глубины. А лучше всего, если бы доставили груз сюда, к пароходу.
Вскоре лед пошел неустойчивый, колеблющийся, отколовшийся от общего целика. По краям, в черных провалах, хлюпала вода. От нее несло запахом рыбы, острым до тошноты.
Они балансировали руками и ногами, чтобы не перевернуть льдину. Скользили в сапогах, не отрывая их от льда. Все тело в испарине, а лицо режет ветром, несильным, но жгуче холодным.
Когда же добрались к берегу, с разочарованием увидели, что у костра не представители Индиги, а два ненца.
– Давай товар! Есть пушнина! – Показывали в сторону «Соловья Будимировича» и требовали: – Патроны давай! Огонь-вода! Табак давай!
Однако сами на пароход идти отказались. Захаров и Сергунчиков отдали им весь свой табак, который был в карманах, но с одним условием:
– Ступайте в Индигу. На радиостанцию. Передайте записку, пусть отобьют сообщение в Архангельск. Когда придем на пароходе, еще по пачке табака получите.
– Передадим... Знаем – слова по воздуху летят.
– Вот-вот, – обрадовался их понятливости Захаров.
Отдохнув у костра, выпив по кружке чая без сахара, отправились обратно.
Плотно зашторенное облаками небо не пропускало ни света луны, ни малейшей звездочки. Море было шершавым и темным. Лишь вдали светился пароход.
* * *
За Полярным кругом в эту пору года дня почти не было. Но ни команда, ни пассажиры, ни офицеры не могли усидеть в помещении. Все время на палубе. В рулевой рубке даже поставили самовар. Замерзнув на мостике в ожидании ледокола-спасителя и своих посланцев на берег, бегали в рубку греться чайком. Не заходил сюда только лоцман Ануфриев. После того как его последнее предложение было отвергнуто Рекстиным, он редко появлялся на людях. В кают-компанию приходил обедать позже всех и сразу – к себе, как зверек в нору. Его отсутствия не замечали, нужды в русском капитане не было.
Зато Рекстин не знал покоя. Все вопросы об Арктике решались только им – его авторитет бесспорен.
– Иван Эрнестович, бывали плавания в столь позднее время на Индигу? – интересовался капитан Лисовский. – Насколько это реальная задача? Не застрянем во льдах, как бывало с полярными исследователями в прошлом?
– Замерзнем, не беда. Займемся научными наблюдениями, – беспечно смеялся тоненький поручик.
– Мне столь поздние плавания неизвестны, – медленно, обстоятельно отвечал Рекстин, и в рубке стихали голоса, все прислушивались к капитану. – Но исходя из толщи льда, которую замеряли наши матросы, исходя из наличия полыней, с помощью ледокола мы пройдем к реке Индиге.
– Скорее бы в Мурманск, – вздыхает Лисовский.
– Совершенно правильно. Там проходит теплое течение Гольфстрим, море не замерзает. Имеется теория: Гольфстрим растопляет льды к норду от Новой Земли, – объясняет Рекстин. – Нам бы ледокол на пять дней, и мы пробьемся к Мурманску.
– Мурманск, Мурманск... – почти поет Лисовский.
– А что Мурманск, господин капитан? И к Мурманску рвутся красные, и там голодно и холодно.
– Не о том, поручик, – тонко улыбается Лисовский. – Вы слыхали Ивана Эрнестовича? Незамерзающее море... А это – свобода маневра.
– Мы морем ушли, морем и вернемся, – уступает поручик. – Союзники помогут. Выручат, как всегда.
Рекстин вышел на мостик. Ему казалось, что офицеры возлагают на союзников слишком большие надежды. Выдержат ли те это бремя?
Спокойно смотрит Рекстин на лед, обхвативший жесткими ладонями пароход. Придет «Козьма Минин» – и ладони разомкнутся, «Соловей Будимирович» выйдет на свободу, как тогда ледокол № 7.
Главный стратегический ход Рекстина в том, чтобы, выдержав ледовый плен, выждав, сэкономить уголь, которого нет ни в Архангельске, ни в Мурманске. Без него – ни движения, ни жизни.
В ожидании шло время... «Козьма Минин» где-то на подходе. И Рекстин без волнения разглядывал ледовые нагромождения, уходящие в темные просторы, мрачные и неподвижные.
В теплой шапке и тулупе расхаживал по мостику, ежеминутно поглядывая на запад. Уже несколько дней пробивается к ним «Козьма Минин»... Сначала блеснет его огонек, потом появятся песчинки света, их будет становиться все больше и больше, они будут приближаться... Затем яркий свет прожектора обнимет палубу, мачты, мостик и заскользит вдоль бортов. Заскрипит лед, раздвинутся остроконечные его обломки, за кормой «Козьмы Минина» откроется плавно перекатывающаяся парящая вода...
А темная пелена на западе круто замешена, непробиваема и неподвижна.
– Капитан, капитан! – зовут из рубки.
Рекстин увидел взволнованного, бледного телеграфиста с бланком в руках. И обожгло: «Ледокол на подходе! Уточняет наше местоположение». Торжествующе глянул вокруг. Особенно хотелось увидеть Ануфриева: «Что скажет? Какое у него будет лицо?»
Медленно протянул руку за радиограммой. Ступил к штурманскому столу, чтобы еще раз посмотреть записи координат парохода, хотя превосходно помнил их и так. И тут мелькнула тревожная мысль: почему телеграфист бледен, а не радостен? Отчего растерян?
Взглядом побежал по серому бланку... Читал строчку за строчкой и не мог понять смысл. На лице выступили красные пятна.
Повернулся, чтобы уйти, скрыться от взглядов, чтобы не повторять вслух радиограмму.
А все, кто был на мостике, затаив дыхание следили за ним: «Где ледокол? Сколько еще ждать?»
Из Архангельска сообщали: «Козьма Минин» не придет, не ждите, поставлен на ремонт. Можете идти в Мурманск без захода в Индигу.
Они несколько дней его выглядывали, мерзли на палубе, а он и не выходил из порта! Вот так сюрприз!
Все планы Рекстина, все расчеты оказались грубыми просчетами. Ледовый вал, который он допустил вокруг парохода, теперь предстояло ему же и преодолевать. Три дня назад это еще было возможно, два дня – тяжело, вчера – с огромным трудом, а сегодня...
В мертвой тишине неожиданно раздался крик. Это голос Аннушки прокричал все переборки между каютами. Он пронзил Рекстина, сжал ему сердце.
Женщина рожала среди моря, на засыпанном льдом, гибнущем пароходе. И люди, замерев, забыв о смертельной опасности, сдавившей их, прислушивались к появлению новой жизни.
– Доктора, скорее доктора! – раздалось где-то в коридоре, в глубине парохода.
IV
Рекстин торопился вырваться изо льдов. К топкам стала полная вахта, в котлах подняли давление. Прозвучала команда:
– Малый вперед!
Пароход дрогнул... Дрожь рассыпалась по всему корпусу, но льды перед носом даже не шелохнулись.
– Средний!
Ледышки дождем посыпались на палубу. Обиженно, натужно загудели внизу машины...
– Полный!
Заскрипело, у бортов, затрещало ледовое громадье, обрывая холодные связки с пароходом, и... ни с места.
– Задний ход! Средний! Полный!
– Вперед! Полный!
Два часа борьбы, два часа неимоверного напряжения. Откосы угля в ямах быстро опускались, обнажая свободную черноту. День такой работы – и они порожние. Можно пройти десять миль, а дальше, когда не станет топлива? Как тогда преодолеть сотни миль, отделяющие «Соловья Будимировича» и от Архангельска и от Мурманска?
Опоздало разрешение, освобождающее от захода в Индигу. Поздно. Пароходу не выбраться.
Жгучие морозы поутихли, ветры из Сибири отогнали их. Но ветры кружили у парохода, по нескольку раз за день меняя направление, и от них пришли в движение ледовые поля. Толклись, с треском ломая края, расходились, расползались, как мокрая, раскисшая бумага, обнажая черную дымящуюся воду.
Появилась надежда, что разводьями удастся выйти изо льдов. Чуть бы покрепче ветер! В надежде на его добрую силу прошло еще поболее недели.
Однажды утром пароход вздрогнул от удара, по корпусу прокатился гул, Пароход качнулся, палуба перекосилась на корму – нос выдавливало, и он задирался к мутному, недоброму небу, закрывая иллюминаторы.
У Рекстина перехватило дыхание, повлажнели грудь и спина. Он сразу понял, что это значит, и выскочил на ботдек, ухватился обеими руками за поручни, с ужасом глядя туда, где ледовые поля лениво давили друг друга, подмяв и укрыв под собою море. С грохотом вспучивалась ледяная волна, крошась и громоздясь торосами. Приближаясь, она разбухала, разрасталась. Глыбы в этом вале, величиной с добрые дома, переворачивались, с треском и скрежетом ломались и бились друг о друга.
Выдержит пароход этот ледяной напор? Или сомнутся железные листы, лопнут шпангоуты, расплющатся паровые котлы?.. Вода завершит дело.
Лед, прилегавший к бортам и предохранявший от неожиданных ударов, пришел в движение. Закряхтел, зашевелился, полез кверху, роняя блестящие осколки, обдирая краску, прорезая в корпусе блестящие борозды и сам истираясь, расползаясь крупчатой кашей, а снизу его подпирают все новые и новые глыбы.
Грохот до неба. Он густеет и глушит людей. Но и грохот разрывают визг и скрежет, пронизывающие таким ознобом, будто с тебя сдирают кожу.
Люди многоразличны, но и одинаковы в этом хаосе звуков. Прикрываются руками при резком визге, даже приседают, втягивают в плечи головы. И все повернулись к валу боком, готовые бежать от него, сжаться еще больше, чтобы ледовые выстрелы пронеслись мимо.
Можно сойти с ума. Стоять и ждать! А что еще? Рекстин сглотнул слюну перед тем, как отдать приказ, а отдать его нужно твердым, решительным голосом. Экипаж надеется на него, и он обязан крепить эту надежду.
– Вахтенный штурман! – будто попробовал голос и уже твердо: – Приготовить аварийный запас! Сложить в шлюпки!
– Есть! – выдавил штурман и со всех ног бросился с мостика к матросам.
Море грохотало и визжало.
...Рекстин не уловил того момента, когда стоявшие у поручней люди задвигались. Он лишь услыхал их голоса, услыхал топот матросских ног... Что изменилось?
Стих грохот ледового вала!
Пароход встряхнуло, палуба под ногами выпрямилась – нос судна соскользнул в воду. Торосы, поднятые сжатием, израсходовав свои силы, затихли всего в ста метрах от борта, утонули в густой каше битого льда.
Сколько времени продолжалось сжатие? Час, два? Глянув в небо, Рекстин не увидел солнца. Небо клубилось, ворочалось грязными облаками, словно отражая в мутном зеркале ледовую пустыню под собой. Вынул часы и не поверил глазам: каких-то двадцать минут? Поднес часы к уху – не остановились? Исправно тикают, слышен легкий звон пружинки.
И тут же вспомнил: могут быть пробоины.
– Проверить трюмы!
Зашагал с угла на угол, преодолевая в себе вяжущую усталость. Это не та усталость, при которой нужно отдыхать. Эту нужно побороть, одолеть в себе. И он шагал, думая о том, что делать дальше.
С тревогой поглядывал в иллюминаторы, на притихшие, притаившиеся морские просторы. Какое счастье, что сжатие было недолгим и не прямо в борт – тогда бы конец. Но в любой момент может повториться!
Ветер не стихает. Кружит и кружит по горизонту. В какую сторону он повернет лед? Миллионы тонн льда!
Рекстин еще раз глянул на море, и ему показалось, что оно напрягается, копит силы, с тем чтобы двинуть друг на друга льды и, как жернова зерно, растереть пароход.
Остановился перед возвратившимся штурманом:
– Объявить аврал! Весь экипаж и пассажиры на околку парохода!
– Есть! – живо откликнулся штурман и уже в дверях обернулся: – Офицеров поднимать?
– Я сам.
Конечно, офицеров не хотелось бы трогать, но такое дело, что не приходится считаться. В экипаже пятьдесят пять человек, семь пассажиров гражданских (без Аннушки и родившейся дочери) и двадцать один офицер. Большая сила, многое могут сделать.
– В первую очередь майну у кормы. Будем освобождать винторулевую группу нашего парохода.
Еще ни один приказ Рекстина не выполнялся с такой охотой. С пешнями, ломами и лопатами в руках матросы понеслись по трапу на лед. Поломка винта или руля – и пароход, как человек с перебитыми ногами – не уйти, не вырваться отсюда. А они еще надеялись, что смогут уйти, что льды их отпустят. Только бы помочь пароходу.
В салоне в клубах табачного дыма люди колышутся, будто вырезанные из бумаги. Духота и паркое тепло перехватывают дыхание. Приоткрытый иллюминатор обметало густой изморозью. С хозяйской озабоченностью Рекстин подумал: теперь не закрыть, но тут же и забыл.
При появлении капитана офицеры повернулись к нему. Никто их не спасет – ни Северное правительство, ни генерал. Одна у них надежда на бога и его заместителя на пароходе – капитана. Впрочем, после давешних событий его авторитет весьма шаток. Особенно насторожен Звегинцев. Он, оказалось, не так прост, как думал Лисовский. Он был у Ануфриева в каюте, имел с ним с глазу на глаз долгую беседу. Доверия к Рекстину теперь не было. И все же пароход в его власти, его сообщений и приказов ожидают с волнением и надеждой.
Рекстин понимает, что отношение к нему переменилось. Его самого вяжет сознание, что он не оправдал чаяний этих людей. Он сам спутан и сбит с толку, хотя совсем не виноват, что не пришел обещанный ледокол. Скорее вина транспортного управления Архангельского порта, а вернее, военного командования, чьи указания выполняло управление. Но кто будет искать для Рекстина оправдания? Кому это нужно? Он надеялся и в других вселял надежды, он и виноват.
Телеграфист из Архангельска неофициально передал, что ремонт «Козьмы Минина» только отговорка. У него надводная пробоина, и работы с ней от силы на день.
В чем настоящая причина?
Наиболее дальновидные догадывались: положение на фронте весьма непрочно, командующий и его штаб придерживают ледокол на случай бегства. Жизнь белой армии измеряется днями!
Это понимали немногие. В их число не входил и Рекстин. «Ледокол, только ледокол! Вновь просить помощь! А сейчас выстоять при сжатии».
– Господа, угрожающее положение. Нас может раздавить. Вся команда и большинство пассажиров брошены на околку. – Рекстин ступил к столу. – Этого мало. Желательна ваша помощь на околке. Без вас на околке мало людей.
– Каждый день вы чем-то да порадуете, – с ехидцей произнес Звегинцев.
Не случайно Рекстину было трудно идти сюда. Тень накрыла его лицо. Оно вытянулось, будто что-то застряло в горле, глаза сузились, губы сжались. Стиснув зубы до боли в скулах, он не уходил, молча ждал, когда эти люди начнут одеваться.
Капитан Лисовский поднялся с дивана, на котором лежал, прикрывшись кителем.
– Ветер гудит, – произнес добродушно, как человек, которого оторвали от сладкого сна, поежился, уже чувствуя, как его пробирает до костей. В приоткрытом иллюминаторе был слышен свирепый посвист. – Экипаж сам не справится? Нас еще будет сжимать? Откуда вам известно? Или так, на всякий случай?
Рекстин тоскливо думал: «Эти люди видели сжатие льдов! Эти люди стояли на палубе и прикрывались руками или пригибались, стало быть, боялись. Почему теперь эти люди не хотят спасать себя? Или им жизнь не дорога? Ну, нет. За нее будут драться зубами».
– Прошу вас помогать. – Голос пресекался от горловой спазмы.
– Почтеннейший капитан, будь нас вдесятеро больше, такой вал льда не разрушить – залихватски воскликнул Лисовский и склонил голову с ровным, белым пробором посредине, пряча насмешку. – Бессмысленные мучения.
Рекстин обиделся:
– Почтеннейший, вы не понимаете в морском деле, а беретесь судить морские дела. Мы облегчаем положение нашего парохода.
– Хорошо, хорошо, капитан, – поспешил генерал Звегинцев. – Не будем браниться.
А когда оскорбленный и раздосадованный Рекстин вышел, Лисовский, проводив его взглядом, произнес:
– Очередная глупость.
Генерал промолчал и этим как бы признал правоту Лисовского.
Офицеры не торопились, хотя и понимали, что им придется принимать участие в общих спасательных работах. «Будет срочная нужда, позовут еще раз».
Лисовский было выскочил наружу. Здесь хорошо слышались удары ломов и треск осыпающегося льда. Ветер гнал с этими звуками и лохматые стрелы снега. Они вонзались в стекло прожектора над рулевой рубкой, казалось, вот-вот прошьют его, проколют палубу и все надстройки.
В салон он вернулся, вздрагивая от холода, по-ямщицки хлопая себя по бокам.
– Ох и метет, скажу я вам! – Подбородок у него дрожал, зубы клацали. – Пойдем или потом?
Они были в плену какого-то удивительного душевного оцепенения. Мертвящее спокойствие – в противоположность тому страху, который им пришлось пережить во время сжатия льдов. Катастрофа их минула, и теперь они стремились лишь к одному – к прежней безмятежности. А ее и не было. Они же всеми силами делали вид, что есть. И цеплялись за малейшую возможность, чтобы доказать себе: капитан вновь занимается не тем, что нужно.
И не было человека, который бы сломал их душевную глухоту, заставил чуточку проявиться их воле и разуму, выйти из теплого салона. Их захватило упрямое приятное отупление. Как бывает, если засмотришься на кого-то или что-то и не в силах глаз отвести.
Лисовскому не ответили.
* * *
С одной стороны – высокая, овальная корма парохода, с другой – горы льда, сверху – небо, уходящее в синюю бездну. И со всех сторон, как кипяток, холод.
Нелегко на морозе кочегарам, отстоявшим вахту у раскаленной топки. И все же работали азартно, особенно первые часы.
Захаров искал ритм, тот ритм, который выработался у кочегаров, когда можно бросать в огонь уголь, лопату за лопатой, а думать о чем угодно. Так и здесь ему был нужен ритм. Но найти его оказалось не просто. Морозный ветер хватал за нос, щеки, губы. За лихой соленой шуткой кочегары вначале прятали утомление, но вскоре утих смех, все вытеснила тягучая, ломающая плечи усталость.
Да что кочегары? Они к тяжелому труду привычны. А вот стюарды, телеграфисты, электрики, пассажиры – те сразу выдохлись.
Люди копошились на самом дне ночи. Кроме ветра и холода, их давил страх. Когда лед припорошен снегом и не видно, что под ним, не так боязно. Там же, где снег смело ветром, где обнажилась стекольная хрупкость льда, через которую просвечивает водяная чернота, ноги слабеют и отказываются подчиняться. Кажется, подошвы вот-вот прорвут, проломят прозрачную пленочку, и рухнешь в пучину. Люди увядали, у них дрябли мышцы, их окатывало липким потом.
Ян Сторжевский первым уронил лом. В обогревалке упал на скамейку, пальто с бобриковым воротником расстегнул, никак не отдышится.
Доктор, принимавший у Аннушки роды, высокий, грузный, в толстой шубе, вместе со всеми колол лед, тяжело, со свистом дыша и потея. А тут занялся Сторжевским, чтобы тот не отдал богу душу от переутомления. Раскрыл саквояж с медицинскими припасами, извлек бутылочки, покапал на ватку, распространяя на все помещение острый сосновый запах.
Постепенно все пассажиры оказались в обогревалке. Женщина в прямоугольной оленьей шапке-поморке, замотанная в платки, словно в кокон, не переставая стонала: «Ох-ох, что такое деется? Ой, сердце... Ой, помираю... Конец мне».
Обогревалка превратилась не то в лазарет, не то в комнату отдыха. Воздух в ней сизый от духоты. Свет электрической лампочки еле пробивается. Но ни иллюминатор, ни дверь не открывают, боясь холода. Он и так сочится через какие-то щели и ползет понизу, изморозью обметав дверь.
Откуда эти пассажиры на пароходе? Как им удалось уйти в рейс, который архангельские власти держали в секрете? Разные у них пути. И ни об одном не скажешь в открытую.
Впрочем, врачу нечего скрывать. Он мурманчанин, приехал в Архангельск несколько месяцев назад за медикаментами, а тут красные начали наступление, перерезали железную дорогу. Одна надежда – на пароход. Только никому не было дела до врача с его заботами. Почти каждый день он мыкался в коридорах гражданского департамента Северного правительства, умоляя дать ему место на любом судне, идущем в Мурманск. Но тщетно.