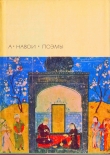Текст книги "Приключения 1984"
Автор книги: Валерий Гусев
Соавторы: Глеб Голубев,Владимир Киселев,Григорий Кошечкин,Валерий Винокуров,Леонид Щипко,Борис Шурделин,Айтбай Бекимбетов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Он заплакал и замотал головой.
Прокурор налил в стакан воду, подал Базарбаю. Тот взял стакан трясущейся рукой. Зубы его цокали о стекло.
– Предположим, я поверю тебе, – сказал прокурор. – Но все улики против тебя. Ты понимаешь это? Вот что, парень, будь мужчиной и не хнычь. Придется тебя задержать.
– Меня? – глаза Базарбая расширились от ужаса.
– Ничего не попишешь: такой порядок. – Прокурор заполнил протокол и вызвал милиционера.
В отличие от мужа Фирюза оказалась неразговорчивой. Она словно окаменела на стуле, стоявшем рядом с прокурорским столом. Прокурор был участлив, требователен, даже прикрикнул на Фирюзу. И все напрасно.
– Ты понимаешь, мужа твоего могут приговорить к расстрелу, – сказал наконец прокурор. – А если он невиновен? Но мне нужны доказательства невиновности Базарбая, а могут они быть только у тебя.
Фирюза молчала.
– Ты понимаешь, что сама вредишь своему мужу?
И в который раз прокурор задал вопрос:
– Когда ты убежала из дому той ночью? И почему убежала? Ведь знала, что муж, проснувшись, может броситься следом.
Фирюза не ответила. Прокурор приказал ее увести.
Молчала она и на очной ставке с Базарбаем, хотя он и клялся, что простит ей все, – пусть только скажет, где была, что видела.
Наконец на третьем или четвертом допросе Фирюза подняла миловидное, хотя и хмурое лицо, посмотрела на прокурора сухими глазами и тихо произнесла:
– Я скажу, если вы все этого так уж хотите. Я слышала, как Базарбай говорил вечером старику Ержану о Наврузе. Что тот выпросил у него ружье. Сердцем я почуяла: замышляется недоброе против Ибрагимова. Я пошла бы к нему сразу, да Базарбай долго не засыпал. Уснул – я потихоньку встала, подкралась к кузнице, увидела: Ибрагимов сидит у окна, что-то пишет. Войти к нему не решилась. Стыдно стало. – Голос Фирюзы стал глухим: – Полчаса простояла как дура!
Впервые за все дни допроса Фирюза заплакала навзрыд, со стоном. Прокурор терпеливо ждал, когда она успокоится.
Заговорила Фирюза сама. Прерывисто – ей не хватало дыхания.
– Ждала, ждала, пока сзади над моей головой кто-то выстрелил из ружья. Ибрагимов упал.
– Ты же, наверное, оглянулась, посмотрела в ту сторону, откуда выстрелили? – спросил прокурор.
Фирюза кивнула головой.
– И что ты увидела?
– Темно было. Но я разглядела: кто-то спрыгнул с дерева, вбежал в дом. Лица я не заметила, а халат узнала.
– Чей же это был халат?
– Базарбая.
И Фирюза застонала.
* * *
Судила Базарбая Ержанова сессия областного суда. Обвинение поддерживал прокурор из Нукуса. В отличие от Дауленова, который никак не решался утвердить обвинительное заключение, он быстро закончил дело. На суде этот молодой прокурор, весьма уверенный в себе, выступил так, будто не оставалось и тени сомнения в виновности Базарбая. Суд, однако, нашел смягчающие обстоятельства, в частности, то, что Базарбай был ослеплен ревностью. Но остались и неясности. Зачем, например, понадобилось Базарбаю уголовное дело Пиржан-максума, которое вел Ибрагимов?
– Не заходил я в кузницу и никакого дела в руки не брал. Аллах свидетель! – понурив стриженую голову, упорно отвечал Базарбай.
– Товарищи судьи! – воскликнул молодой прокурор. – Обратите внимание, что Ержанов все обвинения старается отвести от себя.
Базарбай действительно на все вопросы отвечал односложно: «Не стрелял. Не убегал. Чем занимался Ибрагимов, не знаю».
Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Было выделено дело Навруза Пиржанова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, но оно, как и дело по обвинению Пиржан-максума, было приостановлено, так как и Пиржан-максум, и его сын Навруз, и дочь Ширин исчезли бесследно.
После того как единственный сын его был осужден, старик Ержан слег. Скончался он ночью. Сел в постели, чего с ним давно не бывало, велел созвать семью и произнес слабым, спокойным голосом:
– Я ухожу от вас. Живите в мире. Да пребудет благословение аллаха над всеми. А вернется из тюрьмы мой сын Базарбай, скажите ему: умер я оттого, что он без вины пострадал.
Старик вздохнул, прикрыл глаза, еще раз повторил:
– Живите в мире...
* * *
Но мира не настало в осиротевшей без мужчин семье Ержан-максума.
– Гадина! Потаскуха! Едва ты переступила наш порог, как на нас обрушились несчастья. Ты, негодная, приволокла их за собой, как змея свой шелудивый хвост! – так ругала Фирюзу свекровь Мохира, жена Ержан-максума, высохшая, пожелтевшая от старости и злости.
Пока был жив старик, она молчала, но теперь дала своей злости волю.
Фирюза и сама чувствовала себя виноватой в том, что произошло с Базарбаем. Лгать она не могла: конь и халат, в котором ускакал человек, выстреливший в Ибрагимова, действительно принадлежали Базарбаю. Она не хотела об этом говорить, а прокурор ее вынудил.
Признайся она сейчас свекрови, что любит Базарбая, та, несомненно, изъязвила бы ее насмешками. И в самом деле: разве отправит любящая жена своего мужа в тюрьму? Ну а если он действительно преступник? Если он убил человека? За что? Из глупой ревности. Фирюза ведь только когда-то еще в школе и виделась издалека с Ибрагимовым. Правда, как-то под вечер (это было уже в то время, когда Ибрагимов стал следователем и приехал в Абат) они встретились у сельмага. Ибрагимов поздоровался. Фирюза ответила зардевшись.
– Подождите минутку! – сказал он и вошел обратно в магазин.
Быстро вернулся и высыпал в карман камзола Фирюзы горсть шоколадных конфет. Она смутилась так, что слезы едва не брызнули из глаз, и убежала.
Женщины, которых всегда полно у сельмага, видели это, и, конечно, молва пошла по всему аулу.
Базарбай был в степи, но когда он вернулся – Фирюза хорошо запомнила это, – свекровь что-то долго шептала ему на ухо. Придя к Фирюзе, Базарбай уже не был ласков с ней так, как всегда после долгой степной отлучки, а молчал, ворочался с боку на бок. Она так и не решилась спросить, что его мучит. Лишь потом он отошел сердцем, но ненадолго, потому что сказал, с трудом произнося слова:
– Говорят, тот... Ибрагимов к нам в аул приехал.
Сердце Фирюзы готово было выпрыгнуть из груди и выдать ее. Она не стала оправдываться. Прижалась к тяжело вздохнувшему Базарбаю и прошептала:
– Я ни о ком знать не хочу. Я тебя люблю.
– Горло перегрызу, сердце вырву и выброшу псам, пусть только кто до тебя дотронуться посмеет!
Он уже засыпал, когда она все-таки решилась спросить:
– Джаным, зачем понадобилось твое ружье Наврузу?
– Волк к ним в усадьбу повадился, – ответил Базарбай. – Если не убить зверя, беды не оберешься.
Она уже не сомневалась в том, что это Ибрагимову грозит беда. И надо его спасать.
Когда Фирюза тихонько поднялась, оставив спящего Базарбая, и, как птица распластав крылья, понеслась в широком платке по пустынным улочкам аула к кузнице, она была уверена, что где-то в темноте уже стоит Навруз с охотничьим ружьем на изготовку.
Все же не всю правду сказала она прокурору. Не полчаса, а гораздо больше провела она, прижавшись к глиняному забору, глядя на Ибрагимова. И не решалась постучать в окно.
Вывел ее из оцепенения выстрел. Фирюза вскрикнула и обернулась. В бледном свете луны она увидела человека в халате из бекасама с очень широкими полосами. Ни у кого в ауле не было другого такого халата, и Фирюза этим гордилась. Ей продала эту ткань подруга-продавщица из турткульского магазина, когда Фирюза собиралась выходить замуж.
Дома Базарбая уже не оказалось. Фирюза не стала спрашивать у родителей, где их сын. Не замечая проклятий, которыми осыпал ее Ержан-максум, она прошла в комнату. Открыла сундук и торопливо перебрала все, что было там сложено. Халат из бекасама исчез.
Фирюза опустилась на пол, уткнулась головой в окованный край сундука и беззвучно зарыдала.
* * *
Боль кольнула сердце. Фирюза, вскрикнув, проснулась. Пора вставать: подоить коров, развести огонь в очаге. Фирюза осторожно притронулась губами к посапывающему младенцу, вышла во двор.
Воздух был по-летнему теплым, хотя на траве лежала обильная роса. Бегом, как в недавней юности, помчалась Фирюза босиком по ласковой траве к ограде, где был сложен хворост. С охапкой в руках возвращалась она к дому, а у арыка, отделявшего двор от сада, ее уже поджидала свекровь.
– Вот так-то! – злорадно произнесла Мохира.
Она стояла, уперев руки в бока. И неожиданно закричала, пронзительно, бесстыдно:
– Люди добрые! Соседи любимые! Идите, гляньте на эту развратницу!
Из ближних домов выбежали заспанные хозяйки. Появились и мужчины.
– Где была, потаскуха! – потрясая жилистым кулаком, наступала на перепуганную Фирюзу старая Мохира. – Горе мне, люди! Мужа своего, сыночка моего родного Базарбая, гадина эта упрятала в тюрьму. Ребеночка своего, внука моего ненаглядного, средь ночи бросила, а сама снова шлялась.
Фирюза, испуганная и растерянная, пыталась сказать, что ей просто захотелось пробежаться по саду за хворостом, но ее слова только пуще разозлили старуху.
– Бессовестная! Зачем тебе понадобился хворост, когда у очага его полно!
В ярости старуха кинулась на Фирюзу, стала рвать на ней волосы, щипать и царапать.
Фирюза не сопротивлялась. Она покорно переносила побои до тех пор, пока старуха не вздернула подол ее платья. На миг перед всеми мелькнули ее голые ноги. Фирюза прижала платье к бедрам, заплакала.
– Оставьте вы ее в покое, бедную, – сказал один из соседей, удерживая за руки Мохиру. Но старуха с неожиданной силой вырвалась и снова кинулась к Фирюзе.
– На этой падшей даже белья нижнего нет! – вопила она. – Вы видите это, люди! О-о, позор моей седой голове! За что она бесчестит меня? – Мохира вновь вцепилась в Фирюзу острыми пальцами. И тут Фирюза не выдержала. Она оттолкнула старуху. Упав на землю, та дико закричала:
– Убила меня, проклятая! Спасайте меня, люди! Спасайте!
Не глядя на Мохиру, гордо вскинув голову, Фирюза прошла в дом и минуту спустя вышла, прижимая к груди ребенка.
– Стой! – старуха резво вскочила. – Не пущу! Остановите ее, – обратилась она к толпе. – Задержите! Она внука моего утопить хочет. Она и его изведет, погубительница!
Не оглянувшись, Фирюза побежала.
Старуха вопила, грозила. Потом стала умолять парней, чтобы Фирюзу задержали. Но никто не тронулся с места.
– Пропадет она, бедная, – вздохнула пожилая женщина, – одна, с ребеночком.
– Не пропадет, – возразил широкоплечий крестьянин. – Куда б ни пошла, все будет лучше, чем у этой ведьмы. Ну, чего стоите! – вдруг закричал он. – Забот своих, что ли, нет?
И все сразу разошлись, оставив Мохиру, лохматую, охрипшую, все еще сыплющую проклятиями.
* * *
Убедившись, что никто за ней не гонится, Фирюза немного успокоилась. Она миновала окраину поселка, поднялась по извилистой тропинке на зеленый холм, с которого был хорошо виден весь Абат.
«Ты красив, родной мой аул! Ты дорог моему наболевшему сердцу! Разве покинула бы я тебя по доброй воле? Каждый кустик, цветок, тропинка – все здесь мое, все мило сердцу. Но нет больше сил, замучила старуха».
Вытерев глаза, Фирюза пошла дальше, поднимая босыми ногами мягкую дорожную пыль.
Навстречу ей ехал всадник. Фирюза закрыла лицо краем платка и хотела пройти мимо. Но всадник – это был секретарь аульного Совета Сайимбетов – легко соскочил с лошади и остановил молодую женщину вопросом:
– Куда это вы в такую рань?
Он будто не замечал, что Фирюза даже не успела косы заплести и теперь прятала свои густые волосы под платок. Темные пряди выбились наружу, отчего щеки Фирюзы казались еще бледней.
Она молчала, не зная, что и как ответить. И длилось бы это молчание, наверное, очень долго, если бы Сайимбетов не сказал решительно:
– Садитесь, соседка, в седло. Умаялись, наверное, с ребенком-то на руках?
– Куда же вы меня повезете? – испуганно спросила Фирюза. – В аул я не вернусь. Ни за что на свете. Мохира еще пуще опозорит, убьет.
– Да успокойтесь вы, соседка! – сказал Сайимбетов. – Вы думаете, что на свекровь вашу управы не найдется? Никто еще не отменил Советскую власть. И в нашем ауле эта власть в силе.
– А где я жить буду? – спросила она тихо.
– Пока у моей тети, – ответил Сайимбетов. – Не беспокойтесь, сплетницам я рты закрыть сумею. Да и моя жена тоже не из робких. А тетю мою вы, конечно, знаете: она учительница.
Сайимбетов бережно подсадил Фирюзу в седло и подал ей младенца. Фирюза еще раз всхлипнула, но половина горя уже улетела прочь.
Сайимбетов вел коня в поводу, и так прошли они мимо усадьбы Ержан-максума. Фирюза дрожала, как верба под ветром. Калитка дома была заперта. Старуха, очевидно, умаялась и легла.
Сайимбетов остановился у небольшого, выбеленного дома.
– Тетушка! – позвал он с улицы. – Принимайте гостей.
– Входите! – послышался приветливый голос.
В скромно прибранной комнате сидела седоволосая женщина. Перед ней лежала стопка ученических тетрадок, стояла чернильница.
– Здравствуй, джаным! Здравствуйте, милая! – произнесла старая учительница Лутфи-ханум, поднимаясь навстречу. – Проходите, дорогие гости, присаживайтесь, – приглашала она, словно не было странным, что Фирюза явилась к ней в такой ранний час с младенцем на руках – босая, простоволосая.
Мальчик заворочался, громко заплакал.
– Перепеленать его надо, – смущенно сказала Фирюза.
– И покормить, наверное, – продолжила тетушка Лутфи и взглянула на Сайимбетова.
Он понял ее и поспешно вышел вместе с ней. Пока Фирюза возилась с младенцем, он успел все рассказать Лутфи-ханум, обо всем с ней договориться.
Вечером, когда Сайимбетов зашел проведать Фирюзу, он нашел ее в небольшой комнатке, где уже стояла люлька для Мексета, была постелена кошма, а на ней одеяла и подушки; на столике стоял чайник, блюдечко с сахаром, миска с молоком, лепешки. Фирюза встретила Сайимбетова глазами, полными благодарности.
– Какие хорошие люди есть у нас в ауле! – сказала она.
– Не только у нас – всюду! – убежденно возразил Сайимбетов.
– А если меня здесь найдут? – голос Фирюзы дрогнул.
– Кто найдет?
– Мало ли у меня теперь врагов, а у старухи Мохиры – друзей. Она кого угодно подговорит против меня. Кто меня защитит здесь?
– Возьмите-ка ребенка, и выйдем со мной на минутку, – сказал Сайимбетов.
На улице было еще светло. На западе висела розовая полоса заката, и свет его падал на притихшие улицы.
– Андрей! – позвал Сайимбетов.
– Здесь я.
Из калитки вышел рыжеволосый человек лет тридцати с открытым, спокойным лицом.
– Познакомьтесь, – сказал Сайимбетов. – Наш агроном Андрей Синцов. А это, Андрей, твоя соседка, Фирюза. Она о себе сама все расскажет. Беседуйте!
– Мальчик у вас? – спросил Андрей.
Фирюза кивнула.
– Ходит?
Он говорил на ломаном каракалпакском языке, но Фирюза понимала его, хотя ей становилось смешно от того, как он произносит совсем простые слова. И вопрос его был нарочито наивен.
– Ему и двух месяцев нет, – ответила она.
Андрей был, видимо, с веселой хитринкой.
– А говорить ваш парень умеет? – снова спросил он.
Фирюза улыбнулась.
– Вот теперь хорошо, – сказал Андрей и поиграл пальцами перед личиком младенца. – Ну, отвечай, как тебя зовут?
– Мексет, – уже весело ответила Фирюза.
Черными бусинками-глазами мальчик, не отрываясь, смотрел на Андрея.
– Выше нос, Мексет!
Андрей дотронулся пальцем до крошечного носика ребенка. Фирюза сразу почувствовала себя с этим русским парнем легко и просто.
– Я здесь обосновался рядом. – Андрей кивком указал на дом, в котором снимал квартиру. – Если что нужно будет, позовите.
– Спасибо, – ответила Фирюза. – У меня все в порядке. Соседи, дай бог им здоровья, принесли люльку, молоко. Постель Лутфи-ханум дала. Вот только лампы у меня нет. Вдруг ночью свет понадобится.
Андрей ушел к себе и вернулся с керосиновой лампой в руках.
– Пятилинейная, только стекло чуть отбито, – сказал он.
– Ой, что вы! – воскликнула Фирюза. – Мне лишь бы чуточку света!
Взяв лампу, она еще раз поблагодарила Андрея.
Минула неделя, Фирюза почти успокоилась. Лутфи-ханум относилась к ней как к родной дочери. И Фирюза, стремясь отплатить добром, вела все нехитрое хозяйство старушки. С Андреем она почти не виделась: он уезжал на рассвете на поля, а возвращался поздним вечером. Как-то, сидя верхом на лошади, увидел через ограду Фирюзу и весело спросил:
– Как живем, сестренка? Наверное, Мексета в школу уже собираешь?
Фирюзе опять стало весело от его голоса...
Ночью кто-то, просунув в щель лезвие ножа, отбросил крючок и открыл дверь. Фирюза вскочила, схватила Мексета, прижала его к груди и замерла – ни жива, ни мертва. В темноте слышалось чье-то тяжелое дыхание.
– Кто? – едва слышно произнесла Фирюза.
Страх ее вдруг прорвался надрывным криком:
– Андрей-ага! Андрей-ага, помогите!
– Умолкни! – злобно велел вошедший. – Я Айтмурат. Докатилась до того, развратная, что родственников уже не узнаешь! Брат тебе не нужен! Тебе рыжего агронома подавай!
– Брат? Это ты? – у Фирюзы отлегло от сердца. – Зачем пугаешь среди ночи?
Айтмурат ответил с гневом:
– Я пришел, чтобы зарезать тебя! Довольно позорить наш род! Сперва к Базарбаю сбежала, потом к следователю по ночам шлялась. Теперь начала путаться с каждым встречным! И покровителя нашла: Сайимбетова, сына плешивого Сабира. А знаешь ли ты, что Пиржан-максум весь род Сабиров проклял? Они нашу веру осквернили. Нас теперь мулла-ишан тоже проклянет. И все из-за тебя, презренная.
– Брат! Милый брат! Я ни в чем не виновата. Ребенком своим клянусь!
– Не ври. Почтенная Мохира-ханум, спасибо ей, глаза мне на все открыла.
– Старуха лжет! Она меня со свету сжить хочет.
Но Айтмурат уже ничего не слышал, ничего не хотел понимать. Мелькнул топор. Страшно, словно почувствовав, что матери грозит опасность, закричал Мексет.
– Андрей-ага! – вновь закричала Фирюза. Она отскочила, забилась в угол.
– Где ты, шлюха?
Он слышал крик Мексета и шел на его голос.
– Ребенка не тронь!
– Стой, бандит! Стрелять буду!
Едва успев накинуть на себя пиджак, Андрей босой стоял у двери, следя стволом берданки за едва различимым в темноте человеком.
– А-а! Ты, оказывается, уже сам здесь, шакал!
Айтмурат кинулся к Андрею, взмахнул топором. Андрей успел уклониться, и удар пришелся ему в левое плечо. Ружье выпало. Андрей, превозмогая боль, все же опрокинул Айтмурата, обхватил его толстую шею и ударил головой о стену.
Кровь текла по руке Андрея. Он ослаб. Воспользовавшись этим, Айтмурат сбросил его с себя, поднялся и занес ногу, чтобы ударить сапогом в лицо Андрея.
Раздался выстрел. Айтмурат невольно присел, услышав свист пули над головой.
– Уходи! Не то я убью тебя, – послышался голос Фирюзы.
В нем была такая решимость, что Айтмурат не посмел усомниться.
– Ты что, сестренка, – бормотал он, пятясь к двери, – с ума сошла?
– Стой! – приказала Фирюза. – Никуда не уйдешь. Убью!
Айтмурат упал на колени. Теперь, услышав стон раненого Андрея, он, кажется, осознал, что сотворил непоправимое.
– Прости меня, Фирюза! Прости. Я ведь брат тебе!
Айтмурат попытался подползти к Фирюзе, но она снова прикрикнула:
– Застрелю!
Вбежали дехкане, которых позвала Лутфи-ханум. Зажгли свет. Увидели окровавленного Андрея и все поняли. Лутфи-ханум бросилась перевязывать агронома. Быстро запрягли лошадь, чтобы отвезти раненого в больницу.
Айтмурат, ползая на животе, боялся поднять глаза на разгневанных сельчан.
– Я хотел ее напугать, только напугать. Прости меня, сестренка! Прости, брат Андрей! Я сгоряча ударил тебя. Не знаю, как это и случилось... Люди добрые, простите меня и отпустите. Меня же в тюрьму посадят! В тюрьму!..
Фирюзе было больно смотреть на этого жалкого человека, который до сегодняшней ночи назывался ее братом.
Встала заря – свежая, радостная. А навстречу ей по пыльной дороге, которая вела из Абата, шагал человек со связанными руками. Сзади на коне ехал сельский милиционер.
* * *
Девять лет спустя в Тегеране к представителю Советской военной администрации явился человек в поношенной, но тщательно выстиранной одежде. На вид ему можно было дать все пятьдесят, но, как выяснилось из беседы, человеку было всего около тридцати лет. Он назвался Наврузом Пиржановым, выходцем из аула Абат, расположенного в Советской Каракалпакии. Не скрывал, что бежал из Советского Союза. Просьба Навруза Пиржанова состояла в том, чтобы ему разрешили воевать с фашистами.
Советский полковник внимательно выслушал посетителя. Он напомнил Наврузу Пиржанову, что тот считается преступником и, если вернется, будет судим по всей строгости советских законов.
– Я знаю, – сказал Навруз.
Он помассировал усталое лицо длинными костлявыми пальцами и добавил тихо:
– Позвольте мне умереть за Родину. Этим я искуплю свою вину. Я вам все расскажу...
– Я не уполномочен вести следствие ни по вашему, ни по какому другому делу, – мягко объяснил офицер.
Он видел, что человек, сидевший перед ним, очевидно, немало настрадался, что его гложет тоска по Родине, гнетет чувство вины перед ней – общее для многих перебежчиков и отщепенцев. Рано или поздно они приходят к раскаянию. Но здесь – полковник понял это – было еще и что-то глубоко личное, оно-то и мучило человека с печальными глазами, требовало высказаться.
– Обратитесь в посольство, – посоветовал полковник.
Навруз Пиржанов кивнул седой головой:
– Я бы сразу пошел туда. Но я подумал, может быть, вы отправите меня на фронт? – Он поднял темные глаза, в которых была мольба. – Мне же ничего больше не надо, только винтовку. Чтобы я мог, прежде чем погибнуть, убить хотя бы нескольких врагов.
Полковник встал, осторожно положил руку на плечо Навруза. Человек вздрогнул от этого прикосновения.
– Умереть за Родину – честь, – строго сказал полковник. – Этого достоин тот, кто верен своему народу.
Навруз сник.
– Вы правы, – произнес он убито. Поднялся, пошел к порогу, но в последний момент остановился. Вернулся, вытащил дрожащей рукой из-за пазухи толстую потрепанную тетрадь и торопливым движением положил ее на стол.
– Вот, прочитайте, – сказал он, не дав полковнику возразить. – Здесь все написано. Я хочу, чтобы об этом узнали там.
Навруз показал глазами на север. Он не решился произнести ни «дома» ни «на Родине». Вновь опережая полковника, он попросил:
– Вы только прочитайте!
...Полковник полистал тетрадь, убористо исписанную арабскими буквами. Попытался разобрать текст, но не смог. Потом вызвал адъютанта:
– Пригласите и майора Дауленова из прокуратуры.
Вошел Дауленов. Он расправил перед начальством плечи, но смуглое лицо его было усталым, под глазами лежали темные круги.
– Вот ознакомьтесь, – полковник протянул ему тетрадь. – Написано, очевидно, на вашем родном языке. Писал ваш земляк... – Он с трудом прочитал на обложке имя: – Навруз Пиржанов.
– Как, как? – переспросил майор Дауленов. На его высоком лбу собрались морщины. – Постойте! – произнес он дрогнувшим голосом. – Неужто это тот самый Навруз, сын Пиржан-максума? – Он взял тетрадь и пошел к двери.
Дауленов освободился от служебных дел лишь к вечеру. Минуту-другую смотрел на тетрадь, мятую, потрепанную. Потом открыл, начал читать и не сомкнул глаз до утра.
* * *
«Край мой родной, любимый! Дорогие сердцу места, где я увидел свет. Седовласые матери, отцы седобородые! Сверстники, друзья мои! Друзья ли? Вправе ли я называть вас так теперь, когда на сердце – тяжесть, а на душе – сорок смертных грехов?
И все же, опасаясь взглянуть в ваши чистые глаза, я обращаюсь к вам, говорю с вами! И всякий раз буду говорить, когда тоска станет невыносима. А такое случается часто.
Бог знает, может, вы считаете нас всех давно умершими? Благо бы так! Я и сам предпочел бы умереть девять лет назад, чем пережить все, что выпало за эти годы на мою долю, на долю моей несчастной сестры Ширин.
А теперь слушайте по порядку. Рассказывать буду о самом главном. Чтобы передать все, что было, о чем передумал, из-за чего страдал, не хватит дней.
Родился я с любовью к странствиям. Даже посещение ближнего, дотоле незнакомого мне аула было для меня большой радостью. И когда отец однажды вечером сказал: «Собирайся, сын мой, отправляемся в далекое путешествие, увидим новые места, совершим паломничество в Мекку и Медину», – я не подумал ни о чем другом, кроме ожидающего меня счастья. Я только спросил, почему отправляемся мы на ночь глядя. «Так надо», – ответил отец. Лицо его окаменело, а я знал, что расспрашивать его, когда он становится таким, бессмысленно.
Мне шел двадцатый год. Я был уже взрослым человеком, но под взглядом отца цепенел. Отец в моих глазах был святым, хотя я и учился в советской школе, где благодаря учителям многое начал понимать и во многом, что проповедовал отец, усомнился. Но вера в аллаха и вера в отца были еще незыблемы во мне. Потому я и не задал отцу другой, более важный вопрос: есть ли у него документы на выезд из Советского Союза? Отец был сильным, всезнающим. Куда проще было, не раздумывая, положиться на него. Я и не стал мучиться сомнениями, а разбудил успевшую уснуть сестренку свою да уложил в мешок самые необходимые вещи.
Маленькая Ширин (ей тогда едва исполнилось двенадцать лет) терла кулаками глаза и всхлипывала. Отец прикрикнул, и девочка умолкла. Серые глаза отца стали узкими. Так бывало всегда, когда он принимал важное решение. Скажет и от своего уже не отступится. Мне это также было хорошо известно.
– Сын мой, – сказал отец. – Отправляйся к тетушке нашей, почтенной Мохире-ханум. Попроси у нее новый халат и галоши брата твоего Базарбая. Только так, чтобы, кроме нее, никто об этом не знал.
– Зачем? – вырвалось у меня.
– Мне надо, – тихо произнес отец.
И я покорно вышел.
Густые тучи (даже в сумерках их было видно) висели над нашим аулом. Я вошел во двор к дядюшке Ержану никем не замеченный. Больше всего не хотелось мне попадаться на глаза Фирюзе. Сколько чернил извел я на письма к ней! Сколько стихов сочинил о ней. Гибкой, как лоза, быстрой, словно взгляд. Что теперь скрывать это? Любил я ее, люблю и поныне. Только досталась она не мне, а брату моему – Базарбаю. И день, когда это случилось, был первым воистину черным днем в моей жизни. Не будь этой несправедливости, был бы я счастлив. Так думал я в день свадьбы, хотя и сидел вместе со всеми юношами на отведенном для нас месте, даже песню исполнил в честь молодых... Так вот. Отец мог бы и не предупреждать меня: я и сам все сделал так, чтоб Фирюза меня не увидела. А дядюшка Ержан-максум болел и не поднимался с постели. Поэтому, когда навстречу мне вышла женщина, я смело пошел к ней. Оглянулся все же, прежде чем сказать ей первое слово, но тетушка сама потащила меня под навес, где стояла корова.
– Раз святой человек велел, значит, для святого дела, – заключила Мохира-ханум.
Она ушла в дом и вернулась с халатом и галошами.
– Бери, носи на здоровье, – сказала она, – нашему ублюдку все равно эта одежда ни к чему. Бродить по степи за овцами можно в любом рванье.
Я знал, что Мохира-ханум не любит Базарбая. Он был сыном младшей жены Ержан-максума, умершей от родов. Может, со зла, но люди говорили, будто это она и погубила мать Базарбая, завидуя ей. Мохира-ханум и Базарбая, наверное, извела бы, когда он остался у нее на руках, только дядюшка Ержан сказал ей (об этом тоже все знали), что день смерти сына будет последним днем жизни и Мохиры-ханум. А ей было известно, как крепко держат слово оба максума: отец мой и дядюшка. Потому-то Мохира-ханум, хотя и ненавидела Базарбая, а берегла его пуще своего ока. В классе нашем он всегда был самым чистым и самым сытым.
И все же, когда Мохира-ханум, отдавая мне вещи Базарбая, назвала его ублюдком, меня покоробило. Раздумывать, впрочем, было некогда: каждую минуту во дворе могла появиться Фирюза. Я поблагодарил и убежал.
У нашего дома стояли две оседланные лошади. Накануне, в базарный день, отец выменял их у заезжего цыгана на двух коров и дюжину овец. Цыган угнал стадо, очень довольный сделкой. Отец тоже был доволен. Сейчас эти кони были оседланы и нетерпеливо топтались.
– Взял? – коротко спросил отец. Я подал ему халат и галоши. Он поспешно затолкал их в хурджун, подхватил на руки Ширин, посадил ее впереди себя. И мы поехали осторожной рысцой.
Я потом уже понял, как хитро выбрал отец час нашего отъезда. Темень, дождь, который к утру смыл следы коней. И конечно, ни один человек не мог нам попасться навстречу.
Так мы подъехали к степной мечети, промокшие до нитки, но никем не замеченные. Мечеть была небольшая. Двор, огороженный глиняным забором, над которым чуть возвышался глиняный минарет. В пристройке жил старик с узкой, как лезвие сабли, бородой. Он принял нас хорошо: накормил, уложил в постель.
Мы прожили в мечети неделю, а может, и больше. Я не считал дни. Валялся на одеялах, писал стихи. Целую тетрадь исписал. Как-то отец застал меня за этим занятием, и серые глаза его снова сузились. Но он тут же улыбнулся, что-то написал на листке старым карандашом, который хранился у него в кармане вместе с крохотным Кораном, и протянул мне бумажку.
– Попробуй, сын мой, перевести вот эти стихи, – сказал отец. – Они написаны на фарси. Разберешь?
Я кивнул головой. Это была газель из пяти двустиший. Ничего интересного я в ней не нашел. В последнем двустишии имя неведомого мне персидского поэта не упоминалось[9] 9
Псевдоним автора должен быть по законам восточного стихосложения обязательно упомянут в заключительном двустишии газели.
[Закрыть]. Я начал набрасывать первые строки по-каракалпакски. Перевод получился быстро.
– Дай взгляну, – попросил отец.
– Это не заслуживает вашего внимания, – сказал я.
Но он быстро прочел написанное мною и даже головой удовлетворенно кивнул. Никогда отец не одобрял мои стихотворные упражнения, и потому я удивился и даже покраснел от гордости, хотя стихи были не так уж хороши, я понимал это. Отцу же они понравились. Он бережно спрятал листок в тот же карман, где хранилась священная книга, и вышел. Не появлялся он два дня.
Приехал отец утром в пятницу... Слез усталый с коня, бросил мне поводья и сказал:
– В степи я был. Брата твоего там встретил, Базарбая. На его отару набрел случайно.
Я вздрогнул, услышав имя брата: почувствовал, что отец затевает что-то, но, как всегда не открывает мне свои намерения.
– Поговорили немного, – продолжал отец. – Базарбай в субботу в аул собирается. Я с ним привет всей родне передал. Сказал, что мы все живем в степи, у табиба[10] 10
Табиб – знахарь.
[Закрыть]. Чесотка, говорю, нас замучила. Две недели лечиться будем.
Я молчал. Отец вдруг отвел глаза, чего с ним прежде не бывало.
– Вот незадача! – воскликнул он. – Подъезжал к нашей мечети, гляжу: на холме волки. Целая стая. Конь шарахнулся и понес. Видишь, весь в мыле. Да и я страху натерпелся.
Подошел старик служка, затряс узкой бородой.
– Покоя нет от окаянных зверюг, – сказал он дребезжащим голосом евнуха. – Пугнуть бы немного. А у меня и ружья-то нет. И было бы, так руки уже не удержат – стары.
Отец немного подумал.
– Вот что, сын мой, – сказал он. – Поезжай в Абат. В аул не заходи. Жди на выгоне, у дороги, пока не появится Базарбай. Он под вечер приедет. Останови его и попроси ружье. Скажи, волков припугнуть хотим.