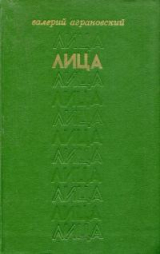
Текст книги "Лица"
Автор книги: Валерий Аграновский
Жанр:
Периодические издания
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
А н д р е й. Липа. Случайным знакомым таких предложений не делают.
П с и х о л о г. Ты прав. Но это были не совсем случайные, потому что все они жили в одном дворе, но Толик прежде не был так близок с ребятами. А тут они предложили «дело», сказав Толику, что все продумали до мелочей: чем взламывать двери, что брать в магазине и как аккуратно уйти, не оставив следов.
А н д р е й. Значит, с гарантией.
П с и х о л о г. Вот именно. И Толик стал взвешивать. Идти или не идти?
А н д р е й. Так ведь с гарантией!
П с и х о л о г. С одной стороны. А с другой – столько случайностей! Короче говоря, после некоторых колебаний он согласился, и они пошли.
А н д р е й. Засыпались, что ли?
П с и х о л о г. Не торопись. Ты лучше подумай о том, легко ли было Толику решаться на преступление?
А н д р е й. Если первый раз, то, конечно, страшно.
П с и х о л о г. А кроме страха, какие чувства он мог испытывать?
А н д р е й. Да никаких. Потом вернется домой, ляжет спать, вспомнит, как все было, и снова – страшно.
П с и х о л о г. Неужели у нашего Толика ни сожаления не будет, ни переживаний, ни раскаяния?
А н д р е й. Если бы засыпались, тогда конечно. А если все в порядке, то какие тут переживания?
АРЕСТ. После дерзкого ограбления магазина компания на радостях устроила попойку. Пили ночь, пили день, потом еще ночь и утро, дело происходило на квартире, из которой временно уехали хозяева, знакомые Бонифация, оставив ему ключи. Возмущенные соседи по лестничной клетке позвонили в милицию. Там что-то заподозрили, взяли машину и отправили наряд. И все, начиная с Бонифация и кончая Скобой, «тепленькими» оказались в отделении. Очень глупо у них получилось, начальник райотдела даже сказал Бонифацию: «Бондарев, а ты-то что здесь делаешь?»
Андрей в пьянке не участвовал. Он был дома, кроме него – бабушка, и когда раздался звонок в дверь, безмятежно пошел ее открывать. По привычке он посмотрел в глазок и заметил «двоих в штатском». Тогда он на цыпочках вернулся в комнату, прошептал бабушке: «Скажи, что меня нет дома», а сам пробрался на балкон. Там он лег, чтобы никто не увидел его снизу, и стал ждать. Ему было слышно, как бабушка открыла дверь, как вошли люди, как сказала им баба Аня, что внука нет дома, и спросила, не из школы ли они, и один из вошедших ответил: нет, не из школы, пусть передаст Андрею, когда вернется, чтобы сразу шел в детскую комнату к Олегу Павловичу Шурову. «Э! – подумал про себя Андрей. – Сразу бы так и сказали!» Они ушли, и он с легким сердцем направился в милицию. В кабинете у Олега Павловича, в обстановке спокойной и деловой, Андрей был допрошен, а затем ему предъявили ордер на арест.
Вопрос «кто кого?», подспудно стоящий чуть ли не с самого рождения Андрея Малахова, получил завершение. В известном смысле мы можем сказать, что превращение Андрея в преступника означает, что именно он одержал «победу» над своими родителями, детсадовскими педагогами, школьными учителями и всеми, кто хотел и пытался сделать из него человека. Я беру слово «победа» в кавычки, чтобы остановить внимание читателя на коварном содержании этого понятия: победив, Малахов, разумеется, жестоко проиграл, сделав хуже самому себе, а уж потом, во вторую очередь – обществу. Его арест явился кульминационной точкой этой пирровой победы: отныне мы можем считать процесс воспитания снятым с повестки дня, уступившим место новому этапу в жизни нашего героя, связанному с перевоспитанием.
УТОПИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ. Кто виноват? – вопрос не может не волновать читателя, но при ответе на него следует учитывать некоторые важные обстоятельства. Прежде всего, определяя чью-то конкретную вину, мы должны понимать, что одно дело, когда Бонифаций-Бондарев несет прямую ответственность по статье Уголовного кодекса за подстрекательство несовершеннолетнего к преступлениям, а другое дело, когда, положим, родители Андрея, субъективно не желая сыну вреда, объективно толкали его на преступный путь. У них не было злого умысла, как не было его у школьных учителей Андрея, у работников милиции, у соседей по дому, у воспитательниц детского сада, – короче говоря, у всех, кто так или иначе соприкасался с нашим героем на разных этапах его жизни. Мы ничего не добьемся, если начнем бездумно выносить налево и направо обвинительные приговоры, не разобравшись в сути явления.
А суть его, по-видимому, в том, что есть более серьезные причины, которые привели Андрея, пусть даже не без помощи иных из перечисленных выше лиц, к печальному финалу. Если взять тех же родителей Малахова, нельзя не признать, что вина их «многоэтажна» – в том смысле, что не сами они сделались «такими», а что-то их «такими» сделало. Среди многих причин, я полагаю, – война, эхо которой мы будем слышать еще очень долго; быть может, именно она помешала Малаховым получить культуру, необходимую для воспитания сына, поломала их судьбы и характеры, а Андрей всего лишь пожинал горькие плоды случившегося.
Мы должны помнить, кроме того, о демографии, которой объясняют многие парадоксы современного общества, взлеты и падения отдельных групп молодежи, сужение или расширение границ преступности.
Мы обязаны учитывать и такое явление, как акселерация, неизвестно откуда взявшееся и неизвестно, надолго ли. Но тот факт, что физический обгон интеллектуального развития таит в себе опасность, бесспорен.
Наконец, мы должны отдавать себе отчет в том, что существуют и действуют издержки научно-технической революции, о чем я однажды уже говорил.
Значит ли, что перечисленные выше причины неподвластны человеческой воле, не поддаются регулированию и реальному учету? Нет, конечно! Но наша истинная вина перед Андреем Малаховым может возникнуть там, где мы не пожелаем придавать этим причинам значения, не захотим разобраться в механизме их действия и откажемся на них влиять.
Человеку свойственно иногда задумываться, что было бы, «если бы». Я тоже не могу удержать себя от соблазна еще раз пройти через «горячие точки» судьбы Андрея Малахова. Что было бы, если бы его отец одиннадцать лет назад не поленился и сделал злополучную лопатку, избавив своего ребенка от необходимости красть чужую? На какие сотые или даже тысячные доли градуса выпрямилась бы тогда жизнь мальчишки, в какие величины это превратилось бы сегодня? Ну хорошо, пускай отец не сделал лопатку, но если бы кража сразу вскрылась и повлекла за собой неотвратимое наказание, что стало бы сегодня с Андреем? Каким был бы парень, если бы кто-то из родителей пожертвовал дипломом о высшем образовании? Если бы однажды ребенка направили на лечение к логопеду, чтобы избавить от роковой шепелявости? Если бы Евдокия Федоровна оказалась не «такой», а чуть-чуть «другой»? И если бы Олег Павлович Шуров в тот первый день знакомства с Малаховым докопался до его черной шапки с длинным козырьком? И если бы Бондарева-Бонифация разоблачили раньше, чем он взял «шефство» над Андреем? И члены комиссии по делам несовершеннолетних потратили бы на Малахова не двадцать минут, а час двадцать? Что было бы, «если бы»?
Я понимаю: читатель скажет, что это утопия, и будет прав. Однако утопия позволяет сделать вывод: если от конкретных лиц зависит судьба конкретного ребенка, значит, Андрея Малахова, которого кто-то угробил, мог кто-то и спасти. Разумеется, при одном непременном условии: при добровольном согласии на спасение самого «утопающего».
Да, с какой бы скрупулезностью мы ни делили сейчас ответственность взрослых за печальную судьбу Андрея Малахова, в каких бы долях ни перекладывали вину с одних плеч на другие, одна доля – и, подчеркну, немалая! – должна остаться неприкосновенной: та, которая принадлежит самому Андрею. В конце концов, мы знаем множество случаев, когда и в более трудных семьях, при более поверхностном вмешательстве лиц и организаций, при более трагическом переплетении и совпадении неблагоприятных обстоятельств все же воспитывались дети, даже не помышляющие о преступлениях. Потому что личностные качества юноши могут и погубить его, и уберечь от погибели. Потому что юношу воспитывает прежде всего его собственная воспитанность и невоспитанность, давая «инерцию движения» на все периоды жизни.
В науке имеется несколько концепций, пытающихся объяснить природу человеческих поступков и ответственности за них перед обществом. Одна группа ученых, концентрируя свое внимание на внутренних, физиологических «пусковых механизмах» поведения людей, совершенно игнорирует социальные и моральные факторы и не верит в возможность с их помощью регулировать человеческое поведение. Другие ученые, наоборот, полностью игнорируют внутреннюю обусловленность поведения, полагая, что человек – «продукт» обучения, воспитания и внешних условий своего существования и в этом качестве он не может нести ответственности за содеянное. Кто же тогда должен нести? Те, кто его обучил, воспитал и окружил условиями существования!
Но обе эти концепции, полагают ученые, позиция которых кажется мне предпочтительней, – ложны. Несмотря на явную противоречивость, они строятся на едином фундаменте – исходят из сохранения, стабилизации человека и всех присущих ему качеств и свойств: мол, благородный и сдержанный индивидуум всегда будет сдержанным и благородным, а человек с негативными качествами обречен иметь их всю жизнь.
Но это далеко не так. Для человека более актуален принцип развития, совершенствования, усложнения. В качестве объективного критерия нравственных и культурных ценностей цивилизации марксизм рассматривает именно содействие развитию личности. Стало быть, какими бы внутренними «пусковыми механизмами» ни обусловливался поступок человека, сам он продолжает совершенствоваться, изменяться, саморазвиваться. Эта возможность и необходимость саморазвития и лежит в основе его ответственности за свои поступки.
Судьба Андрея Малахова – классическое тому подтверждение. Постоянно изменяясь и усложняясь, испытывая разной силы напор изнутри и разной силы влияние на себя извне, Андрей множество раз имел возможность притормозить одни свои качества и свойства, чтобы дать ход другим. Он, право же, мог остановить сам себя, а мог и ускорить бег в пропасть. Факт саморазвития уже давал ему несколько направлений, – к сожалению, он двигался только в одном, ни разу не попытавшись его изменить. Ни разговоры с Андреем, ни его собственные обещания, ни угрозы в его адрес, ни ощущение тягостности от той жизни, которую он вел и которая его засасывала, ни даже перспектива сесть на скамью подсудимых – ничто не действовало! У людей, его окружающих, и в первую очередь у родителей, в какой-то момент возникло ощущение полного бессилия. Зинаида Ильинична раньше других почувствовала неудержимость падения сына, но у нее еще была последняя надежда, она говорила мне о ней, – надежда как-нибудь дотянуть Андрея до армии. Это была, казалось, единственная реальность, способная магическим образом вернуть сына к нормальным поступкам.
Увы, нашему герою не суждено было дождаться призыва. Андрей Малахов, как человек, уже промочивший ноги, махнул на себя рукой и безжалостно зашагал по самым глубоким лужам.
Он хотел получить такой финал, и он его получил.
ЭПИЛОГ
Я много раз был у Андрея в колонии. Когда я приехал туда впервые, был май, а в мае, как поется в одной песне, «в небе много ярких звезд, а на воле – алых роз». На звезды я не смотрел, поскольку все мое внимание сосредоточилось на том, чем богата была грешная земля. Я увидел высокий забор, в пять рядов опутанный колючей проволокой, увидел вышки с прожекторами, молчаливые колонны мальчишек в синих одеждах, койки в два этажа, баскетбольные и хоккейные площадки на территории «зоны», дежурных с красными повязками, телевизоры в отделениях, посыпанные желтым песком дорожки… Нет, я не хочу никого пугать и не хочу никого обнадеживать, расскажу всего лишь об одной детали, которая даст возможность читателю почувствовать колонию так, как почувствовал ее я.
Эта деталь – сирена. Ее давали семь раз в день, начиная с подъема в шесть утра и кончая отбоем в десять. Начиная с низкого, но уже немирного тона, она быстро набирала высоту и достигала жуткой пронзительности, звучащей, если по часам, полную минуту. Сирена случайно записалась на мой маленький диктофон, которым я иногда пользовался, разговаривая с колонистами в комнате психолога, но я, наверное, ошибаюсь, говоря «случайно», потому что она была такая, что, кажется, была способна записаться даже на выключенный аппарат. И вот теперь, когда я работаю за письменным столом в своей квартире и мне почему-то не работается, я, достаю диктофон и включаю его, чтобы еще раз услышать вой сирены. Он тревожит не только мой слух, но и душу. С какой-то особой ясностью я начинаю видеть колонистскую жизнь нескольких сот мальчишек в возрасте от четырнадцати до восемнадцати, каждый из которых приговорен вовсе не к энному количеству лет, а к тому, чтобы все эти годы по семь раз в день слушать вой сирены.
И это мое восприятие смысла наказания не умом, а барабанными перепонками, магически возвращает меня к письменному столу, заставляя ощущать не просто обязанность, не просто долг, а физическую потребность что-то немедленно предпринять, до чего-то непременно докопаться, что-то такое найти, что нужно с корнем вырвать из нашей жизни и гарантировать тем самым детям возможность просыпаться каждое утро от будильников, от пионерских горнов, от петушиных криков, от добрых и ласковых материнских уговоров, от комариных укусов, от грома небесного – от чего угодно, но только не от воя сирены.
1974—1975 гг.
«БЕЛАЯ ЛИЛИЯ»
Документальная повесть

РАСКОПКИ
В пятницу, 30 сентября 1977 года, специальным приказом по «РВС» меня зачислили в экспедиционный отряд, и я получил, таким образом, возможность выехать на линию Миус-фронт, в районе села Мариновка Донецкой области. В отряде было четырнадцать человек, а пятнадцатого дал горком комсомола, решив, что для связи необходим мотоциклист; он догнал нас на «чизетте» уже в Мариновке. Дело рассчитали на трое суток, потому что в понедельник члены отряда должны были вновь сесть за парты. Мы явно нарушали учебный процесс, но это обстоятельство начальник штаба Ващенко обосновала в приказе так:
«В связи с тем, что летние раскопки 1977 года не дали положительных результатов и учитывая просьбу газеты «Комсомольская правда», Центральный штаб «РВС» постановляет: продолжить операцию «Белая лилия» в осенний период».
Просьбой газеты они, конечно, откровенно воспользовались: им тоже не терпелось, и у них чесались руки. Впрочем, руки тут ни при чем. Когда Ващенко объявила о раскопках, ребята не кричали, не бесновались, а просто встали со своих мест и молча – я понимаю так, что сердцем – выслушали сообщение.
Казалось бы: начальник штаба, мотоциклист, «РВС», операция «Белая лилия» – игра, искусственно романтизированная. Однако у меня от этой «игры» до сих пор душа болит, хотя я давно не ребенок.
Итак, маршрутный лист был готов. Военрук уже выдал саперные лопаты, мне досталась наточенная, как для бритья, черт бы ее побрал.
В классе, в котором мы собирались, было шумно и холодно: что-то случилось с котельной, печь перекладывали, и школа еще не отапливалась. Ващенко, от всего отрешенная, сидела за столом, сочиняя первую запись в дневнике. Она была, как и все эрвээсы, в форме с погонами, при галстуке, в шинели, накинутой на плечи. Пришел директор Карпович и, смутившись, положил перед нею отпечатанный на машинке текст. Ващенко мельком глянула, улыбнулась, поставила подпись, и Карпович тихо сказал: «Ну вот, с формальностями покончено». Позже мне стало известно, что это был документ, возлагавший на Ващенко персональную ответственность за наши жизни. Было восемь утра, кто-то крикнул: «Валентина Ивановна, автобус!», и Ващенко скомандовала: «Сели!» Мы тут же подчинились, замерли и несколько секунд смотрели мимо друг друга. Она встала первая, и с этого момента все мои мысли, опережая события, помчались туда, где лежал в земле самолет, а в самолете – мы в этом не сомневались – останки знаменитой летчицы Лили Литвяк. Мои мысли ушли вперед, и всю дорогу до Мариновки – а это пятьдесят километров – я думал о том мгновении, когда наши лопаты снимут первый слой земли, и мы увидим… Я не знал, что мы увидим, мне было даже страшно предполагать, но мое сознание приковалось к этому желанному и совершенно непереносимому в воображении мигу.
Ребята пели в автобусе песни. Одна была собственного сочинения, потом мне записали ее слова:
«Когда расцветают яблони в саду у Большого театра, приходят к ним на свидание военной поры девчата. А кто не пришел на свидание, тем в памяти жить навечно. Цветите, цветите, яблони, девчата спешат на встречу».
Я слушал, механически воспринимая только мотив и задушевность исполнения, но позже мне дано было остро осознать смысл этих слов.
В Мариновке мы начали с того, что возложили цветы к обелиску на могиле Саши Егорова и Алеши Катушева, потом бросили вещи в классе, приготовленном для ночлега, и пошли в школьную столовую. Есть никому не хотелось, но обед входил в атрибутику походной жизни, и отказаться от него было труднее, чем согласиться. Дружно мы принялись за щи, перловую кашу и чай, а потом в пять минут перемыли посуду и расставили по своим местам стулья.
В разгар обеда подъехал на «чизетте» наш связной. Его звали Васей Авдюшкиным, он работал фрезеровщиком на местном заводе. Войдя в столовую, Вася снял шлем и с порога сказал: «Приятного аппетита!» – «Спасибо!» – ответили мы. «Перловка? Порядок! Съедобна?» Мы засмеялись и сказали: «Съедобна!» – «А сливы все любят?» – спросил вдруг Вася. «Все!» – с ним было удобно разговаривать хором. Вскоре нам стало ясно, что Вася создан специально для того, чтобы собирать, доставать, выяснять, в общем – организовывать. Последним сев за стол, он первым поднялся и тут же укатил на «чизетте» за сливами, о которых успел договориться с какой-то теткой Дарьей, причем «без денег, за так – брать?» – «Брать!» Кроме того, он должен был заехать по дороге в правление колхоза, чтобы «пощупать их на предмет бульдозера», а после этого на хутор Красная Заря, найти там свидетеля по фамилии Сагур и привезти его на место.
Вася исчез, и пришел конец нашей выдержке. Мы сразу заторопились, оставили на кухне двух дежурных, схватили лопаты и двинулись в путь. Семь километров показались нам семью тысячами, тем более что мы останавливались и минут десять стояли там, где летом были раскопки: надеялись найти самолет Лили Литвяк, но оказался штурмовик, а Лиля погибла на истребителе.
Наконец мы увидели вдали, на пологом склоне холма, бульдозер, а рядом с ним людей и Васин мотоцикл. Последние сто метров никто не шел. Мы бежали. Развернутым строем, с лопатами наперевес. Мы добежали до места, где должен был стоять щит, оставленный эрвээсами еще с лета: «Внимание! Не пахать! Здесь будут раскопки самолета!» Но щита не было: все перепахали и засеяли. Подошла Ващенко, поздоровалась за руку с Сагуром, потом с бульдозеристом, которого звали Виктором, и спросила: «Щит-то где?» – «А кто его знает?» – ответил бульдозерист. «Да ладно, – сказал Сагур, – сейчас вспомню».
Он отошел метров на десять в сторону и лет на тридцать пять назад, в глубину своей памяти. Огляделся там, примерился и твердо показал себе под ноги: «Вот тут!» – «Сдается мне, – с сомнением произнесла Ващенко, – что летом вы не здесь показывали». – «Не должно быть!» – возразил Сагур, но все же задумался. Ребята тихо стояли вокруг, боясь даже шепотом порвать тонкую нить воспоминаний. Он поглядел еще раз на холм с металлической треногой на вершине: «Там были, значится, ихние окопы и блиндажи», – потом вниз, на глубокую балку: «А там наши, окопамшись», – перенесся взглядом на далекие крыши хутора: «А оттеда мы, пацаны, все и видели» – и, наконец, уже не для себя, а для нас громко сказал: «Он со стороны Мариновки падал, носом туда, а хвост его тут должон быть, Валентина Ивановна». – «Может, немецкий?» – робко предположил кто-то из ребят, на что Сагур пожал плечами и поскреб небритую щеку. Тут уж все посмотрели на Ващенко. Она встала рядом с Сагуром, несколько раз глубоко вздохнула-выдохнула и уверенно произнесла: «Наш!» Если бы немецкий, у нее начался бы сильный кашель, потекли бы из глаз слезы, потому что на немецкие самолеты, которых в этих местах тоже лежало предостаточно, у Валентины Ивановны непостижимым образом была аллергия.
Виктор развернул бульдозер, опустил нож и повел машину. Первый слой он снял прямо с пшеницей, спокойно и безжалостно, и эта жертва, на которую шел колхоз, прибавила значительности нашему делу. Он снял три метра по ширине ножа, а в глубину не более, чем на вершок, и все же кто-то из ребят, порывшись в отвале, крикнул: «Есть!» – и поднял над головой каску. Она была ржавая, странной формы, с вырванным у затылка куском. «От чехов, – сказал Сагур, приглядевшись, – они тут дивизией стояли»».
Война все еще лежала на самой поверхности земли.
Виктор прошелся раз, потом второй и третий, пока не довел полосу до десяти метров по фронту, и после этого пошел в глубину. Наши лопаты бездарно хранились «в чехлах», а яма уже была в полметра. И ничего, кроме множества пустых гильз, осколков противотанковых гранат и сплющенных пуль. «Пехота! – сказал Сагур. – Ее слой». Потом яма стала в метр глубиной – и опять ничего. В полтора метра – никаких признаков самолета. Сагур нервничал, чесал щеку: неужто ошибся? Левее взять? Или, может, правее? Мы понимали его: не только маленький Як, двухмоторная «Пешка» в этих просторах – и та, что иголочка в стоге сена.
И вдруг земля под ногами будто бы вздрогнула: нож бульдозера ударил с ходу во что-то прочно сидящее в глубине. Виктор дал тормоз и высунулся из кабины. Ващенко сказала ему удивительно спокойным голосом: «Один слой, но аккуратно». Мы все вокруг стоящие невольно сделали по шагу назад. Скулы у Виктора напряглись, он оттянул задним ходом бульдозер, на всякий случай приоткрыл дверцу кабины, опустил нож и пошел. Еще один сильный удар привел в действие Сагура. «Здеся! – закричал он, прыгая в яму. – Всё, Витя, вира!» И мы, сколько нас было, кинулись за ним.
Из земли торчал изогнутый ствол авиационной пушки.
С ума сойти!
Не знаю и не хочу гадать, что испытали в этот момент ребята. Я же, глядя на мертвый кусок металла, ощутил вдруг его одушевленность. Не холодность, не ржавость, не молчаливость, свойственную железу, а именно одушевленность, способность заговорить. И более всего меня поразил снаряд, чудом сохранившийся в стволе пушки: значит, пилот не успел выстрелить, он был убит в воздухе или ранен, а если ранен, то еще жил, о чем-то думал и на что-то надеялся, пока летел к земле, ставшей ему могилой… Вот так, глядя на кусок искореженного металла, я наполнялся образами, понятиями и болью далекого прошлого.
Вернул меня к реальности голос Ващенко: «Все из ямы! Немедленно все из ямы!» Она же, напротив, ринулась к пушке и закрыла ее собой, как амбразуру вражеского дота. Категоричность тона и решительность ее действий не оставляли сомнений, и все мы, в том числе даже Сагур, выбрались наверх. Она ворчала себе под нос, внимательно обследуя находку: «В тюрьму меня посадить захотели! Ишь, какие нашлись! Вон он, торчит! А рванет?!» Затем, не оборачиваясь, сказала: «Двое ко мне!» Мы, ближайшие, прыгнули в яму, нас оказалось больше, и Ващенко противным голосом повторила: «Я же сказала – двое!» Не помню, кто там из ребят был, но мы переглянулись, и всем почему-то стало ясно, что вылезать нужно мне. Я вылез с ощущением жгучей несправедливости, но и с пониманием того, что остальных не вытащить даже трактором. Сжираемые завистью, мы наблюдали сверху, как ребята осторожно обкапывают пушку саперными лопатами. Обкопав, они полностью вытянули находку из земли и подали нам. Мы приняли ее с Сагуром как драгоценную ношу и отнесли метров на тридцать в сторону. Там и лежала пушка до нашего ухода, прикрытая, словно живое существо, моей телогрейкой.
Дальше мы работали только лопатами, соблюдая все правила безопасности. Правда, к трем часам дня, как и обещал, приехал на «газике» райвоенком майор Котляров. Он сказал Ващенко, желая ее успокоить, что территория подверглась дополнительной проверке саперами, не говоря уже о том, что («вы, конечно, и без меня это знаете») самолеты, падая, непременно взрываются, и потому все, что могло рвануть, сдетонировало. «А не все!» – ехидно произнесла Ващенко и повела майора к пушке. Он обалдело посмотрел на уцелевший снаряд, почесал затылок и, не теряя достоинства, сказал: «Бывает, конечно».
К пяти часам дня мы достигли трехметровой глубины. Копали молча в разных местах ямы, но когда раздавался крик «Есть!», к находке бросались все. Мы передавали ее из рук в руки, тут же скребли, оттирали, мыли, надеясь обнаружить какие-нибудь цифры или буквы. Глаза у нас горели, и дыхание становилось прерывистым.
Мы искали Лилю Литвяк, и я заранее знал, что ребята обрадуются, найдя ее останки. Обрадуются? – какое неподходящее к моменту слово, как странно оно звучит. Почему не огорчатся? Нет ли здесь путаницы, не допускаем ли мы смещений? В какой-то момент я бросил копать и стал смотреть на них. Они работали с нескрываемой радостью, но я отметил про себя: не с той легкомысленно-алчной, с которой, наверно, копают золотые клады, и не с той поддельной, с которой в эти клады играют, а с радостью горькой, печальной, отравленной. Мне показалось даже, что именно сейчас они постигают истинную глубину чувств, одновременно страдая по поводу гибели летчицы и ликуя по поводу того, что ищут ее.
К концу дня мы были не одиноки: из хутора Красная Заря пришли «первые ласточки» – дети. Целая стайка мальчишек, по пять-шесть лет каждому, а во главе – совсем крохотная девочка в расклешенных брючках, в расстегнутой модной куртке на «молнии» и с пшеничной челкой, висящей из-под косынки. Она вела себя независимо, на мальчишек не глядела, но куда бы она ни шла, через минуту вся стайка перебегала туда же. Первым их желанием и, вероятно, естественным было «стырить» патроны из кучи, собранной нами. Когда же Ващенко не погнала их, а деловым тоном попросила помочь, девчонка первой нашла в отвале патрон, положила в общую кучу, и вся стайка занялась работой. Я спросил девочку, оказавшись рядом с ней: «Тебя как зовут-то?» Она склонила голову, открыла беззубый рот и нараспев произнесла: «Ли-и-ина, а фто?»
Потом наверху появились взрослые. В основном старики и старухи. Молчаливые, в темных одеждах, с непроницаемыми лицами, они возникали на краю ямы в минуты наивысшего напряжения, будто кто-то сообщал им по телеграфу, что мы нашли что-то значительное, и долго стояли, не меняя поз. Без слов, без улыбок, уставившись в одну точку. Я сказал Сагуру: «Тридцать лет не копали, а теперь пришли». Он заметил спокойно: «А что нам, копать больше нечего?» – «Чего ж тогда пришли?» – «А кто их знает? Должно, память привела». Я снизу смотрел в немигающие глаза стариков и старух, но что там творилось в их головах, какие пласты воспоминаний поднимались со дна их истерзанной молодости – не знаю.
В какой-то момент я вдруг почувствовал, что моя саперная лопата, черт бы ее побрал, миновав твердый слой, вошла, как в масло, во что-то мягкое и, может быть, даже хрупкое. Холодный пот выступил на лбу, я просто оцепенел от предчувствия. Ващенко, заметив мое состояние, довольно бесцеремонно отодвинула меня в сторону, руками разгребла землю, и я увидел нечто круглое, аккуратное и, увы, поврежденное моей острой лопатой. И даже не понял, а каким-то чутьем угадал, что в руках у Ващенко – череп! Теплого серого цвета! Все вокруг замерли. Наверху тут же появились старухи. Никто не сказал в мой адрес ни одного осуждающего слова, но я чувствовал себя так, будто еще раз убил убитое.
По размерам череп был явно не мужской. То ли детский, то ли женский. И сразу пошли кости, мы вынимали их из земли руками и бережно складывали в подол к Валентине Ивановне. По всей вероятности, мы наткнулись на кабину пилота. «Молите бога, – сказала Ващенко, – чтобы было поменьше брони и побольше фанеры». Она сказала так потому, что Як в отличие от штурмовика делался из труб и перкали, его лонжерон, по выражению Ващенко, был из «сплошного бревна». Но, как на грех, все чаще стали попадаться куски броневой стали. Когда же мы выкопали редуктор с какой-то «елочкой», а не с «лесенкой» (в чем я совершенно не разбирался), они расценили это как безусловный признак штурмовика. И огорчились: не Лиля! Но тут же подвергли свой вывод сомнению: а женский череп?!
Близились сумерки. Мы кончили работу без команды, постепенно угаснув, как сам собой догоревший костер. Потом двое взяли на плечи пушку, Валентина Ивановна завернула в марлю останки пилота, и мы поплелись в Мариновку. Нас мучил вопрос, оставшийся без отпета: Лиля или не Лиля? А если не она, то кто?
Через несколько часов, плотно поужинав, они танцевали. Под две гитары. В пустом классе. До одиннадцати вечера. Меня поразила даже не столько быстрота этого перехода от возвышенного к земному, даже не столько его внешняя безболезненность, сколько энергия, в таком избытке сидящая в них. «Пускай перебесятся», – сказала Ващенко добродушно, лучше меня разбираясь в девятиклассниках. Мы остались с ней в учительской и слышали, как ребята сдвигают парты, хохочут, бренчат на гитарах.
Был момент, когда они вдруг утихли, и я пошел в класс посмотреть, что происходит. Они сидели верхом на партах и ели сливы, привезенные Васей. Сливы, кстати, были странного белесого цвета, будто покрытые пыльцой, но очень сладкие, я тоже потом попробовал. Они ели сливы и молча, глазами тихими, затуманенными смотрели на доску, где мелом были написаны кем-то стихи. Я глянул и обомлел:
«Мы пели песни звонкие и ели сливы бледные, а косточки-то тонкие у нашей Лили бедной…»
Поди в них разберись.
Ночью, когда все спали, я услышал громкое астматическое дыхание. Поднялся, вышел в коридор. В учительской горел свет. На мой осторожный стук костяшками пальцев Ващенко сказала: «Можно». Она сидела за письменным столом все в той же шинели, накинутой на плечи. Глаза воспаленные, кончики ногтей с синевой, губы белые. «У вас нет валокордина? – спросила она. – Надо же, весь выдула. Но уговор: им ни слова». Под утро, часов в пять, послышались легкие гитарные аккорды. Стало быть, и они проснулись. День Ващенко кончался и начинался валокордином, их – гитарой.
Каждому свое.
В воскресенье вечером, закончив раскопки, мы погрузились в автобус, пришедший за нами из города, и покинули Мариновку. На прощание заехали в поле. Там преданно ждал нас бульдозерист Виктор. Тут же появилась стайка мальчишек, возглавляемая Линой. Девочка кинулась к нам и отдала кусок перкали с заклепками, маленький тросик и часть кольца от парашюта. «Ну что, загортать?» – сказал Виктор. С тупой грустью мы смотрели, как он разворачивает бульдозер и засыпает яму, глубина которой, чтобы не соврать, была не менее пяти метров.








