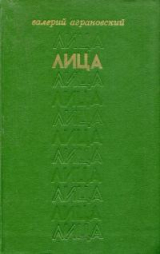
Текст книги "Лица"
Автор книги: Валерий Аграновский
Жанр:
Периодические издания
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Однажды над их щитом возник такой лозунг: «Если у тебя появилось желание поработать – ляг, полежи, это скоро пройдет!» Они не умели произносить друг перед другом агитационные речи.
КАК ОН УЧИЛСЯ. Читатель знает: Пуголовкин преподает во втузе – стало быть, у него есть высшее образование. Он получил его в МИИТе без отрыва от производства. Но дело не в этом. Зададим такой вопрос: не погиб ли в инженере-конструкторе Анатолии Пуголовкине, положим, великий художник?
Ответить на этот вопрос никто не может, потому что Пуголовкин художником не стал. Он стал конструктором и не жалеет, что избрал себе такую профессию. В этом все дело.
Случайно избрал? Нет, не случайно. Сто раз, работая на заводе, он мог отказаться от карьеры инженера, и сто раз он не отказывался. Его учила кабина, им же придуманная, она была его курсовой работой в институте и его дипломом.
С «кабиной» росли и товарищи Анатолия. И если попытаться скрупулезно подсчитать, что им практически дал институт, а что работа над кабиной, еще неизвестно, возьмет ли институт решительный верх.
Жаль одного: туговато внедряется у нас новое, пожирая лучшие годы авторов. Сколько бы других кабин они напридумали за то время, что убили на проталкивание своего первого детища!
ЕГО ДУХОВНЫЙ МИР. Путь на завод отнимает у Анатолия пятьдесят минут, путь с завода – пятьдесят пять: он говорит: «Можно не торопиться». И редко случается, чтобы приезжал он «вовремя», с точки зрения матери. То засидится в библиотеке, то в комитете комсомола, то по другим общественным делам, а то закроется в чьем-нибудь кабинете и просто думает: на это тоже необходимо время. Откуда, говорит мать, у него может быть личная жизнь?
Прямо с порога он кидается к магнитофону и включает модерн-джаз. Отличная коллекция записей шведских модернистов, нашего «КМ-квартета», Дизи Гиллеспи. «Есть будешь?» – «Еще как!»
Это в будни. А в воскресенье или в субботу он бродит по театрам, по выставкам, уезжает за город с приятелями кататься на лыжах или сидит в консерватории на своем привычном абонементном месте, наслаждаясь «Прелюдами» Рахманинова.
Человека, не знающего Анатолия, может насторожить разносторонность его интересов: не дилетант ли? Но когда он оценит въедливость характера Анатолия, успокоится. Уж если Пуголовкин рисует карикатуры, то их печатает «Неделя». Если он увлекается театром, то сам становится актером! Ей-ей, поступил однажды в народный театр, аккуратно посещал репетиции и с таким чувством произносил свою реплику: «Войди ж ко мне, о друг мой милый!», что режиссер стал внимательней приглядываться к новичку. Но скоро Анатолий взвыл от тоски, когда ему пришлось в десятый и в двадцатый раз произносить все с тем же чувством: «Войди ж ко мне!..» Пьеса, с его точки зрения, должна давать герою принципиальную позицию, а внутри – полную свободу, чтобы было движение мысли, разгон для творчества, простор для фантазии. «Вы требуете невозможного, – сказал режиссер. – У театра свои законы». Законы? Снова «допуски», «определенные расстояния до руля»? Прошу, сказал Анатолий, прощения.
Кстати говоря, Анатолий Пуголовкин – взыскательный зритель. У него всегда есть собственная позиция. Социологи говорят, что самым «травоядным» зрителем, перемалывающим все, что ему дают, является тот, который ходит в кино менее десяти или более шестидесяти раз в год. Мы подсчитали, у Анатолия вышло в среднем около двадцати посещений: прекрасно, сказал он, теперь понятно, почему мне не нравится «Осторожно, бабушка!», а нравится «Девять дней одного года». Он вообще сторонник интеллектуальных зрелищ: умная пьеса, умный фильм, умная четвертая программа телевидения.
А читает он, честно говоря, мало. Разумеется, газеты, журналы – это да. А книги редко: нет времени. Но если уж читает, то отдает предпочтение документальной прозе, а не «бытовому роману», делая исключение только для классиков. Документальная проза хороша тем, что она убедительна и доказательна, а в романах, говорит он, уж очень много авторского своеволия.
Теперь представьте себе Пуголовкина с рюкзаком за плечами где-то в горах Кавказа или в Карелии, его любимой. Традиционный костер, палатка, «ассорти по-полясски» (лук, жаренный с хлебом и рыбой, – собственное изобретение Анатолия, названное в честь реки Поля) и песни: «Что было, то было», «Ведь это наши горы, они помогут нам», «Комиссары в пыльных шлемах» и, конечно же, «фирменная»: «Мыла Марусенька белыя ножки».
Часто, рассказывая о чем-то или вспоминая, Анатолий говорит: «Это было еще до кабины» или «после кабины», что звучит как «до» и «после» нашей эры. Кабина, по сути, тоже его духовный мир, может быть, самый главный.
В конце концов, у каждого из нас должна быть или будет своя «кабина».
МЕЧТЫ ЕГО И ПЛАНЫ. Говорят, с возрастом стремления и планы человека утрачивают свою актуальность. Людей, говорят, захлестывает текучка, связывает по рукам и ногам семья, и они не становятся Леонардами да Винчи не потому, что не могут или не хотят, а потому, что им просто некогда.
Если эта мысль верна, то Анатолий Пуголовкин, вероятно, еще не достиг того возраста и положения, когда хочется отступить, отдохнуть.
Ну хорошо, а что будет после того, как его кабину поставят на конвейер? Что он будет делать дальше? На этот вопрос Пуголовкин может ответить так: а я вовсе не ставлю перед собой цели, обязательно связанной с признанием данной кабины. Мне, собственно говоря, важно признание идеи. Я успокоюсь лишь тогда, когда принцип «Все во имя человека» восторжествует повсюду: и архитектуре, в градостроении и даже в пошивочном ателье. Вот моя глобальная задача!
И попробуйте не согласиться.
Если же конкретно, он хочет окончить аспирантуру, защитить диссертацию и с карандашом в руках помечтать о создании нового автомобильного завода, а рядом с ним – нового города. Их нужно будет возводить «всем миром» – в прямом смысле этого слова.
Идефикс? Но в ней кредо Анатолия Пуголовкина, сущность его стремлений.
Над щитом однажды висел такой лозунг: «Жить – хорошо! Но хорошо жить – еще лучше!»
* * *
Перед нашим поколением во многих областях жизни, науки и техники возникли всевозможные «почему», «зачем» и «отчего», отвечать на которые должны мы сами. Поиск ответов – наша великая миссия, и если мы выполним ее достойно, если в конечном итоге определим и свое истинное место в жизни, вовсе не исключено, что строгие потомки назовут наше поколение ИСКАТЕЛЯМИ.
1968 г.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ПОВЕСТЬЮ

«МЕРЗЛОТКА»
Дорогу описывать не буду. Дорога как дорога. Если бы я летел в Хосту, а не на Север, разница выражалась бы только в часах.
Впрочем, так думал я до того, как сел в самолет, но не после того, как приземлился в Областном, откуда, кстати, мне предстояло еще добираться до Районного, а уж потом до мерзлотной станции – конечного пункта моей командировки. Разница была и в пассажирах, и в багаже, и в общем настроении летящих, поскольку одно дело, когда впереди у людей отдых, другое – когда работа.
Ну и, конечно, разговоры, имеющие типичный северный колорит. Ни на каком ином направлении не узнал бы я байку о том, что в Хатанге у одной уборщицы аэропорта живет собака Роза, которая показывает, как ходят пьяные пассажиры. И нигде, кроме как на северных линиях, не рассказывают, выдавая за чистую правду, мелодраматическую легенду про медведя, который повадился ходить в гости к зимовщикам одной из дрейфующих станций СП. Медведь, говорят, привык к людям и даже помогал им возить воду: впрягался в сани с бочкой, топал к полынье и сам брался за черпак. И вот однажды какой-то жестокий шутник проделал в бочке дыру, и медведь целые сутки «работал Сизифом», а потом, так и не поняв подвоха, покинул людей, обидевшись на весь белый свет.
Рассказчик, как правило, утверждал, что лично знаком с шутником или с кем-то из зимовщиков станции, божился, что все так и было, а вы попадали в атмосферу далекого Севера, где жили особые люди, где была особая жизнь и случались особые истории, и вас захватывало предчувствие чего-то необычного и таинственного.
Увы, дорогой читатель, как бы ни предупреждали вас знатоки Севера, чего бы ни говорили вам заранее, вы все равно, ступив на вечную мерзлоту, одновременно и удивитесь и разочаруетесь.
Итак, станция, называемая «мерзлоткой». Представьте себе длинный одноэтажный барак – рабочий корпус. Он разделен на две половины. В одной имелась комната младших научных сотрудников (мэнээсов), библиотека, бухгалтерия, кабинет начальника станции. В другой – склад, красный уголок, слесарная мастерская и химлаборатория. Поскольку дух реформаторства – бродячий дух, он залетал иногда и сюда, знаменуя собой Малое Переселение: бухгалтерию переводили в библиотеку, библиотеку – в комнату мэнээсов, мэнээсы пересаживались в кабинет начальника станции, а начальник утверждался в бывшей бухгалтерии. Великое Переселение и одна половина рабочего корпуса перебиралась в другую.
Впрочем, названий я помянул много, а размеры все карликовые. Слесарная мастерская, например, в пять минут собиралась механиком Петровичем в чемодан и за одну минуту располагалась на новом месте.
Перпендикулярно к рабочему корпусу стоял жилой. Когда-то он сгорел дотла, но его восстановили, как вы понимаете, точно скопировав первый вариант; пригласи самого Корбюзье, он новой конструкции тоже не придумал бы. Пять комнат и кухонька для семейных (одиночки готовили у себя) да длинный коридор – вот, собственно, и вся архитектура.
Шагах в двадцати от барака была кочегарка с невысокой трубой, сложенной из железных бензиновых бочек, гараж с двумя вездеходами и столярная мастерская, которую после пожара временно приспособили под жилье: вбили внутри несколько рядов досок, проложили оленьими шкурами, и получились «комнаты» с отличной слышимостью, но зато без видимости. Как и все на свете, понятие «временно» – относительное понятие, и если вы приедете на станцию через десять лет, вы убедитесь, что мастерской еще нет, и, как говорится, неизвестно.
Штаты были небогатые. Список действующих лиц я начну с начальника станции, продолжу его заместителем, девятью лаборантами, завхозом, бухгалтером, кадровиком, четырьмя кочегарами, механиком, шофером и препаратором, а закончу четырьмя младшими научными сотрудниками. Всего, таким образом, двадцать пять человек. По сравнению с количеством жилья – очень много, по сравнению с задачами станции – ничтожно мало. Научный руководитель Сергей Зурабович Диаров бывал из Областного наездами, и весь огород, выходит, городился во имя работы четырех мэнээсов, составляющей научный смысл «мерзлотки».
В километре от станции находился поселок, называемый Горняцким. Он был расположен на берегу бухты Мелкая, образованной двумя мысами: мысом Обсервации и мысом Нерпичей, на скалистую часть которого и вправду выходили нерпы. Наискосок от поселка, через лиман Онемен, за мысом Тонкий (тоненький-претоненький, если смотреть в хорошую погоду) высился хребет Рарыткин, до которого было не менее восьмидесяти километров, но который был все же виден без бинокля.
Летом попасть на станцию можно было через поселок, приплыв туда на катере. А зимой, наоборот, в поселок ехали на автобусах через «мерзлотку». До Районного тут километров пятьдесят, а до Областного – не меньше тысячи: два с половиной часа самолетного времени. Дороги – насыпные, а вокруг дорог – торфяные болота, порождающие неслыханные полчища комаров.
Поселок Горняцкий маленький, на полторы тысячи человек. Дома в нем сплошь деревянные, в том числе клуб ГВФ. Под каждым домом – «пуп», то есть сваи, сложенные в виде городошной фигуры «колодец». Вечная мерзлота от тепла домов прогревалась и проваливалась, и, не будь «пупов», не было б и жилья.
Заканчивая описание места действия, скажу несколько слов о природе. По количеству солнечной радиации Крайний Север уступает разве только Антарктиде, и то немного. Абсолютная прозрачность неба, никакой пыли, лучи беспрепятственно достигают земной поверхности. Даже зимой, при минусовой температуре, вы могли раздеться до пояса и преспокойно загорать. А если при этом был бы маленький ветерок, вы рисковали в несколько минут заработать ожог первой степени. Дело в том, что климат здесь не теплый и не холодный: жесткий. Разработана специальная шкала, определяющая эту жесткость: мороз, помноженный на ветер. И если в Москве, к примеру, пять баллов жесткости, здесь – одиннадцать.
Но зато красота, товарищи! В декабре, в короткий полярный день, из-за одной горки вставало огромное оранжевое солнце и катилось, как колесо, прямо по горизонту, по холмам и по замерзшему лиману до другой горки. Скорость у колеса была небольшая, и все это расстояние оно проходило за два с половиной часа. До середины пути – восход солнца, после середины можно считать заходом. А любой предмет, освещаемый солнечными лучами, будь то телеграфный столб, ледяной заструг или живой человек, приобретал малиново-розовый цвет. От этого предмета ложились на белую землю длинные фиолетовые тени, а где-то в стороне однотонно кричали савки: «Ала-ла! Ала-ла!» – как мусульмане.
И совершенно потрясающая сухость воздуха. При норме шестьдесят влажность здесь всего восемнадцать процентов. Когда по коридору рабочего корпуса шли люди и протягивали друг другу руки для пожатия, между ладонями проскакивала видимая глазу искра.
МЭНЭЭСЫ
Из четырех младших научных сотрудников – мэнээсов – я познакомился с тремя. Могу назвать их фамилии, но это ничего не скажет читателю, как не сказало мне, когда они представились: Карпов, Григо и Гурышев. И видел, что двое из них с бородами – Карпов и Гурышев, а Григо – без бороды, потому что была Мариной. Четвертый мэнээс, по фамилии Рыкчун, одновременно исполняющий обязанности заместителя начальника станции, находился в поле, его ждали через неделю после какого-то «спада», и это означало, что только с условленной даты на станции будут о нем волноваться. К сожалению, моя командировка кончалась раньше: нам, кажется, не суждено было увидеться.
Встретившись с мэнээсами, я подумал и пришел к выводу, что не избежать мне «шахматного турнира по круговой системе». К этому методу я прибегал в тех случаях, когда хотел за относительно короткое время получить более полное представление о людях, с которыми имел дело. Смысл «турнира» заключался в том, что каждый рассказывает мне о каждом. Конечно, я ставил их в неловкое положение, поскольку они, вероятно, уважали друг друга, но именно это взаимное уважение было способно поднять их на ту высоту объективности, на которую я рассчитывал, а если нет, то и это было характеристикой.
Они выслушали мое предложение без восторга, особенно Карпов, но с пониманием: мол, если так надо, пускайте часы. И я пустил. «Ходы» моих собеседников оставляю за пределами повествования и ограничусь количеством «очков», набранных каждым в отдельности.
ЮРИЙ КАРПОВ. Он показался мне наиболее сложной фигурой из этой троицы. «Трудолюбив, как черт, защищающий диссертацию», – сказал о нем Гурышев, и Марина Григо не пожалела лестных выражений, рассказывая о фанатической работоспособности Карпова. Кроме как наукой, он больше ничем не занимался, мог сутки, неделю, месяц просидеть за письменным столом и за это время лишь раз выйти в поселок, чтобы купить продукты. Полное отречение от всех земных благ во имя четырех стен – разумеется, при этом трещала по швам его общительность. Но бог с ней, с общительностью, которая не есть главный критерий человеческой ценности. В конце концов, науку делают разные люди, и в основном не те, которые живут полнокровной жизнью. Хуже было, что Юрий Карпов оставался «вечной мерзлотой» ко всему, что не касалось лично его: его карьеры, его диссертации, его успеха.
Он был, как прочие мэнээсы, начальником отряда, а в экспедиции все должны тянуть лямку, таков неписаный закон, и редко кто удерживается в коллективе, его нарушая. Так вот, если Григо считала, что именно она, как начальник отряда, является хранителем этого закона и потому таскала тяжести наравне с мужчинами, Карпов придерживался совершенно иной точки зрения. Он ревниво берег свой мозг, свое здоровье, свои нервы и свое молодое тело для «большой науки», как может великий певец беречь голос, отказываясь петь всюду, кроме Миланской оперы. Он даже воду не носил, он брал на плечи самый легкий рюкзак, что казалось Марине Григо «ужасным». Однако его пронзительный ум, его потрясающая целенаправленность, его трудолюбие за письменным столом и беспощадность к себе, когда он занимался наукой, как бы компенсировали в ее глазах прочие человеческие недостатки, – и, быть может, она была права. Что же касается Гурышева, он откровенно завидовал самостоятельности Юрия и способности «не морщиться», когда общественное мнение оказывалось не на его стороне.
Все то, что я узнал о Карпове, не было для него секретом. Не могу утверждать, что мнение товарищей было ему безразлично. Во всяком случае, разговаривая со мной последним из всей троицы, он удивил меня напряженной улыбкой и вопросом, который никак не вязался с образом, нарисованным его товарищами: «Ну, как вам мой портрет? Очень или не очень?» – «Эскиз! – ответил я. – Какой портрет? Портреты будут после…»
МАРИНА ГРИГО. Ее сестра была балериной. Узнав об этом, я попытался и Марину представить в пачке и на пуантах, и это получилось у меня много легче, чем если бы я захотел надеть на нее телогрейку и валенки. Тонкая, высокая, с длинными ногами, с некрасивым, но очень выразительным маленьким лицом, на котором одни глаза занимали треть пространства, с необыкновенной копной рыжих волос, вся прелесть которых заключалась не только в цвете, но в джунглевой перепутанности, – я где-то видел ее раньше, все время пытался вспомнить, она принадлежала кисти какого-то великого художника прошлого.
Одна сотрудница «мерзлотки» как-то воскликнула, что, будь она мужчиной, ходила бы за Мариной Григо «толпой». Странное дело: а мужчины ходить боялись. Григо была жутко злая; то есть не злая, а резкая; впрочем, не резкая, а экспансивная; лучше сказать, излишне прямая, – Гурышев никак не мог подобрать подходящего определения, хотя и был человеком наблюдательным. Карпов ограничился короткой репликой в своем духе: «Ее характер принципиально-неуживчивый», – и больше ничего не добавил. Действительно, Марина Григо могла открыто заявить Гурышеву, что он лоботряс, Карпову – что он прожженный эгоист, а начальнику «мерзлотки» Игнатьеву – что он липовый ученый. В первом же разговоре со мной она сказала, что ей не нравится моя манера «лезть в душу», хотя, право же, душа у нее и без меня была нараспашку. Я уже в то время подумал, что резкость Марины всего лишь панцирь, прикрывающий душевную незащищенность.
Она была, судя по всему, очень добрым человеком. Какие-то люди, с которыми Григо виделась ничтожно малое время, годами писали ей письма с подробностями, какие пишут только родственникам. Пурга не пурга, мороз не мороз, но каждую неделю она бегала в клуб читать лекции по искусству и философии – и ее слушали! – хотя говорила она без остановки по три часа подряд! – восклицательные знаки принадлежали Гурышеву и означали в его рассказе «приятную неожиданность». На «мерзлотке» вокруг Марины постоянно крутились какие-то мальчишки и девчонки из поселковой школы, где она вела хореографический кружок. И не было такой женщины на станции, которая не прибежала бы к Марине со своей бабьей бедой: она умела сочувствовать чужому горю искренне, со слезами.
Когда-то, еще учась в МГУ, она случайно узнала, что одна студентка попала к баптистам. Марина тут же вступила в секту, стала ходить в молельный дом и вскоре, устроив там публичный диспут, уличила проповедника в лицемерии и ханжестве, узнав откуда-то, что дома у него стоит телевизор. Именно с тех пор доброта ее стала воинствующей. Она даже мстила людям добрыми поступками и, вопреки желанию окружающих, за них решала, что им хорошо, что плохо, и «не давала передышки», как выразился Гурышев. Даже Игнатьев, начальник станции и главный недруг Марины Григо, и тот однажды обратился к ней за отпущением грехов, и она «учила его жить».
Женщинам на Севере трудно. Работа у них мужская, пищу они едят мужскую, ходят в валенках, едва волоча ноги против ветра, мужские шапки у них на головах – то ли баба идет, то ли мужик, со стороны не сразу и поймешь. Как к королевам нынче мало где относятся к женщинам, тем более на Севере. Им нельзя там капризничать, просить чьей-то помощи, отдавать свой рюкзак и позволять носить себя через потоки. «Графиней-геологиней» женщина на Севере быть не имеет права. Однако Марина рвалась в эту жизнь еще со школьной скамьи. С восьмого класса ее стали брать в экспедиции, она занималась тогда в знаменитом географическом кружке Бекляшова, а потом трижды поступала в МГУ на геофак, и все мимо, мимо, мимо, пока судьба не сжалилась над нею: она попала на кафедру полярных стран. Когда кончила МГУ, ее оставляли в университете, признав способной, – куда там! Она бежала из Москвы, как иные бегут от неприятностей, неустроенностей или от несчастной любви. Ни того, ни другого, ни третьего Марина, кстати, не знала: она оставила мать в отличной квартире, ее никто не собирался судить или отдавать под следствие, а «любовь» в сочетании с Мариной Гурышев называл «банальностью». Если бы Григо, сказал он, попала на необитаемый остров и была уверена, что пробудет там до конца своих дней, и вдруг встретила бы какого-нибудь Робинзона, и он оказался бы ей не по нутру, она бы его отвергла: «Спросите у Карпова!» Я спросил, и Карпов утвердительно кивнул головой, сказав, как истинный джентльмен: «Психопатка».
Ей никогда не было скучно, даже в одиночестве. Она любила ходить по тундре, слушать птиц, смотреть закаты и восходы солнца, вокруг нее была дикая природа, и сознание того, что в этой дикости она – человек, наполняло ее счастьем.
Гурышев очень хорошо сказал: ее многие любили, ненавидя, а она ненавидела их, любя.
АЛЕКСЕЙ ГУРЫШЕВ. Каждому из моих собеседников было в пределах двадцати пяти лет, но если Карпов, как мне казалось, в десятилетием возрасте уже был взрослым человеком, точно знающим, чего он хочет от жизни, Алеша Гурышев рисковал и в восемьдесят остаться мальчишкой. Еще ничего не зная о нем, я обратил внимание на его походку: он плыл по коридору рабочего корпуса, с достоинством неся самого себя, покачивая бедрами и любуясь производимым эффектом. Позже Марина Григо сказала, что одним из прозвищ Гурышева было Верблюд – именно из-за этой походки, которая, между прочим, была не единственной в арсенале младшего научного сотрудника, я в этом скоро убедился.
Итак, Алексей Гурышев. С отличием закончив химфак Киевского университета, он перепробовал затем несколько профессий, ничего общего не имеющих с химией. И вовсе не потому, что искал себя и не находил – его губили лень и инертность, он умел всего лишь «загораться». Карпов сказал о Гурышеве: «Человек с перспективой, но ему не хватает собранности». Наверное, так и было на самом деле. Он работал в геологии, потом увлекся кибернетикой, потом целый год занимался лингвистикой, а перед тем, как попасть на мерзлотную станцию, где-то в Средней Азии три месяца ловил бабочек. Когда мэнээсы однажды заговорили о будущем, Марина Григо спросила его не «где» он будет работать, а «кем», и он ответил: «Пойду месить ногами глину, у меня скульптор знакомый» – и это могло оказаться не шуткой, а истинной правдой.
Но если он входил в творческий раж, он горел синим пламенем, как выразилась Марина. На станции у Алексея хорошо пошла его «родная» химия, Гурышева назначили начальником химлаборатории и слегка подогрели, сказав, что на тысячу километров в округе он единственный специалист в этой области: Европа, мол, и Азия с надеждой взирают на будущего Менделеева. В жестокой борьбе между ленью и честолюбием последнее, вероятно, иногда берет верх. Но появись на станции второй химик, пускай даже с нижесредним образованием, Алексей очень скоро бы скис и подался куда-нибудь в первопечатники.
У него было множество побочных увлечений. Прекрасный рассказчик – я оценил это качество, слушая его рассказы о Карпове и Григо, – он знал наизусть массу книг, начиная с «Манифеста» и кончая «Золотым теленком». «Алеша, – говорили мэнээсы, – почитай стихи!» – «Почитай своих родителей!» – каламбурил он в ответ. Замечу попутно, что к своей маме, оставшейся в Киеве, он относился так трогательно, что, говоря о ней, еле сдерживал слезы. Когда-то в детстве он был вундеркиндом, его учили в художественной школе, и мама, заботясь о духовном воспитании сына, прислала ему на Крайний Север этюдник, акварель и кисти. Гурышев вскрыл посылку на глазах у товарищей, профессионально попробовал кисти на язык, тут же наладил этюдник и в течение целого года ни разу не взял его в руки: в тот год он увлекался культуризмом. Маршруты мэнээсов по тундре между тем были не маршрутами, а настоящим чудом, и многие, даже не умея рисовать, тянулись к холсту и бумаге, но Гурышев на язвительные замечания Марины Григо по поводу духовного развития меланхолично отвечал, что он «травмирован» – чем, никому не известно.
Он был красивым парнем, с детства привык к обожанию и выступал всегда в амплуа «любимца публики». А здесь, на «мерзлотке», попав в резковатую компанию, он часто терялся. Реакция его была обычно прямой: на ласку он отвечал лаской, на грубость – грубостью. Но ударить кулаком, – я уж не говорю по физиономии, хотя бы по столу, – он не мог: мешала интеллигентность. Вот эта интеллигентность, и свойственная Алексею мягкость, и юмор, и задушевность, и человеческая порядочность в конечном итоге оборачивались не слабостью Гурышева, а его силой: таким оружием на станции мало кто обладал, а идти против лука с атомной бомбой безнравственно. И Гурышев постепенно превратился в того младенца, который глаголет истину. Во всех конфликтах, возникавших на станции, он действовал без шума, без комплексов, без истерики, весело и непосредственно, иногда наивно, но всегда честно и искренне.
Марина Григо говорила о Гурышеве с нежностью, а Карпов хотя и сухо, но с уважением. Сам же Алексей, будучи очень довольным собой, своими друзьями и, вероятно, нашей беседой, ушел после разговора со мной походкой ковбоя.
ВАДИМ РЫКЧУН. Меня поселили в комнате Рыкчуна. Комната была большая, тридцатиметровая. Впритык к печке, выкрашенной в розовый цвет, стоял самодельный шкаф, обитый материей, возле него – топчан, а рядом с ним – низкий, еще не отполированный до конца столик. Была еще этажерка с несколькими книгами и старыми газетами и совершенно пустой письменный стол, на котором одиноко лежало запечатанное и неотправленное письмо без адреса на конверте. Либо Рыкчун забыл его отправить, либо не решился по какой-то причине, а может быть, это было «завещание», которое особенно чувствительные люди, отправляясь в далекий и трудный путь, оставляют на видном месте.
Топчан был покрыт одеялом и соседствовал с тумбочкой. На ней была пепельница, будильник, а что было внутри тумбочки – не знаю, туда не заглядывал.
На полу, на аккуратно расстеленной газете, стояла электрическая плитка, а рядом с ней два мягких дачных стула: трубчатые алюминиевые скелеты и матерчатые сиденья. Еще была автомобильная рессора, завернутая в рогожу и перевязанная бечевкой. Для чего – не знаю. При желании можно было бы придумать целый рассказ, связанный с Рыкчуном и этой рессорой. Гантели лежали чуть ли не посередине комнаты, они были пятикилограммовые, а эспандер на стене – пружинный, очень тугой, рассчитанный на хорошо тренированные мышцы.
И наконец, здоровая тахта, похоже – самодельного изготовления. Она была прислонена к стене и сохла, обильно просмоленная, как лодка. Рыкчун, вероятно, все еще налаживал свой быт, хотя с момента его приезда на станцию минуло года два.
А на окне в деревянных чашках типа пиалы погибали три луковицы. Вода уже была ими выпита, а подливать никто не подливал, забыв воспользоваться тем, что дверь в комнату не запиралась. Луковицы высохли, сморщились, но я все же плеснул в них из чайника, и в одно прекрасное утро они отблагодарили меня тонкими зелеными лучами: жизнь в них, оказывается, теплилась.
На голубой стене висело потрясающей белизны полотенце. Рядом с полотенцем – военно-полевая сумка. Пол был покрыт линолеумом. На окнах, на тонких золотых прутьях с кольцами, болтались шторы, по одной полоске слева и справа. Шторы были нежные и прозрачные, как крылья у стрекозы, и на них штрихами были обозначены березы с зелеными кронами. Поэтому, вероятно, общий цвет штор казался зеленоватым.
Вообще цвета в комнате были такие: пол – ярко-коричневый, потолок – слоновая кость, стены – голубые, печка – розовая, а шторы, как я уже сказал, отдавали в зелень.
Тона мягкие, теплые.
Был, помню, вечер, я здорово устал, лег на его топчан, укрылся его одеялом, а сон не шел. Тогда я стал думать о хозяине комнаты, тем более что за дни, уже проведенные на станции, я только и слышал со всех сторон: «Рыкчун заметил», «Рыкчун позволил», «Рыкчун попросил». Но даже фотографии его не оказалось в личном деле, мне пришлось довольствоваться легендами, и я попытался собрать их той ночью в единое целое.
Судя по рассказам, он был высок ростом, широк в плечах, носил густую черную бороду, имел большие серые глаза, обладал невероятной физической силой и громким голосом, из-за характера не приспособленным к шепоту. Когда однажды он объяснился Марине Григо в любви, это слышала вся станция, хотя натура его была такова, что он и с тихим голосом не стал бы скрывать своих чувств. «Мы – титаны! Мы – первооткрыватели!» – эти часто произносимые Рыкчуном слова можно было понимать и так, что ему все позволено и простимо, что даже будущие его грехи давным-давно отпущены. Женщины считали его обаятельным, мужчины – «своим в доску» и говорили, что он пьет не пьянея, ест не краснея и способен сгрызть стакан, не причинив своему могучему здоровью ни малейшего вреда. В любой компании Рыкчун был самым заметным, фотокорреспонденты кидались на него, как мухи на мед, видя возможность одним портретом решить все газетные проблемы Севера, а люди, находящиеся в его обществе, чувствовали себя физически защищенными, а потому раскованно.
Но странное дело: его мало кто любил, хотя многие ему подражали, над ним посмеивались, хотя им и восхищались, он вызывал скорее страх, чем уважение. Возможно, это объяснялось тем, что каждый его поступок казался со стороны совершенно неуправляемым и непоследовательным. Он мог один, отвергая помощь и крича: «Посторонись! Не путайся под ногами!» – вытаскивать из трясины вездеход, но мог и равнодушно шагать рядом с женщиной, катящей бочку с соляркой, не предлагая ей своих услуг и даже не подумав о том, что об этом можно подумать. В Областном, гуляя в ресторане с малознакомой публикой, он позволял себе расплачиваться за весь стол, делая это так, будто умирал на глазах у толпы: громко, красиво и безжалостно. А тремя днями раньше, в поселковой столовке, справляя в кругу друзей свой собственный день рождения, мог скрупулезно подсчитывать деньги, делить расход на присутствующих и собирать с каждого, в том числе с женщин, по пятерке. Однажды, подвергая себя риску, он при всех вскочил на плывущую льдину, крикнул: «Посвящается Григо!» – и исчез вдали. Марина, однако, не испугалась, не побежала вызывать вертолет, и он, через час вернувшись, оказал ей: «Вот ненормальная!»








