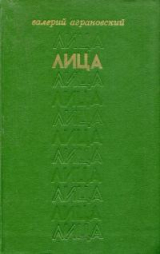
Текст книги "Лица"
Автор книги: Валерий Аграновский
Жанр:
Периодические издания
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
При всех сложностях и огрехах в методологии обучения рабфак, особенно в середине тридцатых годов, все же давал приличные знания. На одной фотографии, подаренной выпускником-рабфаковцем своему профессору, было написано: «Неизвестное – позналось, неоформленное – оформилось, сложное – стало простым».
Это была правда.
ОТНОШЕНИЯ со студентами и профессурой складывались трудно и не сразу. Когда Федор Иванин впервые пришел на Моховую, где находился университет, и протопал с товарищами в лекционный зал, он оказался занятым. Там сидели, запершись, студенты, которых рабфаковцы тут же окрестили «белоподкладочниками», получив в ответ: «Лапотники!»
На ногах у рабфаковцев хорошо если были сапоги, а то опорки. Хорошо, если они были в ситцевых рубахах, а то в холщовых. Когда им нужно было прилично одеть одного человека, пятеро оставались дома.
Первые конфликты разрешались не с помощью убеждений – с помощью кулаков.
Со временем антагонизм, конечно, стерся, но трения оставались еще долго и носили демонстративный характер: стоило «лапотникам» появиться в столовке, как «белоподкладочники» ее немедленно покидали. Филипп Небытов нарочно съездил в родную деревню Змеевку, привез лапти и щеголял в них по коридорам университета. И только к началу тридцатых годов страсти утихли: рабфаковцев стали называть рабфаковцами, прочих студентов – «основниками».
С профессурой дело обстояло так. Некоторые из профессоров вообще не жаловали Советскую власть, некоторые посчитали кощунством приход «мужика в альма-матер», а некоторые считали рабфаковцев просто неспособными воспринимать науки, называли их «тупоголовыми» и не желали тратить силы на их обучение.
Много было таких преподавателей? Никто не подсчитывал, а их имена не сохранились для истории.
Сохранились другие: В. И. Верховский, В. А. Комаров, Г. М. Фихтенгольц, Н. Д. Зелинский, А. С. Путеводителев, В. А. Десницкий, А. С. Гинзберг, В. П. Образцов, Н. А. Звягинцев, И. А. Каблуков, Б. А. Фингерт, А. М. Бачинский, К. В. Островитянов, М. М. Попов, В. Р. Вильямс и многие, многие другие академики и профессора, которых просто невозможно всех перечислить, но которые никогда не будут забыты рабфаковцами и, стало быть, нами.
ХАРАКТЕР рабфаковца определялся его «неестественной тягой к знаниям», как выразился Федор Дмитриевич Иванин. Каждый день он пересекал почти всю Москву, торопясь на Моховую и обгоняя грохочущие по булыжнику телеги с тяжелыми лошадьми. Под мышкой у него были книги, на голове кепка с огромным ломаным козырьком, а путь его лежал мимо Лубянки и Манежной площади. На Лубянке тогда стояла знаменитая тумба с афишами синематографа, постоянно окруженная толпой зевак: «Новая фильма Льва Кулешова «Приключения мистера Веста»!» А на Манежной площади паслись кролики, которых приносили в широких плетеных корзинках, чтобы утром они пожевали травку, а к вечеру сами стали ужином.
За полтора года учебы на рабфаке и все последующие годы в институте Иванин ни разу – и это не преувеличение – не опоздал на занятия. Учета посещаемости между тем тогда не вели. Перед входом в университет висел лозунг: «Ни одного часа на ветер!», которого было вполне достаточно.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАБОТЫ поглощали их не менее, нежели учебные. Они хотели чувствовать себя причастными ко всему на свете, начиная с мировой революции, о которой думали, ложась спать и просыпаясь, и кончая свинарниками, которые открывали при рабфаках «в ответ на обращение партии по мясной проблеме».
Рабфаковцы имели официальную отсрочку от службы в армии, но очень часто кто-нибудь да и срывался на фронт: душа не выдерживала. Была очень сложная обстановка – Деникин взял Орел. Однажды рабфак Московского университета принял резолюцию: «Если падет Тула, плевать на все запреты и в полном составе уходить на передовую».
С одной стороны, их обуревала жажда знаний, с другой – неутоленная жажда деятельности. В большинстве своем они были коммунистами и комсомольцами, и кто бы ни обращался к рабфаковцам с просьбой – то ли разгружать вагоны на Николаевском вокзале, то ли вступать в общество «Долой неграмотность!» и ехать на фабрику имени Петра Алексеева создавать ликбез, – отказа никогда не было. На вопрос: «Кто хочет?» – отвечали: «Все!» В 1930 году рабфак МВТУ в полном составе проводил в деревне весенний сев. Пели песню: «Не белоручками в белых перчатках выйти мы в жизнь должны, а людьми с пролетарскою хваткою первой в мире страны».
ИНТЕРЕСЫ их были «колумбическими» – «от Колумба», уточнил Федор Дмитриевич Иванин. Ведь жизнь для рабфаковцев не продолжалась – она рождалась заново, и поэтому все, что они узнавали и чем наполнялись, вызывало у них первооткрывательские реакции. Они бегали в Политехнический музей «на Маяковского», который, по свидетельству тогдашних газет, «будоражил весь рабфаковский парнас», садились на галерке, и именно рабфаковцы бесновались там, кричали и аплодировали поэту, когда партер обливал его холодным презрением.
В том же Политехническом они присутствовали на диспутах наркома Луначарского с митрополитом Введенским на тему «Есть ли бог?» и слушали лекции Корнея Ивановича Чуковского о Нате Пинкертоне.
Федор Иванин запоем читал литературу, подразделив ее таким образом: политическая – «Государство и революция» В. И. Ленина, «История партии» Ем. Ярославского, «Азбука коммунизма»; художественная – Гегель, Кант.
У них не было никаких развлечений в том смысле, в каком мы понимаем это сегодня. В лучшем случае они могли играть на «шелобаны» в цифры электросчетчика. Но в театр или в кино на «Шестую часть света» Дзиги Вертова они ходили не развлекаться – думать.
Праздники они встречали все вместе: собирались в актовом зале, заранее украшенном свежими ветками, приглашали военный духовой оркестр и непременно ставили революционную пьесу в манере «синеблузников» – без декораций, очень остро, на самые злободневные темы.
А вот спортом они не занимались. Негде было. Футбольные команды, ставшие потом «Динамо» и «Спартаком», еще играли на пустырях где-нибудь на Ходынском поле. Спорт пришел к рабфаковцам позже, причем в виде стрелковых кружков. Тогда же появилась мода на белую рубашечку апаш, на пиджачок, небрежно накинутый на плечи, и на десяток значков, прикрепленных к лацкану и свидетельствующих о мужестве и силе молодого человека.
Сентиментальными они никогда не были, ухаживаний не допускали, а о любви стеснялись говорить даже женатые рабфаковцы. Обилие забот приводило к тому, что даже в прозвища они «не играли»: называли друг друга только по фамилиям. Небытов и сегодня зовет Иванина – Иваниным, а о том, что он Федор да еще Дмитриевич, словно бы и понятия не имеет.
МЕЧТЫ И ПЛАНЫ вполне соответствовали духу того времени, грубоватому и вместе с тем приподнято-романтическому. Рабфаковцы мечтали обо всем, что касалось страны или мира в целом, но очень трезво и реально смотрели на собственную судьбу и перспективу. Отсюда любопытнейшая черта их мечтаний: сбыточность. Завод отправлял на рабфак молодого рабочего, при этом и рабочий знал, и завод не сомневался, что парень вернется в такой-то цех, на такую-то должность. Об окладах не думали.
Карьера совсем не волновала рабфаковцев. Занимать ли командные посты или рядовые, тоже не было вопросом, хотя из-за великой нужды в специалистах каждый рабфаковец мог бы легко вознестись вверх. Нет, не лезли! И что еще любопытно – не стремились в науку. Тогда был голод на практиков, а наука, как сказал Иванин, «хороша от сытости».
Они откровенно сознавали себя «черным хлебом» революции, и это обстоятельство ничуть не делало их несчастными.
ОБЩЕЖИТИЕ – целая эпопея в жизни рабфаковцев. Двести человек, приехавшие в Ленинград в 1923 году поступать на рабфак пединститута, жили на бульварах, на вокзале, на скамейках Летнего сада. Поближе к холодам они не выдержали и самовольно заняли пустой особняк, в котором были лепные потолки, ванная, расписанная лилиями, и уборная с четырьмя окнами венецианского стекла. Заведующий рабфаком З. Е. Черняков был немедленно вызван к какому-то чину, и тот приказал срочно освободить особняк, иначе – отсидка. Черняков подумал и предложил: «Выселяйте сами». В особняк явился милиционер в черной шинели и в красной шапке, пару раз для порядка свистнул, а потом, сказав: «Черт с вами!» – ушел.
В Ленинграде было два знаменитых рабфаковских общежития: «Рошаль» и «Медведь». Происхождение этих названий до сих пор остается в тайне. А в Москве наибольшей известностью пользовалась «Спиридоновка» – шумная, деловая и веселая, элементарно оборудованная простыми кроватями, тюфяками, табуретками и дубовыми столами. Правда, рабфаковцы с завистью поглядывали на восьмиэтажный дом Моссельпрома, который тогда изображали на папиросных коробках, но этот «локоть» им было не укусить.
СТОЛОВКИ оценивались рабфаковцами не по сытности и вкусноте приготовленной пищи, о чем смешно даже говорить, а по пропускной способности. В 1927 году четырнадцать студенческих столовых Москвы пропускали в день 22 тысячи человек – жить, как говорится, можно!
На первое брали щи – «брали», а не «давали», поскольку система была такая же, как и сегодня: самообслуживание. На второе – знаменитый «фаршмак», который делался из мерзлого картофеля, предварительно разбитого ломами, а на третье – морковный чай «без ничего». В дни праздников или именин особенно предприимчивые рабфаковцы доставали конину и жарили ее на мыле с добавлением уксуса, отбивающего содовый привкус. Впрочем, мыло достать было еще труднее, и кидался жребий: идти ли в баню или жарить «бифштексы».
Рабфаковцы объединялись в коммуны. Каждый сдавал в общий котел деньги, вещи, белье, платье и «все последующие заработки». А в месяц у рабфаковца было всего 40 миллионов рублей – стипендия, которая выплачивалась всем без исключения независимо от успеваемости. Рубль падал, и заявка Наркомпроса в Наркомфин в 1922 году выражалась цифрой 41 000 000 000 000 рублей. Директора институтов и заведующие рабфаками получали зарплату, равную зарплате уборщицы, а питались в тех же столовках, что и студенты.
В ту пору подрабатывать рабфаковцы не могли: заводы стояли. Небо над городами было чистым-пречистым, совершенно не задымленным трубами.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ еще более усугубляли положение учащихся. Мало того, что наука с трудом давалась рабфаковцам, им было еще холодно и темно. Профессоров они встречали и провожали аплодисментами и топаньем ног – чтобы согреться. Профессор Жуковский, преподававший в МВТУ, стоял на кафедре в шубе и шапке, а на руках его были перчатки с отрезанными пальцами, чтобы можно было держать мел. На занятиях по грамматике рабфаковцы разбирали однажды слово «электрификация» и заспорили: «электро» или «электри»? Кто-то встал и сказал, что спор беспредметен, поскольку электричества все равно нет.
На «Доске тревоги», висящей перед входом в актовый зал одного рабфака, появился некролог:
«Смерть унесла студентку Полину Полуэктову. Напряженная учеба подорвала ее здоровье. 24 апреля она пришла на рабфак, чтобы не подорвать соцсоревнование, а через день умерла…»
Хотя рабфаковцы и не очень-то понимали, как бедно и трудно живут сегодня, они верили в завтрашний день.
ПОСЛЕ РАБФАКА Федор Иванин учился в институте, а потом был направлен на работу во Внешторгбанк, занимающийся кредитованием внешних торговых операций. Это было в 1924 году, в самый разгар проведения политики, которая называлась «осовечиванием учреждений». Иванин надел на себя лучшие вещи, которые у него были: подвязал ситцевую рубашечку аккуратной веревочкой, на босу ногу – прекрасные сандалии, которые называл «римскими», так как они состояли из голой подметки и многих шнурков, надвинул кепочку со сломанным козырьком, примочил льняные кудри и явился, как с того света, пред очи видавшего виды швейцара. «Ты куда?» – «На работу!» – «Бог подаст, – сказал швейцар, стряхивая пылинки со своего генеральского кителя. – Не видишь, тут иностранцы ходят!» – «Подумаешь!» – сказал Иванин, но спорить не стал: ума хватило. Он пошел во двор банка, нашел истопника, показал ему свое направление, и тот сразу все понял. Через несколько минут истопник проводил заведующего фондовым отделом банка тайным ходом через котельную прямо в кабинет управляющего.
Так началась карьера бывшего рабфаковца. Федор Дмитриевич Иванин вышел на пенсию с должности начальника Главного экономического управления Министерства геологии СССР.
И. А. Бородин в 1954 году защитил докторскую диссертацию, хотя свою первую научную работу опубликовал еще в 1924 году. Тогда же на гонорар он купил новые ботинки и огромный желтый портфель свиной кожи. Ботинки через год износились, как он говорит, «на практической работе», а портфель пригодился «для научной» лишь тридцать лет спустя. Похожая ситуация сложилась и с бывшим рабфаковцем М. А. Рабиновичем, который сначала работал врачом в сельской больнице, потом четыре года провел хирургом на фронте, еще позже скопил несколько сотен интереснейших историй болезни, но до диссертации так и не добрался.
Ф. В. Чумаевский сказал мне: «Вам нужны, наверное, люди выдающиеся, а мы – что?» За тридцать лет после окончания рабфака инженер-строитель Чумаевский построил: завод в Горьком, поселок Мирный, Сельхозвыставку в Москве, станцию метро «Парк культуры» – список можно было бы продолжить.
То время, что они провели на рабфаке, было, конечно, тяжелым, но самым ярким в их жизни. «Полтора счастливых года», – сказал Иванин. Мы гуляли с ним по двору его дома, он водил за руку внучку и говорил о том, что одного высшего образования, чтобы стать интеллигентным человеком, конечно, мало, нужна еще внутренняя потребность в искусстве, литературе, во всем прекрасном, что нас окружает, но эта потребность у интеллигентов «в первом поколении» не всегда есть и, к сожалению, привить ее очень трудно. Вот три дочери Федора Дмитриевича, у которых имеются и образование, и внутренняя культура, – настоящие интеллигенты. «Издание второе, – как сказал он, – и дополненное». Потом он легко, совсем не по-стариковски, наклонился, чтобы поправить на внучке берет. Я подумал: через какое-то время внучка будет устраиваться на работу или поступать в институт и напишет в анкете: «Из служащих». И вовсе не исключено, что память у некоторых людей, ее окружающих, окажется короткой и они забудут, что не далекие ее предки, а всего лишь дед был настоящим, истинным пролетарием.
ПРОЩАНИЕ С РАБФАКОМ состоялось перед самой войной. Его расцвет падает на 1933 год, когда количество рабочих факультетов достигло рекордной цифры: 1025. На следующий год их было уже на двести меньше, потом еще на сотню, потом на десяток и так далее, пока 1 октября 1941 года не закрылся последний. Кстати сказать, по какой-то невероятной случайности им оказался самый первый рабфак, открытый 2 февраля 1919 года при Коммерческом институте имени Маркса.
По мере того как развивались государство, культурное и партийное строительство, как крепла средняя школа, надобность в специфическом классовом учреждении постепенно отпадала.
Рабфак растаял.
Я помянул в своем рассказе фамилии немногих рабфаковцев, всего же их было чуть больше миллиона.
1968 г.
СОЛДАТ
Рассказ
Он любил чай и сам ходил по воду с брезентовым ведром. Однажды, возвращаясь, он лез через бруствер, и осколок попал ему в грудь. Уже мертвый, он так медленно сползал на дно траншеи, что мы успели принять ведро, не пролив ни одной капли. Могилу мы вырыли шагах в тридцати от дороги, чуть ближе к Неве, на пологом склоне холма. Воткнули кол, чернильным карандашом написали имя, отчество и фамилию и еще «Батя» – так звали его в нашей батарее. Он был старше нас, даже старше капитана Белоусова, и мы считали его стариком. А сегодня я и сам понимаю, что сорок пять еще не возраст. Потом мы вскипятили воду, выпили его чай и снялись с места. В тот день нас бросили в прорыв.
Это было осенью сорок третьего года, а когда через двадцать лет я вернулся в эти места, тоже была осень.
Мне казалось, что, если меня привезут сюда ночью, с завязанными глазами, я спрошу только, где юг и где запад, а потом пойду по земле, по памяти перешагивая окопы. Я повернусь в сторону Восьмой ГЭС, и мои завязанные глаза опять нальются ненавистью и страхом, потому что проклятую ГЭС мы никак не могли взять, а оттуда они видели и деревню Марьино, и Белявские болота, и Шлиссельбург, и даже Ладогу, а с другой стороны, в сильные бинокли, – Колпино. Восьмая ГЭС была их глазами и нашей смертью.
От Володарского моста я доехал до нее речным трамваем, битком набитым туристами, высадился на левом берегу и пешком пошел назад к лесопарку. И конечно, ничего не узнал. Только карты бывают вечными. Часа три я бродил по незнакомой земле, пока нашел старую дорогу, а пройдя по ней, – остатки нашей траншеи и что-то похожее на землянку Белоусова.
А потом я увидел серый обелиск. Он был без имени и без фамилии. Могила неизвестного солдата. На сером постаменте лежали цветы, одна астра была в стеклянной банке, до половины наполненной водой. И мне стало как-то не по себе. Я еще раз отмерил тридцать шагов от старой дороги, убедился, что стою на том самом холме, и понял, что здесь лежит Батя.
Говорят, у нас много безымянных могил, но я стоял у этой одной, мне хватило ее по горло.
Мы звали его Батей, и этого достаточно, чтобы понять, кем он был. Он попал на батарею не сразу, месяцев через пять после начала войны, и пробыл с нами полтора блокадных года. Кто был тогда в Ленинграде, тот знает, много это или мало. Мы привезли его с капитаном Белоусовым прямо из госпиталя, из батальона выздоравливающих. Его и Черняка. К тому времени от батареи осталась половина, и мы нуждались в пополнении.
За Черняка попросил Батя. Черняк был ранен в бедро, и, кроме того, у него еще не гнулся указательный палец. Он сидел в красном уголке, играл на пианино и держал палец как орудийный ствол. «Артиллерист?» – спросил Белоусов. Черняк ему что-то ответил, и голос его оказался неожиданно сильным. До войны он работал актером в театре, хотя я не понимаю, как его взяли в театр, потому что он картавил. Его сделали у нас воздушным разведчиком, и он кричал на всю батарею: «Воздушная тгевога!»
У Черняка были длинные вьющиеся волосы. В первый день войны он пришел в военкомат с зонтиком. Его направили в ополчение, и там он познакомился с Батей. Вместе они были на формировке и вместе ходили в атаку под Лугой. Черняк жался к Бате и орал, как орали все, а потом потерял сознание. Все это рассказывал он сам, смешно представляя и себя и то, как он жался к Бате и как волочил тяжелую винтовку. Рассказы Черняка были для нас эстрадными представлениями, и Васька Зинченко в благодарность дарил ему из своих подозрительных запасов немецкие сигареты. И каждый раз Черняк серьезно говорил Ваське: «Вы вегнули мне стакан кгови!» Васька был разбитным парнем, его приводили в восторг слова Черняка. «Усохнешь!» – говорил Васька.
И еще помню, как к Черняку приезжала из Ленинграда маленькая грустная женщина, его жена, и он встречал ее словами: «Ты жива еще, моя стагушка?», а капитан Белоусов уступал им свою землянку. Женщина была на каблучках, и на этих же каблучках она стояла у гроба, когда в сорок втором, зимой, мы хоронили Черняка, а Батя ей говорил: «Замерзнешь ведь, дура, замерзнешь».
Вообще-то Батя был удивительно молчалив. То, что он проделал после той атаки под Лугой, нам рассказал Черняк. Эта история ходила потом как легенда, и я до сих пор не знаю, верить в нее или не верить, тем более что сам Батя относился к ней так, словно речь шла о другом человеке.
Ополченцы, захватив окопы, нашли немецкий миномет и несколько ящиков с минами. Не помню точно, то ли гранаты у наших кончились, а немцы готовили контратаку, то ли еще что, но пришла пора приняться за трофейное оружие. Стрелять из миномета не велика премудрость, но беда была в том, что в стволе торчала застрявшая мина. Стоило ударить по взрывателю рукой, и похоронная обеспечена. И вот тогда Батя подошел к миномету. Он постоял рядом с ним, посопел и вдруг лег на землю, задрал гимнастерку и оголил живот. Живот у Бати, надо прямо сказать, был толстый. Все вокруг залегли, а кто-то из самых отчаянных ребят, вроде нашего Васьки Зинченко, перевернул миномет, нацелил взрывателем в Батин живот и стал осторожно постукивать сверху, пока мина, скользнув, не тюкнулась по касательной в пузо. Тюкнула – и ничего. И все встали. И Батя встал. Оправил гимнастерку и пошел на свое место, словно только что забил гвоздь, который не забивался, или вытащил занозу, которая не вытаскивалась.
Это случилось тогда, когда Батя еще не был нашим Батей, потому что мы находились километрах в пятидесяти от него, под Невской Дубровкой, занимая самую неудачную позицию из всех возможных боевых позиций. Вспоминая сейчас время, прожитое батареей до Бати, я просто не понимаю, как уцелела от нас половина, как всех нас не перебили на той поляне.
Мы были кадровой частью. Шестьдесят солдат, четыре офицера и четыре пушки. Батарея зенитного полка. Еще до войны мы стояли лагерем на берегу Ладожского озера, а в первых числах сентября, когда немцы замкнули кольцо, наш полк бросили на передовую. Тогда и началась для нас настоящая война. Мы били и по самолетам, и по танкам, и по пехоте.
В первый бой мы ехали как на парад. В трехтонках. У каждого противогаз, каска на голове, винтовка между колен, ранец за плечами и лопатка на боку. И за нами – пушки. Наш командир капитан Баукин был крест-накрест перепоясан ремнями, а через плечо у него висел фонарь с аккумулятором. Мы казались сами себе очень сильными и мужественными, мы пели песни, и настроение было отличное. Наконец-то, мол, пришел и наш черед. Наконец-то мы им покажем. Мы боялись опоздать на фронт.
Нам было в среднем по девятнадцать лет, а молодость защищена от предчувствий. Помню, один только Федя Ковырин заплакал, когда объявили войну. Мы были убеждены, что его вызовут в особую часть, но его почему-то не вызвали. Он заплакал, а потом сел и написал домой с десяток писем, свернул их треугольничками и роздал нам. Он всегда регулярно писал домой письма. Длинные и обстоятельные. А эти были без дат. Даты мы должны были ставить сами. «В случае чего», – сказал Федя. Ему было тридцать лет, он успел повоевать на Халхин-Голе, и у него было трое детей. Он явно понимал что-то лучше нас, а мы еще не знали, как часто умирают на войне солдаты.
Не помню точно из-за чего, но сорок километров мы ехали ровно сутки. К вечеру нам попались первые раненые. Они шли оттуда, человек двадцать с сестрой впереди, одетой в телогрейку и вооруженной автоматом. По совести говоря, она одна имела более боевой вид, чем вся наша батарея. Ко мне подошел солдат с перевязанными руками и попросил закурить. «Сверни, – сказал он. – Послюнявь. Едете? Ну-ну…» Сквозь повязки сочилась кровь, но у солдата был странно спокойный вид. Потом мы увидели первые трупы. Я помню четырех ребят: они лежали у дороги лицом вниз, в одних гимнастерках и без сапог. У них были желтые пятки. Как раз в это время нам запретили курить, а петь мы перестали сами.
Выехали на опушку леса. Наступила ночь. Ни немцев, ни наших. Капитан Баукин при свете фонаря что-то сверил по карте, мы проехали еще с километр, а потом он скомандовал по уставу: «Ор-рудия к бою!» Позже мы выбирали позиции уже не по карте, а по возможностям укрыться и уцелеть.
Баукина мы не любили. Когда он говорил, у него, как у куклы, двигалась только нижняя челюсть. Отвалится – и на место. Отвалится – и на место. До нас он числился в штабе противовоздушной армии на какой-то канцелярской должности, а за год перед войной его прислали к нам командиром. Прежнего перевели с повышением в дивизион, кого-то – из дивизиона в полк, кого-то – из полка в армию, а кого-то в армии посадили. Такой получился круговорот.
Баукин пришел выбритый, выглаженный и строгий. Это было под вечер, мы сидели в ленинской комнате. Он принял рапорт дежурного, потом взял домру, побренчал на ней и спросил, кто умеет играть на гитаре. «Куликов», – сказали ребята, и Вадька Куликов встал. «Давайте сыграем дуэтом «Светит месяц», – предложил Баукин. Куликов помялся, а потом сказал, что весь день работал на кухне и хочет спать. Кто работал у нас на кухне, имел право спать и даже получал освобождение от стрельб: работа была адова. «Но «Светит месяц» вы играть умеете?» – спросил Баукин. Куликов, чтобы отвязаться, сказал, что не умеет, и пошел из ленинской комнаты. У Баукина отвалилась челюсть, и несколько секунд он не возвращал ее обратно. Потом встал по стойке смирно, побледнел и сказал: «Рядовой Куликов! Вернитесь! Возьмите гитару и играйте со мной дуэтом «Светит месяц»!» Мы сидели притихшие, поворачивали головы от одного к другому, а потом слушали, как они играют «Светит месяц»: Куликов на гитаре, а наш новый комбат на домре.
После этого случая Баукину уже ничто не могло помочь. Он проходил вместе с нами по сорок километров в день, лежал в грязи, таскал пушки и давал нам увольнительные в город, но «Светит месяц» оказался сильнее. Теперь я понимаю, что мы были не очень справедливы к нему, но так уж были тогда устроены.
Кроме домры, у Баукина была еще одна страсть. Он любил высшую школу верховой езды. У нас была единственная лошадь, старая белая кляча, которая едва таскала ноги. Старшина Борзых возил на ней воду. Борзых был заикой, но есть два типа заик – одни в себя, другие из себя, а Борзых был как раз из себя, и поэтому «Н-н-но!» получалось у него замечательно. Правда, к нему он почему-то добавлял: «Вперед и без оглядки!» Еще Борзых играл на баяне и пел песни. У него был бас, но пел он высоким тенором, чаще всего «Хаз-Булат удалой», особенно налегая голосом на то место, где «в ту ночь она мне отдалась». На белой лошади Баукин и занимался вольтижировкой. Под музыку. На полигоне. А мы ходили смотреть. Когда он садился на клячу, она вся преображалась, выгибала шею, поджимала живот и начинала гарцевать. Наверное, она служила когда-то в кавалерии и ей приятно было вспомнить молодость. А музыкой обеспечивал тот же Борзых. Баукин брал его на полигон, и Борзых на казенном баяне играл им «Амурские волны».
Я плохо говорю о Баукине, но он сам в этом виноват, а мы были слишком молоды, чтобы нам хватало доброты. Ведь Баукин тоже остался лежать там, куда нас привел.
Слева была дорога. Далеко позади лес. А мы оказались в чистом поле. Поставили орудия, отгоризонтовали их, понатыкали вокруг молодых деревьев, вроде бы создали рощу. И конечно, не окопались. На рассвете впереди замаячила кромка леса. Потом выяснилось, что лес был за немцами, они – ближе. Представляю себе их удивление: проснулись, сыграли на губной гармошке и вдруг увидели прямо перед собой рощу молодняка. Вечером ее не было, утром появилась.
И мы услышали: треск! треск! – сначала перед нами, а потом за спиной. Мы ничего не поняли, хотя сами были артиллеристами. Только Федя Ковырин сказал: «По нас бьют. Из минометов». И пошел к Баукину. Баукин в это время стоял на пригорке с биноклем у глаз. Рядом с ним, как на учениях, за синей больничной тумбочкой – даже тумбочку взяли с собой – сидела телефонистка Рая Сулимова. Я видел, как Федя почти подошел к Баукину, и в этот момент раздался особенно сильный сухой треск, и на том месте, где был Федя, возник огненный факел и тут же погас, а Феди просто не стало, он исчез навсегда, и в политотделе потом спорили, посылать ли жене похоронную или «пропал без вести». Куда в это время делся Баукин, мы не заметили. А у Раи Сулимовой вдруг стали вытягиваться губы, и на наших глазах она побелела. К ней подбежала Валька Козина и как-то очень буднично, по-домашнему затрясла ее за плечи: «Рая! Райка! Раечка!» Противно запахло порохом, но мне трудно объяснить, как именно, и это правду говорят, что кто не нюхал пороха, тот не поймет.
И буквально через минуту появились «юнкерсы», мы даже не успели ничего сообразить. Их было штук шестьдесят, они шли колонной и по очереди срывались в пике. Перед этим каждый самолет делал в воздухе горку, и это место на небе словно было для них обозначено. Мы все попадали кто куда, командиров не было видно, а замполит стоял на коленях с наганом в руке и водил головой, следя за самолетами, как будто за галками. Потом пропал и он. Мы лежали кучей, человек семь, нога к ноге. Справа от меня кто-то сильно задрожал, как только «юнкерсы» начали пикировать. Я чувствовал эту дрожь ногами и сам начинал дрожать, а от меня, как электричество, дрожь шла по ногам к остальным. Мой разум продолжал работать, мне было стыдно и за себя и за товарищей, но я ничего не мог поделать. И вот тогда поднялся сержант Лукшин, наш тихоня Колька Лукшин, командир второго расчета, и, как в кино, сказал: «Батарея, слушай мою команду!» Сколько я помню Лукшина, он никогда не повышал голоса, даже сейчас. И его просто никто не услышал. Кроме меня. Мы глупо стояли одни под бомбежкой в полный рост и не знали, что делать дальше. Потом Коля все же сообразил, бросился к пушке и стал ее сам заряжать. И тогда все ребята повскакали на ноги, и мы открыли такой бешеный огонь, что в тридцать минут расстреляли запас снарядов и даже то, что полагалось на самооборону.
Но тут без передышки налетел второй эшелон, и это было по-настоящему страшно. Когда лежишь на земле и ничего не делаешь, не подносишь снаряды, не кричишь: «Цель поймана!», не работаешь и не стреляешь, а только ждешь, и смотришь в небо, и видишь жуткие черные свастики, берет злоба и такой страх, ну такой звериный страх, что хочется выть по-собачьи. Я всеми силами вжимался в землю, а рядом со мной, в небольшой ячейке, как покойник в гробу, лежал на спине Никита Шлягин, и вдруг он спросил: «Как ты думаешь, здесь грибов много?» Я не сходил с ума, это я точно знаю, но я ответил, пожав плечами: «Одни опята, белых нет…»
Потом я увидел, как на том месте, где находится третий расчет, вдруг образовалась большая воронка и из нее высунулся согнутый ствол пушки. Мы называли этот расчет «птичьим» или «шесть с половиной», потому что в нем, как по заказу, собрались три Воробьевых, два Синицыных и «полтора Куликовых»: наш гитарист Вадька Куликов и командир орудия Сережа Кулик. Он единственный и остался в живых и, выскочив из воронки, закрыв руками голову, бросился через все поле назад, к лесу, и больше не вернулся. И мы решили о нем не вспоминать.
В разгар бомбежки к нам приполз офицер из соседнего полка. Он ползал между нами и кричал: «Где Баукин? Где командир?» Ему никто не отвечал, он психанул, вынул ТТ и стал орать: «Почему не стреляете?! Что значит «нет снарядов»?! Штыки есть?! Штыками надо!» Потом осекся, взглянув на наши орудия, а мы смотрели на него как на картонного.








